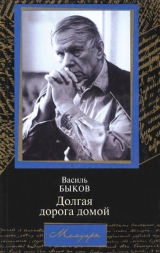
Текст книги "Долгая дорога домой"
Автор книги: Василь Быков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Я писал рассказы, всякий раз меняя темы: то брался за войну, то за молодежные проблемы. Один «молодежный» рассказ послал на фестивальный конкурс и получил первую премию по номинации прозы. Такую же премию получил тогда молодой начинающий писатель из Орши Владимир Короткевич. Некоторое время спустя мы бегло познакомились в Минске, но общих друзей у нас не было, и следующая встреча произошла нескоро. Естественно, я пробовал сотрудничать с «Чырвонай зменай», через которую, говорят, прошла вся молодая литература. Но рассказ, который я послал в «Чырвонку», жестоко раскритиковал работник редакции Иван Колесник, приехавший по какой-то своей надобности в Гродно. И я с ним, в общем, согласился. Зато рассказ на военную тему, предложенный газете «Літаратура i мастацтва», понравился заместителю главного редактора Роману Соболенко, который сказал, что эту тему мне стоит развивать и углублять. Окрыленный его советом, я довольно быстро написал небольшую повесть «Журавлиный крик», которая в скором времени была напечатана в «Маладосць» и вошла в мой первый сборник серьезной прозы. Этот сборник привез мне в Гродно заведующий отделом издательства Микола Татур, да еще с гостинцем – бутылкой армянского коньяка, который тогда можно было достать только по блату. Я почувствовал себя почти счастливым.
В редакцию «Гродненской правды» пришло горе – внезапно умер Михась Василек. Прощались с ним в Доме-музее Элизы Ожешко. Был теплый дождливый день, но несмотря на дождь народу собралось много. Теперь, когда Василек умер, оказалось, что гродненцы очень его любили, некоторые даже плакали, особенно пожилые люди, которые помнили поэта с польских времен.[187] Меня как члена СП перевели на должность, которую занимал Василек, и я перебрался из шумного секретариата в тихий отдел культуры. Это способствовало творчеству – свободного времени у меня стало больше.
Казалось, в стране оживилась вся литература – все жанры, второе дыхание приобретала военная проза. После книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда», «Волоколамского шоссе» А. Бека, повестей Э. Казакевича, одна из которых («Двое в степи», самая лучшая) была разгромлена партийной критикой, можно было думать, что тема войны исчерпана и никогда не возродится. Однако же возродилась и засверкала ярче, чем прежде, главным образом стараниями молодых авторов, представителей так называемой «лейтенантской прозы». Сперва это были Юрий Бондарев с его повестью «Батальоны просят огня» и Григорий Бакланов с «Пядью земли». В этих книгах, в общем, не было Бог весть каких открытий, но была правда и боль войны, та правда, от которой советское общество уже почти отвыкло. (Если когда-нибудь привыкало.)
Примерно в это же время мне довелось прочесть небольшую повесть Бакланова «Южнее главного удара», которая меня почти ошеломила. Дело в том, что автор подробно и правдиво описал там несколько моментов, хорошо знакомых мне по собственному опыту участия в боях под венгерским городом Секешфехерваром, где меня ранило. Я был удивлен, как простая правда войны становится высоким искусством, какие, оказывается, глубины таит в себе банальный кусок жизни. (Хотя война, конечно, не банальный кусок…) А прочитав в «Новом мире» баклановскую «Пядь земли», я отложил всё, над чем работал, и с жаром засел за «Третью ракету».
Завершить ее за весну мне не удалось, а в начале лета – опять военные сборы. Военный городок под Новогрудком, строй, занятия. Опять уставы, политучеба, артиллерийские премудрости, которые я старался забыть. Но там всё напомнят. И всё же я весь был во власти своей неоконченной повести.[188]
Наверное, ни одну вещь я не писал с такой одержимостью, как «Третью ракету», сам не знаю, почему. Бывало, как только начинался послеобеденный отдых и по обычному распорядку все шли спать, я бежал в тихий закуток солдатской курилки и там писал – карандашом в тетради. Ведь шариковых ручек тогда не было, технический прогресс нашу оргтехнику еще не затронул. Немалой проблемой была перепечатка написанного. Пишущие машинки были только в учреждениях, их использование строго контролировалось начальством учреждений и КГБ. На выходные и праздничные дни машинные бюро опечатывались. Приходилось как-то выкручиваться, пользоваться машинкой почти нелегально. И тут меня выручала Станислава Фаддеевна, а потом Ирина Михайловна, которая стала при этом первым и очень придирчивым критиком всего, мною написанного. Теперь я ей за это глубоко благодарен, а тогда, случалось, обижался.
Журнал «Маладосць», с которым я уже наладил постоянное сотрудничество, в скором времени напечатал «Третью ракету». Главный редактор Пимен Панченко сказал мне по этому поводу несколько добрых слов. Похвала, конечно же, поднимала настроение, побуждала писать еще и еще. На каком-то совещании ко мне подошел молодой ученый и начинающий прозаик Алесь Адамович, который поздравил меня с повестью, сказал, что она утверждает на страницах белорусских литературных изданий правду о войне. Я был благодарен за внимание и поддержку обоим – и Панченко, и Адамовичу. И тоже радовался тому, что в стране появляется новая литература с новым видением мира. В частности, прошлой войны.
Главной идейно-художественной особенностью этой литературы стало признание, что на войне нашим врагом был не только немецкий фашист, но и, так сказать, свой враг, внутренний, который был не лучше немца. Прежде этот враг представал в образе предателя, труса или дезертира, и только. Теперь стали появляться образы перестраховщиков, карьеристов, эгоистов. Лучшие произведения новой военной прозы показывали, что в наших собственных рядах бывала борьба, которая по остроте мало в чем уступала бою на передовой.[189]
В военной прозе впервые появился образ преступника-особиста, образ недотепы-политрука. Это было с энтузиазмом воспринято частью литературной критики, однако не всей. Партийная критика угрожающе прищурилась. Такого она терпеть не собиралась, она только ждала сигнала.
Хрущев своим ревизионизмом подкапывал традиционный фундамент советской культуры, замутил ее идеологическую стерильность. Даже позволил Твардовскому напечатать «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, эту рождественскую сказочку о лагерной жизни. Сперва надо было убрать Хрущева.
Как его убирали, теперь широко известно, – это был заговор членов политбюро, которые, когда Хрущев отдыхал в Пицунде, втайне от него собрали пленум ЦК, вызвали его на этот пленум и поставили перед фактом – он снят со всех постов. Но в политбюро обсуждались и другие способы. Тогдашний руководитель КГБ Семичастный потом писал, что разрабатывался план теракта в воздухе, когда Никита Сергеевич будет возвращаться из Египта. Этот вариант не был принят лишь потому, что могли погибнуть несколько десятков «ребят из КГБ» – охрана Хрущева.
Государственный корабль менял курс. Не было еще никаких постановлений на сей счет, а люди, близкие к коридорам власти, уже поняли, в каком направлении надо идти, и повыскакивали, чтобы не оказаться в хвосте. В Минск на должности главного редактора «ЛiМа» приехал выпускник ВПШ (высшей партийной школы при ЦК КПСС), партийный журналист Ничипор Пашкевич. Естественно, ему было невтерпеж проявить себя, засвидетельствовать партийный пыл, переоценить оцененное до него. Что-то не удовлетворяло его в последней повести Янки Брыля, но Брыль был лауреатом Государственной премии (в 52-м году, когда он ее получил, она называлась Сталинской), к тому же издал недавно звонкоголосый очерк «Сердце коммуниста». Очевидно, на роль мальчика для битья Брыль мало годился. Зато полностью подходил молодой прозаик из Гродно Василь Быков. И в скором времени в «ЛiМе» появилась огромная, на целый разворот статья под красноречивым названием «Герои или жертвы судьбы?».[190] Вопрос звучал чисто риторически. Еще не прочитав статью, можно было понять, что автор «Журавлиного крика» и «Третьей ракеты» – недоумок и неумеха, а его герои – жертвы и слюнтяи, с которых ни в коем случае нельзя брать пример. А если их образы созданы не для примера, то чему же можно у них поучиться? Почему не видно открытого осуждения автором его персонажей и их поступков?
Правда, были и другие мнения о повестях, неоднозначным было и отношении к статье Пашкевича. Некоторые писатели считали, что критика в принципе справедливая (нет в повестях героев, с которых можно брать пример), но не надо было бить автора обухом по голове. Тем более, такому критику, с таким громадным авторитетом, занимающему такой высокий пост. Вот если бы выступил кто-нибудь из молодых, с той же критикой, это было бы приемлемо!..
Алесь Адамович сказал при встрече: «Ты написал правду. Надо было еще злее. Ни в коем случае не уступай». Приехав в Гродно, доброе слово о моих повестях высказал мне Змитрок Бугаев. Поддержал меня и гродненский преподаватель Алексей Петкевич. Этого мне было достаточно.
Тем временем в Гродно образовалась целая группка писателей, членов Союза писателей БССР, и Гродненский обком партии вместе с минским писательским руководством решил создать областное отделение СП. Разумеется, для того чтобы удобней было нами руководить, влиять на нас, координировать и т. д. Нас всех пригласили в обком, и секретарем отделения предложили стать мне. Но я отказался в пользу Алексея Карпюка, который с надлежащим рвением взялся организовывать отделение. Первым делом он отвоевал для офиса зальчик в Доме Ожешко, обставил его мебелью. Затем стал хлопотать, чтобы писателей прикрепили к спецполиклинике. Это нам очень понравилось, и мы всячески поддерживали Карпюка. А он, приобретя соответствующий статус, стал забирать выше, вмешиваться в жизнь города, часто по самым разным делам ходил к обкомовскому начальству.[191]
Между тем слухи о моей повести и о том, что происходит вокруг нее, дошли до Москвы. Консультант СП СССР по белорусской литературе переводчик Михаил Горбачев прислал мне письмо, в котором написал о намерении перевести «Третью ракету» на русский язык и приглашал автора в гости. Я поехал. Миша Горбачев оказался милым человеком, фронтовиком, родом он был из Беларуси, из Сенно. Мы с ним вкусно пообедали шашлыками в ресторане «Казбек», затем еще и поужинали вместе в Доме литераторов. Миша сказал, что скоро закончит работу над переводом повести, что печататься она будет в «Дружбе народов», уже есть договоренность. Но есть, правда, и одна проблема – Иван Мележ, роман которого не окончен переводом. Мележ обиделся: как можно ради какой-то «повестушки» задерживать перевод его романа! «Но ничего, – сказал Горбачев, – Мележ подождет». (Мележ не стал ждать, а забрал роман и, не глядя на сделанное Горбачевым, передал его на перевод русскому поэту Д. Ковалеву.)
В скором времени после опубликования повести в «Дружбе народов» появилась и рецензия в «Литературке». Автором ее был Григорий Бакланов, что меня очень обрадовало. То, что рецензию написал он, не было случайностью – об этом позаботился мой новый друг Валентин Оскоцкий, с которым меня познакомил в Москве Алесь Адамович. Добрая эта дружба продолжается по сей день, – всё же, должно быть, легкая рука была у незабвенного Алеся Михайловича. Бакланов очень хорошо написал о повести, сделав только одно замечание насчет перевода, что, конечно же, не понравилось переводчику. Может, однако, тут была и моя вина, потому что перевод до опубликования был мною авторизован. Но я тогда недостаточно свободно владел русским литературным языком и не мог вытянуть текст на должный уровень. Опять же, чтобы хорошо перевести с белорусского на русский, необходимо, чтобы он был первым твоим языком. Иван Бунин когда-то писал, что родственные, «сопредельные» языки особенно тяжело поддаются переводу, потому что очень близки по своей природе и еще не утратили первозданной прелести,[192] чтобы войти в семью развитых окультуренных языков.
«Два языка знать невозможно», – категорически заявлял прославленный мастер русского литературного языка. Потом я не раз вспоминал эти его слова…
Белорусское партийное руководство в очередной раз бралось за подъем сельского хозяйства и собственного кинематографа.
На студию пришел новый директор, деятельный и тактичный Иосиф Дорский, белорусскими писателями Кулешовым и Лужаниным «укрепили» сценарный отдел. Обычно сценарии на студию поступали из Москвы – те, которые не находили применения в столице. Теперь решили поискать дома. Прежде всего в литературе. Кто-то посоветовал студии экранизировать новую повесть Быкова – почти готовый сценарий. Так сказали и мне. Надо только поработать с режиссером-постановщиком, которым уже назначен молодой выпускник ВГИКА Ричард Викторов. В тех же Королищевичах готовится семинар сценаристов, приедут специалисты из Москвы, там можно будет довести сценарий до лада. Я взял в редакции отпуск за свой счет и поехал в Минск.
Дело было для меня новое, опыта никакого. Но на студии было столько толковых специалистов, талантливых режиссеров, что только слушай и учись. Используя их советы и под руководством режиссера, написал нечто неудобоваримое в литературном смысле, что называлось сценарием, а больше напоминало сомнительный конспект прозаического произведения. Пошла длинная череда заседаний, обсуждений, консультаций, утверждений. Писалось и переписывалось – сначала в Минске, потом в Королищевичах. Тут советчиков прибавилось: приехал профессор ВГИКА Константин Скворцов, работник киноглавка Белова и другие. В другом конце королищанского здания работали несколько кинодокументалистов и среди них молодой журналист Микола Матуковский, создавали какой-то фильм.[193]
Несомненной пользой от того королищанского мероприятия была организация просмотра западных фильмов, которых не было в прокате, – «Веридианы» Бюнуэля, «Диктатора» Чаплина, «Детей райка» Рене Клера, японского фильма «Ришемон». А также некоторых советских фильмов 20-х годов, таких, как «Катька – бумажный ранет» и прочих. Эти фильмы ошеломляли наших кинодеятелей, которые не отваживались даже сравнивать с ними советскую кинопродукцию. Гости очень умно и эрудированно говорили о кино – нашем и зарубежном. Кино, говорили они, искусство коллективное, никакой самый гениальный художник в одиночку фильм не сделает. А поскольку это еще и дорого, а деньги государственные, то вполне естественно, что в этом деле участвуют, кроме студийного руководства, еще и Комитет по кино, Главный комитет в Москве, Союз кинематографистов. Ну и, разумеется, отдел культуры ЦК КПБ вместе с отделом пропаганды. И еще – политуправление военного округа, картина ведь о войне. Как-то мы подсчитали, что вмешиваться в кинопроцесс имеют право около шестидесяти человек, что-то запрещать, изменять, требовать. Чем, в общем, и занимались, потому что каждый хотел оправдать хлеб, который ел на своей хлебной должности. Пока длился подготовительный процесс, режиссер-постановщик исхудал и, похоже, начинал сходить с ума, не знал, на каком он свете. Автор сценария тоже. Простенькая сценка солдатского быта в окопе превращалась в предмет эстетико-политического диспута – как было, как надо, как не надо и что скажет начальство. Мы перестали считать написанные и отвергнутые варианты, остановились наконец на последнем, принятым условно. Лето кончалось, а вместе с ним могла уйти необходимая для картины натура, и группа выехала на съемки под Ветку, за Гомель.
Общими усилиями фильм был снят. Получился так себе, серенький середнячок. Снимался допотопной аппаратурой, на блеклую черно-белую пленку шосткинского производства. Зато во всех отношениях был правильный: героический, патриотический. С положительных героев можно было брать пример, отрицательные осуждались. Уже начав съемки,[194] режиссер решил поменять оператора, нового пригласил из Москвы. Может он был прав. Мое участие в съемках было минимальным. Викторов в самом начале сказал тактично и добродушно, как он это умел: «Ты, писатель, сядь и сиди. Свое ты сделал, остальное – мое дело». Этот разумный совет я запомнил, хотя позже не всегда ему следовал. О чем не раз жалел.
Как говорили тогда опытные киношники – фильм может снять и дурак, но дурак никогда его не сдаст. Это было правдой. Процесс сдачи фильма, может, более тяжелый, чем съемки. Уже потому хотя бы, что сдают два-три бесправных человека (режиссер, директор, сценарист), а принимают десятки чиновников, наделенных высокими полномочиями.
VI
[194]
Тягомотно, нервозно прошли через все белорусские инстанции (киностудия, минкульт, политотдел военного округа, ЦК) и повезли картину в Москву. Поскольку знали, что сдача фильма дело долгое и трудоемкое, устроились в самую дешевую гостиницу – на сельхозвыставке. Финансирование фильма было уже закрыто, деньги кончились. Дождались назначенного нам дня приема и отправились на знакомый каждому киношнику Большой Гнездниковский переулок, где находится киноглавк. Целый день шло обсуждение. Начальник главка, слоноподобный кинобюрократ Баскаков, выслушав все претензии к фильму со стороны своих придворных дам-придиралок, высоколобых специалистов, принять фильм отказался. Перенесли эту процедуру на следующий день, обязав режиссера что-то вырезать. Но на следующий день нашлись новые претензии. На третий то же самое. Командировочные наши кончались, жить в Москве было не на что. Тогда директор картины Тульман говорит режиссеру: «Звони в Минск, проси поддержки в ЦК. Ведь ЦК наш фильм одобрил, какого же рожна этим надо?» Викторов звонит в Минск, самому секретарю ЦК Шауро, говорит: «Вот ту сцену с немецким танком вы ведь одобрили? А тут какая-то Зусева возражает против нее, из-за этого фильм не принимают. Так как нам быть?».[195] Наступила небольшая пауза после которой товарищ Шауро говорит: «Товарищ Викторов, сделайте так, как советует товарищ Зусева».
Вынуждены были переделывать согласно указаниям товарищ Зусевой. Но что-то углядел сам Баскаков и приемный акт снова не подписал. Режиссер в панике – что делать? И тут один из его знакомых киношников-москвичей говорит: «Надо напоить Баскакова, тогда примет». Нам это показалось невероятным – как можно такое предлагать такому важному сановнику? Но пришлось. Викторов собрал всё, что оставалось у нас в карманах, и вечером отправился на Большой Гнездниковский. Мы остались ждать в гостинице. Ждали до ночи, не дождались и легли спать.
Утром постучались в номер Викторова, тот еще спал после вчерашнего. Не сразу проснулся, беззаботно потянулся и говорит: «О'кей, хлопцы, акт подписан. Едем домой…»
Так мы сдали наконец многострадальный фильм. На экранах он прошел малозаметно, и я думал, что за следующий сценарий возьмусь не скоро. Получилось, однако, немного иначе.
После выхода «Третьей ракеты» отдельной книжкой и особенно после издания ее в Москве, критика немного изменила оценки повести. Фильм, каким бы он ни был, всё же укрепил позиции литературного первоисточника. Автор, однако, почувствовал полное разочарование, очевидно, на это повлияли незабываемые муки кинотворчества. Тем более что следующая повесть, написанная в ключе предыдущей, приобрела еще большую остроту в социально-психологическом плане. Однажды в частном разговоре за столом мой ровесник Иван Науменко сказал, глядя мне в глаза: «Как писатель я лучше тебя, только ты умеешь заострять». Что ж, должно быть, доктор наук и академик был прав, действительно у меня получалось остро. Но после «Измены» я инстинктивно почувствовал потребность в чем-то более мягком, даже добром. Хотелось той доброты, которой так мало было в жизни и которая вряд ли встречалась на войне. А может, это была тоска по романтике? Той, разумеется, которая была навеяна книгами, прочитанными в юности, и несла с собой нежелательную в наше время сентиментальность.[195] Хотелось выделиться из жестокой толпы, где-то обособиться, там, где только он и она. Пусть себе в окопе. В лесу. Еще лучше – в горах. Или в дороге.
В дороге, видно, лучше всего, на фоне войны это наименее фальшиво. Потому что война – сплошная дорога. Туда или назад. Или в рай, или в ад. А еще более типично, если направятся в рай, а придут в ад. Тут уже не романтизм, а самый жестокий современный реализм. Их полное и органичное сочетание.
Начало творческого процесса в искусстве всегда таинственно, неуловимо, размыто, первые его импульсы появляются в подсознании, без участия воли и разума. «Творчество бессознательно», – писал когда-то англичанин Карлейль. Так и у меня незаметно вызрел замысел «Альпийской баллады». Там и впрямь – только он и она, оба гонимые и преследуемые при самых драматических обстоятельствах, где, однако, торжествует вечное проявление жизни – любовь. Известно, что любовь побеждает многое, бывает, даже смерть. Образ героини подсказал мне один случай на войне, тот же случай напомнил антураж событий – горы. Антураж полностью романтичный, начиная с названия гор – Альпы. Что до образа героя, то таких Иванов – как характеры – я знал хорошо, не одного Ивана видел на войне.
Определенные сложности были с речью девушки, этим конгломератом двух-трех языков, в которых главенством, конечно же, был итальянский. Итальянского я не знал, а проконсультироваться было не с кем. Но помог случай.
Алексей Карпюк в то время устроился на работу в агентство «Интурист», на железнодорожном вокзале у него был свой офис – крохотная комнатка на первом этаже. (В ту пору мы уже дружили.) Обычно Алексей сидел в своем офисе за пишущей машинкой, в очередной раз перепечатывал свои повести, на разговоры у него всегда не было времени. А тут вдруг позвонил, говорит – зайди. Я пришел и застал у него незнакомого человека с растерянным взглядом. Оказалось, что это итальянский турист, которого пограничники сняли с варшавского поезда, потому что у него не было паспорта. Что с ним делать дальше, никто не знал. Вспомнив, однако, о моей заботе, Карпюк мне и позвонил.
Прежде всего мы сводили итальянца в ресторан, накормили. Он немного говорил по-русски и рассказал нам, что потерял кошелек, в котором были паспорт и деньги. Пока пограничники решали, что делать с бедолагой, мы поселили его в маленькой привокзальной гостинице, где он маялся дня три или четыре. Звали его Марио, родом он был из Генуи, работал в области медицины. И пока он сидел в гостинице, я брал у него уроки итальянского, конечно, в том объеме, который требовался мне для моей героини, уже названной мною Джулией. (Имя, кстати, не совсем итальянское, но об этом я узнал потом.)
Через несколько дней нашлись документы итальянца, которые, как оказалось, были украдены у него в Ленинграде, и мы проводили гостя к варшавскому поезду. Итальянец обещал больше не соваться в страну, где такие рукастые воры. История эта, однако, некоторое время спустя получила своеобразное продолжение.
Сцены бегства героев и интимные сцены на альпийских лугах писались, в общем, легко, поэзия любви захватила бы даже черствого автора. Но на каких-то страницах я почувствовал, что одной поэзии будет мало. Всё же нельзя было, тем более на фоне драматического военного времени, исключить из сюжета социальные мотивы. Хотя Иван с Джулией и уединились в горах со своей любовью, война о них не забыла. А недавнее прошлое, предвоенные годы с их социально-политической драмой тоже оставалось в сознании Ивана. На почве прошлого и возник первый разлад между человеком с Востока и девушкой иной, западной культуры. Разлад, который мог быть улажен только любовью, что по сюжету потом и произошло. (Эти сцены, когда повесть готовилась к печати в Москве, вызвали наибольшее сопротивление редактуры.)
Повесть первым изданием вышла в «Маладосць», которая длительное время довольно внимательно относилась к моему творчеству. Чего нельзя сказать о журнале «Полымя»,[198] который был в те годы органом, предназначенным для номенклатурной писательской элиты. Но меня удовлетворяла и «Маладосць», хотя по возрасту я и перешагнул молодежные рамки. В ходе непременного тогда предварительного обсуждения повести на заседании редколлегии Пимен Панченко сказал: «Конечно, всё это – неправда, а верится. Значит, это – искусство».
Благожелательные отклики на повесть прислали многие читатели, обычно скупой на похвалу Янка Брыль, молодые писатели. Получил сердечное письмо из Зельвы, от мало кому известной тогда Ларисы Гениуш, она была восхищена моим Иваном, страдальцем и искренним белорусом, который своей жертвенностью спас западного человека. А ее муж, доктор Иван Петрович Гениуш, в скором времени посетил меня в Гродно, рассказав о своей и жены горькой судьбе. С тех пор он частенько бывал у меня, на улице Кошевого, приезжая в Гродно по своим врачебным делам. Работал он в Зельве дерматологом. Он нравился мне своей неподдельной белорусской искренностью. Из наших разговоров я узнал немало нового и даже неожиданного о жизни на оккупированной территории, под немцами, а также в Праге. Факты, которые приводил Гениуш, не очень соответствовали тем, которые мы усвоили из советской пропаганды. Рассказал, как после войны Гениушей «брали» в Праге, как Лариса Антоновна не открывала кагэбэшникам дверь и обещала выброситься в окно, а те натягивали внизу брезент, чтобы она не разбилась. Она очень нужна была им живая: они надеялись выпытать у нее, где находятся архивы последнего президента БНР Абрамчика…
Был еще один драматический эпизод в жизни Гениушей, который определил их судьбу. Здесь проявился Его Величество Случай. Правит ли он миром, как говорят французы, я не уверен, судьбой человека – несомненно. В моей жизни было немало судьбоносных случаев, но то, что случилось с Иваном Петровичем, поражает больше.
Иван Петрович – врач, врачебной практикой занимался и в Праге, был далек от политики, ею занималась жена, Лариса Антоновна. Но, естественно, будучи белорусом, он[199] состоял в белорусской общине, которая время от времени проводила свои собрания, вечера. Когда началась война, никто из белорусов не ратовал за Гитлера, но и уклониться от какой-то хотя бы символической поддержки было нельзя. И вот очередное собрание. Иван Петрович на него опоздал, пришел, когда все уже были в сборе. Хитрец Ермаченко, который стоял во главе общины, спросил: «А кто же будет председателем собрания?» И кто-то ему подсказал: «А вот же Гениуш, всё равно ему негде сесть, кроме как в президиуме!» А когда по инициативе Ермаченко собрание решило послать приветственную телеграмму Гитлеру, кто-то от имени собрания должен был ее подписать. Кто? Разумеется, председатель собрания!..
Иван Петрович рассказывал, что в ту минуту у него потемнело в глазах. И было отчего. Та пресловутая телеграмма после войны обошлась председателю собрания в восемь лет лагерей и до самой смерти на нем лежало клеймо прислужника Гитлера.
Гениушей отправили в Воркуту, где они отбыли весь восьмилетний срок, но архив не выдали. Говорят, что он и поныне хранится в надежном месте.
В Зельве Гениуши жили под неусыпным надзором КГБ и соседей. Не удивительно. Лариса Антоновна отказывалась принять советское гражданство и просила отпустить ее с мужем в Чехию. Сын Гениушей Юра, которого они разыскали, вернувшись из Воркуты, был польский подданный и жил в Белостоке, но родителям долго не разрешали его навестить. (После смерти родителей он погиб при загадочных обстоятельствах. Хорошо, что матери не суждено было узнать о гибели сына…) Так исчез некогда большой и славный род белорусских Гениушей.
Редакционные дела в ту пору не слишком меня донимали. Днем обычно принимал молодых поэтов с их стихами, писал ответы на «самотек», делал обзоры поступавших в редакцию литературных опусов. Раз в месяц или в квартал газета печатала литературную страницу, для которой надо было[200] подобрать дюжину стихов и один-два рассказа. Это было не трудно, в Гродно было немало способных молодых авторов. Со своим своеобразным голосом шла в литературу студентка Данута Бичель, неплохо писали ее товарищи Вл. Шурпа и Вл. Васько. В детском доме подрастала бойкая школьница Ольга Ипатова, на которую мы с Карпюком возлагали большие надежды. Иногда в редакцию заходил рассудительный минские аспирант Сергей Габрусевич, чьи стихи стали появляться и в республиканских газетах и журналах. В Новогрудке стал писать стихи собственный корреспондент «Гродненской правды» Валентин Блакит. Однажды принес неплохую подборку на русском языке преподаватель музыкального училища Валентин Чекин, с которым мы стали приятелями. Правда, докучали некоторые очень уж активные стихотворцы, особенно из числа отставников, недавних военных. Один из них, подполковник Е., каждый понедельник приносил два-три стихотворения, написанные им в выходные дни и приуроченные к определенным памятным датам следующей недели. Хорошо, что он не опаздывал их воспевать, но газета не могла реализовать всю его поэтическую продукцию, которая к тому же была не очень высокого качества. Часто я не знал, что ему сказать, все мои аргументы были давно исчерпаны. И однажды говорю: «Зачем вам печатать хорошие стихи в нашей провинциальной газете? Послали бы куда-нибудь в Москву!» – «А что, думаете, пройдет?» – «Обязательно!» – «И „Правде“ подойдут?» – «Подойдут!» Он забрал стихи и ушел, а я впервые вздохнул с облегчением – уж оттуда ему ответят! И как же я был удивлен, когда спустя непродолжительное время Е. принес мне «Правду» со своим стихотворением на первой полосе! У него был вид триумфатора. И он долго благодарил меня за совет. Однако новые его стихи в «Правде» не появлялись. К великому моему сожалению.
Вдруг возник момент, который снова угрожал переиначить мою судьбу, что, естественно, очень меня обеспокоило. Меня опять вызвали в военкомат и дали заполнить пространные, в несколько страниц анкеты. Да еще в шести экземплярах. Зачем – мне не сказали, но скоро до меня дошли слухи,[201] что офицеров-резервистов артиллерийского профиля собираются вновь призвать в армию, чтобы переучить их на ракетчиков. Из-за того, что в моих аттестациях были отмечены мои математические способности, я попал в число подлежащих призыву. Это мне совсем не понравилось, но что я мог поделать? Один наш журналист был знаком с офицером из военкомата, подполковником, человеком довольно милым. И мы пригласили его в ресторан. Любитель хорошо выпить, к чему пристрастился еще на войне, подполковник сочувственно отнесся к моей проблеме и спросил, нет ли у меня родственников за границей? За границей, к сожалению, у меня не было никого. Тогда он спросил: «Может, кто-нибудь из ваших родственников пропал во время войны без вести?» И я вспомнил двоюродного брата Миколу, о котором и написал в соответствующей графе анкеты: что мой брат Николай живет в Западной Германии. Этого было достаточно, чтобы от меня отцепились. (Пусть простит мне мой несчастный брат, в 19 лет сложивший свою голову на войне. Он мертв, но сделал доброе дело живому.)







