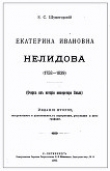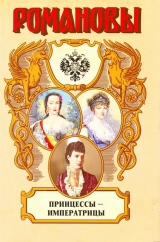
Текст книги "Принцессы-императрицы"
Автор книги: Валентина Григорян
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Мы живём очень тихо и скромно, никого не видим, так как нас не выпускают из имения, что весьма несносно. Ещё слава Богу, что я вместе с Ксенией и Ольгой и со всеми внуками, которые по очереди у меня обедают каждый день.
Мой новый внук Тихон нам всем принёс огромное счастье. Он растёт и толстеет с каждым днём и такой прелестный, удивительно любезен и спокоен. Отрадно видеть, как Ольга счастлива и наслаждается своим Беби, которого она так долго ждала. Они очень уютно живут над погребом. Она и Ксения каждое утро бывают у меня, и мы пьём какао, так как всегда голодны. Провизию так трудно достать, особенно белый хлеб и масло...
Понимаю, как тебе приятно прочесть твои старые письма и дневники, хотя эти воспоминания о счастливом прошлом возбуждают глубокую грусть в душе. Я даже этого утешения не имею, так как при обыске весною всё, всё похитили, все ваши письма, 3 дневника и пр. и пр. До сих пор не вернули, что возмутительно, и спрашивается, зачем?..
Сегодня, 22 ноября, день рождения дорогого Миши, кажется, живёт в городе. Дай Бог ему здоровья и счастья...
Шлю тебе самые горячие пожелания. Да хранит тебя Господь, да пошлёт тебе душевное спокойствие и не даст России погибнуть.
Крепко и нежно тебя люблю, Христос с вами, горячо любящая тебя твоя старая Мама́».
Между тем большевики, захватившие власть, жестоко расправились с сыновьями датской принцессы. Сначала они убили великого князя Михаила Александровича, запретив ему проживание в Гатчине, где он находился по разрешению Временного правительства, и выслав в Пермь. Некоторое время он содержался в тюрьме, затем ему было разрешено жить в гостинице. В центре был заду ман коварный план: инсценировать попытку побега и убить. В ночь на 13 июня Михаил был расстрелян вместе со своим секретарём, англичанином Николаем Джонсоном. Его казнь послужила прологом к расправе над другими Романовыми. 7 июля 1918 года был злодейски убит последний русский царь Николай Александрович. Сын Марии Фёдоровны, её пять внуков и невестка были казнены в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома, где их содержали.
К счастью, обо всех этих ужасных событиях вдовствующая императрица не знала. До неё доходили разные слухи, но она им не хотела верить. Переписка с родственниками в Дании подвергалась цензуре, так что Мария Фёдоровна оказалась в Крыму как бы в изоляции. К тому же она перенесла сильный бронхит. Во время одного из обысков, который производился глубокой ночью в её комнате с целью найти какие-либо компрометирующие материалы, она простудилась. В течение нескольких часов, отказавшись от предложения одеться с помощью женщины, помогавшей при обыске, она вынуждена была стоять в одной сорочке.
Однако вдовствующая императрица ни при каких обстоятельствах не теряла мужества. Во время одного из очередных обысков, когда она вынуждена была отвечать на нескончаемый ряд вопросов, и, в частности, «об имени и роде занятий», она как-то спросила с сарказмом, не нужны ли сведения о её комнатной болонке.
Датский королевский дом был обеспокоен положением принцессы Дагмары. Однако Министерство иностранных дел Дании на своё прошение относительно её выезда на родину не получило положительного ответа. Обращение к российским властям мотивировалось тем, что принцесса, ставшая после замужества членом другого правящего дома, отныне лишена своего титула. У неё отобрали все права, тем самым Россия сама де-факто отказалась воспринимать вдовствующую императрицу как царскую персону. Поэтому она должна получить возможность вернуться обратно в своё отечество. Ответ русского правительства был однозначным: Мария Фёдоровна должна сама лично обратиться с ходатайством о выезде.
Вдовствующая императрица не пожелала обращаться с просьбами к новым и, по её мнению, незаконным властителям страны, считая это ниже своего достоинства, особенно после пережитых унижений. Несмотря на огромное желание вернуться домой, в Данию, принцесса-императрица считала для себя унизительным просить о милости тех, кто виноват в крушении монархии и несчастьях всей её семьи.
С весны 1918 года вдовствующая императрица с двумя дочерьми и их семьями, уже просто как русская гражданка, проживала в имении Дюльбер, принадлежавшем великому князю Петру Николаевичу и расположенном неподалёку от Ай-Тодора. Ни денег, ни прочих средств к существованию у них практически уже не было, да и обстоятельства пребывания на вилле Дюльбер были критическими. Практически все находились под домашним арестом и ежедневно опасались за свою жизнь.
Представитель датского Красного Креста врач Карл Иммануил Кребс обратился к большевистским властям с просьбой дать возможность оказать поддержку датской принцессе, которая живёт в очень плохих условиях и «хотела бы иметь законное разрешение вернуться домой, в Данию». Необходимые для организации отъезда и путешествия деньги готов предоставить датский королевский дом.
Продукты и предметы первой необходимости семье вдовствующей императрицы датчанам доставить удалось, а вот вопрос о её возвращении на родину явно затягивался. Датский королевский дом и ближайшие родственники могли лишь довольствоваться перепиской с Марией Фёдоровной, которая в конце лета 1918 года переехала на находившуюся неподалёку от поместья Дюльбер виллу Харакс, которая принадлежала великому князю Георгию Михайловичу, брату её зятя. Крым .в то время уже был занят немцами, и положение царской семьи улучшилось, она находилась по крайней мере в безопасности. По словам навестившего Марию Фёдоровну финского курьера, она в то время была «относительно свободна» и жаловалась лишь на нехватку кофе и масла.
В начале октября 1918 года вдовствующей императрице удалось тайно переправить письмо датскому посланнику в Петроград. «Мы здесь в настоящий момент живём в покое и мире, всегда надеясь на лучшие времена и веря в милосердие Господа нашего, – писала она. – Мне было бы очень радостно, если бы Вы при случае написали мне и сообщили, что происходит и как вы живете. Это было уже так давно, когда я получила известия из дома, а от моей сестры в Англии я ничего не слышала с февраля. Так жестоко быть разлучённой со всеми и отрезанной ото всего остального мира!.. Дагмара».
Спустя месяц после отправки этого письма немцы покинули Крым: кайзеровская Германия больше не существовала. Теперь уже Великобритания выказала большой интерес к судьбе вдовствующей императрицы. Военный министр Уинстон Черчилль предложил отправить в Крым корабли английского военного флота, находившегося в Константинополе, чтобы эвакуировать мать русского царя и её близких, поскольку их жизни с уходом немцев может угрожать опасность.
Но Мария Фёдоровна пока не желала уезжать. Она была уверена, что её старший сын жив, и всё ещё надеялась увидеть его. Лишь только весной 1919 года мать последнего русского царя согласилась покинуть Россию. В апреле 1919 года вдовствующая императрица с маленькой собачкой на руках поднялась в Ялте на борт крейсера «Мальборо». Но ещё до того, как крейсер отплыл, Мария Фёдоровна потребовала, чтобы все другие корабли с беженцами тоже покинули гавань и вышли в море. До последней минуты она беспокоилась, что кого-то забудут на российском берегу.
Из Константинополя «Мальборо» взял курс на Мальту, а оттуда, уже на крейсере «Нельсон», Мария Фёдоровна направилась в Англию. 10 мая вдовствующая императрица была в Лондоне. На станции Виктория, куда она прибыла из порта Спитхэд по железной дороге, её встретили король Георг с королевой Марией и сестра Александра.
В английской столице вдова-императрица провела три месяца. В Данию она отправилась лишь 15 августа в сопровождении своего брата, принца Вальдемара. В Копенгагене дочь прежнего датского короля встречали Христиан X и члены его семьи. Не было ни салюта, ни флагов, ни других атрибутов торжественной церемонии. Правительство Дании явно дало знать, что уважение к династии Романовых не должно идти вразрез с политическими и экономическими интересами страны. И только русские эмигранты относились к ней как к царственной персоне.
Первые два года Мария Фёдоровна прожила в одном из флигелей королевского дворца Амалиенборг. Там же находились покои её племянника, короля Христиана X, который не скрывал неприязни к своим обездоленным родственникам.
В Дании Мария Фёдоровна стала неофициальной главой русской эмигрантской колонии, которая насчитывала более трёх тысяч человек. Многие обращались к ней за помощью, и она считала своим долгом удовлетворять просьбы. Всех эмигрантов она считала одной семьёй и никому не отказывала. При этом ей, как вспоминает дочь Ольга, «не приходило в голову, что средств едва хватает на то, чтобы содержать собственную семью». Некоторое время состоятельные друзья вдовствующей императрицы оказывали ей денежную поддержку, но вскоре этому пришёл конец, и она ощутила полное финансовое фиаско. А деньги требовались на содержание секретаря, казака, выполняющего роль охранника, придворной дамы и другой прислуги. У неё оставались лишь некоторые драгоценности, которые чудом удалось вывезти из России.
После того как королю Христиану X стало известно о бедственном положении его тётки, он заметил, что она могла бы продать свои драгоценности. В Амалиенборге она их больше не носила, разве что бриллиантовую брошь, которую подарил ей дорогой Александр в день их бракосочетания. Но расстаться с чем-либо из своих сокровищ вдовствующая императрица не желала.
Датское правительство, для которого бывшая принцесса Дагмара оставалась чужой вдовствующей императрицей, не хотело содержать её за счёт государственного бюджета. На помощь пришёл английский племянник, король Георг V, назначив «дорогой тётушке Минни» ежегодную ренту в десять тысяч фунтов стерлингов. Но при этом англичане определили отставного адмирала Андрупа управляющим делами Дагмары. Его роль, помимо прочего, состояла в том, чтобы ограничить большие денежные расходы и соразмерять их с теми средствами, которыми она располагает.
В ноябре 1922 года Мария Фёдоровна уехала в Англию, но летом следующего года вновь вернулась в Данию, где был организован сбор частных пожертвований, чтобы обеспечить её пребывание на родине. Поселилась она на вилле Видёре в окрестностях Копенгагена. Вилла была построена ещё при Христиане IX для своих дочерей. Там было достаточно места для императрицы и её свиты, и главное содержание виллы обходилось значительно дешевле, чем в Амалиенборге.
К финансированию проживания принцессы Дагмары подключились несколько крупных датских фирм. Но до конца своих дней бывшая императрица, в распоряжении которой в России были огромные средства, так и не смогла привыкнуть к своим скромным денежным возможностям.
Большой болью для Марии Фёдоровны оставалась судьба её сыновей и их семей. Она всю жизнь не переставала надеяться, что они живы. В 1924 году, узнав, что великий князь Кирилл Владимирович, кузен её Ники́, провозгласил себя русским императором в эмиграции, она отреагировала на это крайне болезненно. Она написала письмо в Париж великому князю Николаю Николаевичу, в котором выплеснула свою горечь:
«Моё сердце обливалось кровью, когда я читала манифест великого князя Кирилла, в котором он провозгласил себя царём Всея Руси. Ведь ещё вообще ничего не известно о судьбе моих горячо любимых сыновей и судьбе моего маленького внука.
Поэтому я рассматриваю любое появление нового царя как поспешность. Нет человека в мире, который мог бы погасить мой последний проблеск надежды...»
Такие настроения обуревали Марию Фёдоровну, несмотря на то что ещё в 1918 году в Дании стало известно о казни её сына. Датская королевская семья пришла в ужас, узнав о свершившемся преступлении, и, вероятно, сообщила об этом своей принцессе, находившейся в то время в Крыму. Сама же Мария Фёдоровна с момента, когда семью её сына перевезли из Тобольска в Екатеринбург, ничего не знала о них. Но до конца дней своих она отказывалась верить сообщениям о казни, была убеждена, что царская семья освобождена и находится где-то в безопасности.
Когда её племянник, датский король Христиан X, выразил ей в письме в октябре 1918 года соболезнование в связи с гибелью Николая II, она написала:
«Эти вызывающие ужас слухи о моём бедном любимом Ники́, слава Богу, всё же неправда, так как после многих недель ужасного напряжения, противоречивых сообщений и публикаций я уверена в том, что он и его семья освобождены и находятся в безопасном месте. Можешь представить себе то чувство благодарности Господу нашему, которое наполнило моё сердце.
От него самого я ничего не слышала с марта, когда они ещё были в Тобольске, поэтому ты можешь представить, какой кошмар я пережила за эти месяцы, хотя в глубине души и не оставляла надежды...»
Действительно, ещё много лет спустя после 1918 года ходила молва о том, что царь Николай II жив. И страдающее сердце матери верило этому!
Постоянно при матери находилась великая княгиня Ольга Александровна со своей семьёй. Она была для Марии Фёдоровны и медсестрой, и горничной, и секретарём. Её старшая сестра Ксения, муж которой, великий князь Александр Михайлович, остался жить во Франции, вскоре по приезде в Данию вместе с детьми перебралась в Англию. Для Марии Фёдоровны младшая дочь стала просто незаменимой. Вот только к зятю, полковнику Куликовскому, она до конца своих дней относилась подчёркнуто официально, считая его посторонним человеком. Когда к императрице приходили гости, то общение с ними разрешалось лишь дочери, её муж был не вхож в апартаменты своей тёщи. А если Марии Фёдоровне приходилось, хоть и очень редко, присутствовать на какой-либо встрече или приёме во дворце Амалиенборг, сопровождать её должна была только дочь.
В конце 1825 года скончалась любимая сестра Марии Фёдоровны, вдовствующая королева Александра. Эта смерть явилась страшным ударом для императрицы-принцессы. С её уходом из жизни она почувствовала себя как бы в пустом пространстве, отчаянию не было границ. Несмотря на многочисленные недомогания, Мария Фёдоровна стала отказываться от медицинской помощи, часто оставалась одна, рассматривая фотографии прошлых лет, проявляла беспокойство о своей шкатулке с драгоценностями, которую спрятала под кровать, думая, что за ней охотятся злоумышленники.
Родственники вдовы Александра III продолжали настаивать, чтобы она рассталась со своими сокровищами, стоимость которых ещё более возросла благодаря нескольким ювелирным изделиям, унаследованным ею от покойной сестры Александры.
В своём письме английский король Георг V рекомендовал своей «дорогой тётушке Минни» поместить драгоценности в банковский сейф в Лондоне. Однако Мария Фёдоровна упорно не хотела расстаться со шкатулкой. Она оставалась в спальне хозяйки до самой её смерти.
Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна скончалась 13 октября 1928 года на вилле Видёре. Около её постели находились дочери Ольга и Ксения со своим сыном Александром, приехавшая из Англии за неделю до этого. Присутствовал при уходе из жизни своей тёщи и полковник Куликовский с сыновьями.
О смерти принцессы Дагмары, бывшей императрицы великой державы, было написано на первых страницах всех датских газет.
Датский король Христиан X крайне неохотно дал согласие на торжественные похороны своей тёти. В последний раз на несколько дней вновь «ожили» блеск и величие императорской России. Были представлены все владетельные дома Европы, присутствовали и многие представители дома Романовых, а также русские эмигранты. Из Парижа прибыл глава Русской православной церкви за рубежом митрополит Евлогий.
Панихиду служили в церкви Александра Невского в Копенгагене. Церковь была полна русскими, которые пришли проститься с матерью их последнего царя. Люди стояли на коленях, держа в руках зажжённые свечи. Почётный караул лейб-гвардейцев и гусар двигался во главе шествия, когда гроб выносили из церкви. Печальному событию отдала должное и датская столица. Около ста тысяч копенгагенцев вышли на улицы. Витрины магазинов по пути шествия траурной процессии были задрапированы чёрным крепом. Повсюду были приспущены флаги. И только советская миссия в Копенгагене не выказала усопшей никаких знаков уважения.
Похороны состоялись 19 октября. Гроб, задрапированный пурпуром, покрытый национальным датским флагом, доставили поездом в Роскилл. Там, в кафедральном соборе, усыпальнице датских королей, Дагмара была погребена рядом со своими родителями.
Когда в 1988 году исполнилось шестьдесят лет со дня смерти вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, русские эмигранты пожелали отметить это событие. В крипту собора посторонние обычно не допускаются, но королева Маргрете по просьбе князя Димитрия Романовича Романова распорядилась разрешить русскую православную литургию в соборе.
Мария Фёдоровна не раз высказывала желание покоиться в русской земле рядом со своим незабвенным супругом императором Александром III. Несколько лет назад заговорили о возможном переносе праха матери последнего русского царя в Петербург для захоронения в Петропавловском соборе. К настоящему времени воссоединение любящих супругов свершилось.
А какова же судьба «волшебной шкатулки» вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны?
Дело было так.
На похороны вдовы российского императора в Копенгаген прибыл бывший русский министр финансов Питер Барк, который после революции поселился в Англии и являлся в то время административным директором Английского международного банка в Лондоне. Перед ним была поставлена цель – как можно быстрее заполучить и вывезти в Англию украшения Марии Фёдоровны, находившиеся в Видёре. Их намеревались продать с аукциона. В присутствии и с согласия старшей дочери Ксении шкатулку с драгоценностями запечатали и с особым курьером доставили в Лондон. Младшая дочь Ольга об этом узнала несколько позже от своей сестры.
Шесть месяцев спустя шкатулка была распечатана в Виндзорском замке. При этом присутствовали король Георг V, королева Мария и великая княгиня Ксения Александровна. Ольгу Александровну на эту церемонию не пригласили. «Мне дали понять, что меня это не касается, поскольку я замужем за человеком простого звания», – с горечью пишет она в своих мемуарах. Фирма «Хеннель и сыновья» произвела оценку ювелирных изделий. Их стоимость составила огромную сумму – полмиллиона фунтов стерлингов! Однако дочери получили от продажи этих драгоценностей немного и притом опять же не в равных пропорциях. Почему? Да всё по той же причине. Ксения была «дважды Романова», а Ольга состояла в морганатическом браке с полковником Куликовским.
История с разделом наследства матери проложила глубокую пропасть между сёстрами. Они практически перестали общаться. Ксения жила до конца своих дней в Лондоне. Ольга после нескольких лет проживания в Дании переехала с семьёй в Канаду, где и закончила свой жизненный путь. Умерли сёстры в один и тот же год – 1960-й.
После продажи русских драгоценностей в коллекции английской королевы Марии появились когда-то принадлежавшие супруге императора Александра III ювелирные изделия. В них она, а позднее и королева Елизавета II не раз появлялись на особо торжественных церемониях.
АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА
 мператрица Мария Фёдоровна тридцать четыре года прожила будучи вдовой. Из них двадцать три года она делила величие первой дамы России со своей невесткой, гессенской принцессой. Гессен – родина супруги Александра II Марии Александровны. Судьба распорядилась, чтобы ещё одна гессенская принцесса стала русской царицей и, пожалуй, самой спорной фигурой на российском престоле. О ней и написано больше всего, порой весьма противоречивого. Но, ознакомившись с огромным количеством страниц, посвящённых этой немецкой принцессе, невольно приходишь к мысли: многие авторы своё субъективное мнение зачастую выдают за объективную истину.
мператрица Мария Фёдоровна тридцать четыре года прожила будучи вдовой. Из них двадцать три года она делила величие первой дамы России со своей невесткой, гессенской принцессой. Гессен – родина супруги Александра II Марии Александровны. Судьба распорядилась, чтобы ещё одна гессенская принцесса стала русской царицей и, пожалуй, самой спорной фигурой на российском престоле. О ней и написано больше всего, порой весьма противоречивого. Но, ознакомившись с огромным количеством страниц, посвящённых этой немецкой принцессе, невольно приходишь к мысли: многие авторы своё субъективное мнение зачастую выдают за объективную истину.
Что же это за женщина, породившая вокруг себя так много различных толков и сплетен? Каким образом эта принцесса стала российской царицей? Как сложилась её жизнь вдали от родины? Какая судьба ей была уготована? Эти и многие другие вопросы найдут ответ в последующем повествовании.
Настоящее имя последней российской императрицы – Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса. Родилась она 6 июня 1872 года в старом немецком городе Дармштадте, расположенном у края широкой долины Рейна. Её отец, великий герцог Гессена Людвиг IV, считался мудрым правителем, хорошим военачальником и сердечным человеком. Он приходился племянником российской императрице Марии Александровне, но высоким родством не пользовался и не досаждал своей именитой тете и её царствующему супругу какими-либо просьбами. Женат герцог был на урождённой принцессе Великобритании и Ирландии Алисе, дочери многодетной английской королевы Виктории. В этом счастливом браке родилось семеро детей. Шестым ребёнком в семье и была Аликс, как звали её родители, прелестная белокурая девочка с лучезарными глазами и очаровательными ямочками на щеках.
Это была дружная культурная семья, в которой дети воспитывались без излишней роскоши и в должной строгости. Мать, хотя и вышла замуж за немецкого принца, оставалась по духу своему англичанкой. Свои комнаты во дворце она заполнила реликвиями, привезёнными из Англии, стены жилых помещений украсила портретами королевы Виктории и принца Альберта и картинами, на которых изображались сценки из английской жизни и старые британские замки.
Сознание долга, чувство чести, любовь к справедливости и преклонение перед Богом – таковы были основные нравственные принципы этой молодой женщины, которые она хотела привить своим детям. «Я воспитываю моих детей просто и слежу, чтобы не развить в них излишние потребности», – писала герцогиня в Англию своей матери-королеве.
Эрнст Людвиг, старший сын в семье, не раз потом будет вспоминать, что герцогиня-мать всегда была полна новых идей в воспитании своих детей и прилагала немало усилий, чтобы развить их кругозор, привить любовь к искусству и радость восприятия красоты природы, а главное, доброе отношение к ближнему. Например, на Рождество дети герцога должны были отдавать часть полученных ими подарков детям прислуги. «Преимущества своего рождения должны быть подкреплены делами», – не раз говорила английская принцесса своим дочерям и сыну, стараясь уже с раннего детства приучить их доставлять радость другим. Герцогиня часто брала детей в городские больницы и приюты, куда они обычно приносили свои игрушки и пакетики со сладостями.
Осенью 1878 года в Дармштадте вспыхнула эпидемия дифтерии. Не обошла она стороной и дворец герцога. Алиса сама ухаживала за детьми, ночи просиживала около них, переходя от одной постели к другой. Младшая её дочь, родившаяся двумя годами позже Аликс, вскоре скончалась, а спустя неделю заболела и умерла сама герцогиня, оставив своих детей сиротами. «Безоблачное счастливое детство, постоянный солнечный свет, а потом вдруг огромная чёрная туча» – так это событие запечатлелось в памяти шестилетней Аликс.
В своём завещании супруга гессенского герцога распорядилась: её дети по крайней мере один раз в два года должны приезжать в Англию, чтобы не терять связи со своими родными и сохранять любовь к отечеству своей матери.
Королева Виктория, глубоко опечаленная смертью дочери, как бы взяла на себя её материнские обязанности. Внукам она регулярно писала письма, подписываясь: «Ever your devoted Mama»[4]4
Всегда ваша любящая мама (англ.).
[Закрыть]; время от времени навещала их в Дармштадте, радовалась, когда дети приезжали к ней. Любовь и нежность к умершей дочери королева перенесла на своих осиротевших внуков, а к их отцу-герцогу стала относиться, как к родному сыну. Аликс, младшую в семье, бабушка взяла к себе в Англию, где гессенская принцесса и жила вплоть до своего замужества.
Сначала у Аликс была гувернантка, затем её воспитанием занялась Маргарет Джексон, высокообразованная англичанка, увлекающаяся политикой и философией. Она не только окружила девочку душевным теплом и заботой, но и сумела передать ей увлечённость этими предметами и убеждённость, что политика доступна не только мужчинам. В качестве примера Джексон называла её бабушку-королеву, которая, несмотря на свой преклонный возраст, оставалась одним из могущественных монархов в Европе. К своей воспитательнице гессенская принцесса, впоследствии ставшая российской императрицей, сохранила привязанность на всю жизнь. Она писала ей письма, обращаясь не иначе, как «Моя дорогая Мэджи», и подписываясь: «Твоя любящая крошка королева» – такое прозвище дала мисс Джексон своей любимице.
Внучка английский королевы обладала чуткой, впечатлительной натурой. Она с раннего детства полюбила чтение, отдавая предпочтение сказкам и небольшим рассказам. Впоследствии ей хотелось узнавать всё больше и больше из того, что знают молчаливые мудрецы-книги. Аликс с увлечением предалась изучению предметов, которые её интересовали, и уже в пятнадцать лет неплохо разбиралась в истории, географии, английской и немецкой литературе, даже в естественных науках и математике. Девушке казалось, что главная суть жизни человека – это учиться и учить других. Её в шутку стали называть принцессой-профессором. Во дворце бабушки дочь великого герцога Гессенского имела самые благоприятные условия для отличного образования и развития своих творческих возможностей. По мнению многих, Аликс была блестящей пианисткой и проявила способности к рисованию. Будучи немкой по рождению, гессенская принцесса по уму и сердцу с годами становилась истинной англичанкой. Её воспитание, образование, формирование сознания и морали стали совершенно английскими.
Шли годы. Три старшие сестры Аликс вышли замуж: Виктория за принца Баттенбергского, ставшего впоследствии адмиралом английского флота, Ирена за Генриха Прусского, брата будущего германского императора Вильгельма II, а Елизавет за великого князя Сергея Александровича, младшего брата российского императора Александра III.
Бракосочетание Эллы, как называли Елизабет в семье, с великим князем Сергеем состоялось в 1884 году. Благодаря браку своей сестры Аликс впервые познакомилась с Россией, приехав на свадьбу в эту неведомую для неё страну. Английские учителя и воспитатели мало рассказывали принцессе о далёкой России, а те общие сведения, которые она получила, рисовали картину полудикой страны, расположенной на огромной равнине и населённой отсталым нецивилизованным народом.
Многое изменилось во взглядах Аликс, когда она, двенадцатилетняя внучка английской королевы, приехала в Петербург. Милая робкая принцесса с золотыми волосами и солнечной улыбкой привлекла к себе внимание детей российского царя, в том числе и наследника престола, шестнадцатилетнего Николая, он даже в порыве особой симпатии подарил ей маленькую брошку, украшенную мелкими драгоценными камнями. Это было так неожиданно для Аликс, что она сначала не раздумывая приняла подарок, но затем, видимо, решила иначе. Во время танца с цесаревичем на детском балу в Аничковом дворце девочка вложила ему в руку завёрнутую в бумагу подаренную ей накануне брошку, чем крайне смутила и огорчила великого князя.
Так возникло начало отношений между будущими супругами. Встретились они вновь лишь пять лет спустя, когда Аликс во второй раз приехала в Петербург и вместе с сестрой Эллой, супругой великого князя Сергея Александровича, присутствовала на парадах, приёмах и балах. Аликс очень похорошела. Её уже считали интересной невестой: принцы, герцоги, маркизы не прочь были предложить ей руку и сердце.
Пылкие взгляды бросал на девушку и наследник российского престола, но о своих чувствах он пока ещё не решался говорить вслух.
В августе следующего года принцесса гостила у сестры в подмосковном имении великого князя Сергея Александровича. Элла была на восемь лет старше Аликс и, испытывая к ней почти материнские чувства, искренне заботилась о младшей в семье. Общение переросло во взаимную привязанность, да и мнение о России у девушки, выросшей в обстановке английского королевского двора, стало меняться. В этот свой приезд Аликс не пришлось встретиться с цесаревичем, но о его чувствах она уже догадывалась. Узнали об отношении наследника престола к гессенской принцессе и его родители. Радости по этому поводу они не проявили, считая гессенскую принцессу недостойной их сына. Им не нравилась её чрезмерная, как они полагали, гордость. Своей невесткой императорская чета хотела бы видеть принцессу Орлеанскую Елену, дочь графа Парижского, а не сестру великой княгини Елизаветы Фёдоровны (такое имя Элла получила при переходе в православие после своего брака с братом императора). Аликс в случае бракосочетания с цесаревичем тоже обязана была поменять свою веру и имя.
Пройдя конфирмацию в лютеранской церкви, принцесса Алиса восприняла протестантство в глубокой религиозности. Отвергнуть религию, которую она только что приняла, казалось ей оскорблением Бога.
Таким образом, для брака молодых людей имелись два непреодолимых препятствия. Цесаревичу Николаю предстояло сломить волю своих родителей, а Аликс переменить свою веру.
Но от судьбы, как говорится, не уйдёшь. Обе преграды были в конце концов устранены. Однако для этого потребовалось четыре года, и стоило это немалых усилий с обеих сторон.
Весной 1894 года в Кобурге состоялась свадьба брата Аликс, Эрнста Людвига, унаследовавшего титул своего отца, скончавшегося два года назад. Великий герцог Гессен-Дармштадтский женился на принцессе Саксен-Кобургской Виктории Мелите. На брачную церемонию съехались многие королевские семьи Европы. Прибыли в Кобург английская королева Виктория, которой к тому времени было уже семьдесят пять лет; германский кайзер Вильгельм II, её внук; цесаревич Николай Александрович в сопровождении братьев своего отца, императора Александра III.
Наследник российского престола наконец-то получил разрешение своих царственных родителей вступить в брак с гессенской принцессой. Он намеревался не откладывая сделать официальное предложение во время праздников по случаю бракосочетания её брата. Как полагали, болезнь Александра III вынудила его изменить своё первоначальное решение.
В тёплый апрельский день в Кобурге в присутствии многочисленных августейших родственников состоялась помолвка старшего сына императора России с внучкой английской королевы принцессой Гессен-Дармштадтской. И коль скоро это произошло, Александр III и его супруга прислали вежливое поздравление, а императрица Мария Фёдоровна даже написала сыну: «...Спроси у Аликс, какой камень она любит больше – сапфир или изумруд? Я хочу знать это на будущее...»
Что же побудило Алису Гессенскую, которой к тому времени исполнилось двадцать два года, дать своё согласие на предложение наследника российского престола? Ведь сомнения в возможности перемены религии принцессу всё ещё не оставляли. Была ли это искренняя любовь к молодому цесаревичу, ради которой девушка готова была отказаться от своих убеждений, или же ею руководило желание стать со временем первой дамой в огромной Российской империи?