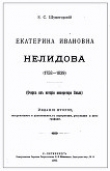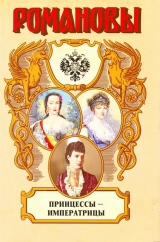
Текст книги "Принцессы-императрицы"
Автор книги: Валентина Григорян
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
Летнюю обитель семьи Александра Фёдоровна украсила картинами известного французского живописца Ладюрнера, который в то время жил в Петербурге. Его мастерская находилась в Эрмитаже – императорская чета иногда посещала её. Из Франции художника выписала Александра Фёдоровна. Она восхищалась его пейзажами и камерными произведениями. Вильгельм Адольф Ладюрнер написал также серию батальных сцен из русской истории. Некоторые его работы были вывешены в Петергофе. В России Ладюрнер жил до конца своей жизни. Умер в 1855 году и был похоронен в Петербурге на Смоленском Евангелическом кладбище. На его могиле надпись: «Художник Его Императорского Величества и Президент Академии художеств».
День рождения Александры Фёдоровны, 1 июля, обычно отмечали в Петергофе. По этому случаю помимо приглашённых гостей сюда приезжали из Петербурга сотни людей, чтобы посмотреть иллюминацию и игру воды в фонтанах, полюбоваться живописным фейерверком и увидеть царскую семью. Сама именинница выходила на балкон и приветствовала собравшийся народ. Затем давали торжественный обед, на который приглашались лишь самые близкие люди, вечером принимались поздравления дипломатического корпуса. День рождения жены Николай I всегда превращал в большой праздник.
В середине августа императорская семья вновь переезжала в Царское Село. Здесь была своя прелесть. Прямо со своего балкона Александра Фёдоровна могла спуститься по лестнице в парк, а в хорошую погоду просто посидеть на ступеньках, любуясь открывающимся перед ней прекрасным видом. Вечером под её балконом обычно играл военный оркестр, причём некоторые марши являлись сочинениями самого императора. Чтобы послушать музыку, в парке собирались люди и из соседних дач.
В Петербург все перебирались обычно в конце октября или начале ноября. Сначала жили в Аничковом дворце. Светская жизнь в столице в это время бурлила: бесконечные приёмы, балы, маскарады и прочие увеселения. Как отмечают современники, на торжественных приёмах, в беседах с посланниками, на парадах царь и царица оставались монархами. Но в развлечениях, на балах, маскарадах они превращались в обычных людей, которым не было чуждо ничто человеческое. Обожали кататься с горок на санках, до упаду кружиться в вальсе, танцевать полонезы и мазурки, участвовать в салонных играх. Александра Фёдоровна была особой поклонницей маскарадов. Переодевшись в карнавальный костюм, она, никем не узнанная, веселилась, растворившись в пёстрой толпе. Естественна, непринуждённа, свободна от фальши придворного этикета. А незаметно следующие за ней жандармы трепетали от страха за императрицу.
Когда начиналась пора предрождественских празднеств, царская семья переселялась в Зимний дворец. В сочельник все вместе собирались у нарядной ёлки. Обычай украшать ёлку в Рождество пришёл в Россию из Пруссии по желанию Александры Фёдоровны. Она устраивала праздник для своих детей, на который приглашала также детей своей свиты. Сначала государь и его дети садились каждый за свой стол с небольшой ёлочкой, украшенной разными подарками, приготовленными самой императрицей. Затем вся семья выходила в другую залу, где стоял большой длинный стол с разными фарфоровыми изделиями. Детям вручались подарки в соответствии с их возрастом, после чего разыгрывалась лотерея между придворными. Николай I обычно выкрикивал номер, выигравший подходил к Александре Фёдоровне и получал подарок – выигрыш из её рук.
С годами здоровье Александры Фёдоровны стало ухудшаться, всё чаще у неё появлялись боли в груди и мучительный кашель. Иногда супруге Николая I настолько нездоровилось, что она не могла присутствовать на придворных торжествах и праздниках. Следить за её здоровьем вызвали молодого берлинского врача Мандта, который упорно настаивал на том, чтобы императрица провела некоторое время в Крыму: сухой климат должен был подействовать благотворно. Послушавшись совета доктора, Александра Фёдоровна вместе со старшей дочерью Марией в 1837 году провела некоторое время в Алуште в имении князя Воронцова. Крымский воздух явно пошёл ей на пользу, и она стала забывать о своих недугах.
Здесь же, в Крыму, восемнадцатилетняя Мария познакомилась с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, своим будущим супругом, присутствовавшим на манёврах русских войск, он был вторым сыном пасынка Наполеона, герцога Евгения Богарне, и баварской принцессы Августы. После падения Наполеона Евгений нашёл приют у своего тестя Максимилиана I, короля Баварии, пожаловавшего зятю княжество Эйхштадтское с титулом герцога Лейхтенбергского. Сын герцога в свои двадцать лет отличался необыкновенными способностями и широкой эрудицией и по вечерам частенько бывал у российской императрицы. Своим умом и весёлостью он снискал расположение матери и любовь дочери, симпатичной белокурой девушки с небесно-голубыми глазами и нежным цветом лица.
В Петербург императрица, сопровождаемая своим супругом, возвращалась через Москву. Она настолько окрепла, что могла вместе с государем посещать заведения, наносить визиты местной знати. Бывшая российская столица значительно изменилась со дня её последнего приезда по случаю коронации. Москва разрослась, обустроилась, похорошела. Да и осень в том году была тёплой и сухой. В Петербург с его влажным климатом, пронизывающим ветром и частыми дождями уезжать не торопились. Вернулись лишь незадолго до Рождества. И здесь Александру Фёдоровну ожидало несчастье, оставившее глубокий след в её душе и негативно подействовавшее на состояние её здоровья.
Когда императорская чета была в театре, в Зимнем дворце вспыхнул пожар. Государю сообщили об этом немедленно. Оставив супругу в ложе и не сказав ей о происшествии, он тотчас поскакал к месту пожара, отдав распоряжение музыкальные номера спектакля повторять до тех пор, пока он не возвратится с пожара. Прибыв в Зимний, Николай I приказал прежде всего вынести своих полусонных детей и перевезти их в Аничков дворец. Императрица узнала о пожаре, когда всё кончилось. В страшном волнении она сразу же отправилась ко дворцу. Её глазам предстали дымящиеся стены с зияющими отверстиями окон и дверей и почерневшие громадные статуи, торчавшие вдоль сгоревшей крыши. «Какое несчастье посетило ваше величество!» – воскликнула одна из придворных дам. «Какое счастье, – отвечала императрица, – что спасены дети, что никто не погиб! Будем прежде всего благодарить Бога за его милости в несчастии и покоримся Его святой воле».
Ущерб от пожара, к счастью, был не очень велик, даже царская библиотека не слишком пострадала. Однако всё случившееся вызвало нервное расстройство матери, ведь её дети были в опасности...
У неё опять часто стала трястись голова. Эта нервная болезнь возникла ещё в конце 1825 года в связи с декабрьскими событиями в Петербурге. Дрожь была еле заметна; она проходила, когда императрица была спокойна, но как только её начинало что-то мучить, морально или физически, недуг появлялся снова.
Зиму Александра Фёдоровна провела в Петербурге вместе с семьёй, следила за ростом и успехами своих детей, охотно занималась с ними. Немало времени проводила за чтением своих любимых исторических книг или за фортепьяно. Музыка отвлекала от грустных дум. Но между тем здоровье ухудшалось. Весной, по рекомендации врачей, императрица выехала за границу. Муж и дети сопровождали её. В столице Пруссии царской семье был оказан торжественный приём. Императору Николаю было присвоено звание почётного гражданина Берлина. В ответ на это он приказал выстроить на улице – Унтер дён Линден – большой дом для русского посольства, домовладельцем которого он становился, и подарил городу значительную сумму денег. На них построили затем больницу, названную в его честь Николаевской.
Несколько недель императрица провела на юге Германии, от тихой, спокойной жизни и более тёплого климата здоровье её заметно поправлялось. Как когда-то она сама, её младшая дочь, тринадцатилетняя Александра, очень любившая цветы, собирала букеты из полевых цветов и с радостью дарила их своей матушке или музицировала с ней в четыре руки, подпевая своим ещё неокрепшим детским голосом.
На обратном пути ехали через Мюнхен, где сделали небольшую остановку. Там вновь состоялось свидание между великой княжной Марией и Максимилианом Лейхтенбергским. Чувство взаимной симпатии, которое зародилось ещё в Крыму, к тому времени уже окрепло, и на весну 1839 года было назначено бракосочетание.
Свадьба старшей дочери императора Николая I была торжественно отпразднована в Петербурге. Герцог Лейхтенбергский переехал на постоянное жительство в российскую столицу, получил чин генерал-адъютанта и титул императорского высочества. Спустя некоторое время немецким архитектором Штакеншнейдером для новобрачных был построен отдельный дворец – Лейхтенбергский, или Мариинский. Сам супруг великой княгини, отныне герцогини, осуществлял надзор за строительными работами. Позже в газете «Иллюстрация» так писали об этом дворце: «Внутренность дворца отделана с необыкновенным вкусом и роскошью. В великолепных комнатах собраны драгоценные произведения искусства, редкости и много исторических вещей, принадлежавших Наполеону I и императрице Жозефине. Внутри дворца есть зимний сад, роскошно освещаемый во время балов; большой летний сад выходит на Вознесенский проспект, от которого отделён высокой стеной».
Александра Фёдоровна не скрывала свою грусть – её дочь вылетела из гнезда родителей, стала жить своим домом. «Приближается конец счастливейшего периода моей жизни как супруги и как матери, – говорила она своим приближённым. – Как я утрачиваю с годами здоровье и силу молодости, так, кажется, оставляет меня и семейное счастье».
Её дочь Мария первые годы была счастлива в супружеской жизни. В семье родилось семеро детей – три дочери и четыре сына, как и у самой Александры Фёдоровны. Первый мальчик, названный в честь отца Николаем, появился на свет в 1843 году.
Максимилиан Лейхтенбергский, человек разносторонне образованный, был назначен президентом Академии художеств и главным управителем Горного института. И в том и в другом звании он принёс много пользы для России. Однако судьбой этому удивительному человеку было определено лишь тридцать пять лет жизни. В 1852 году старшая дочь императрицы стала вдовой и заняла место президента Академии художеств, как бы продолжая дело мужа. Этому способствовали её блестящий ум и разносторонний художественный вкус.
После смерти герцога Максимилиана великая княгиня Мария Николаевна вступила в морганатический брак с графом Григорием Александровичем Строгановым, представителем купеческого рода, известного своим меценатством и благотворительностью. В высшем свете Петербурга его считали ценителем красоты и знатоком искусства. Венчание состоялось в ноябре 1854 года в домовой церкви Мариинского дворца втайне от отца. О смелом шаге Марии знали лишь её братья Александр и Константин. Матери сообщили об этом лишь после смерти императора Николая I, который, узнай об этом, пришёл бы в страшное негодование. Своё второе замужество великая княгиня Мария Николаевна вынуждена была скрывать от всех до конца своей жизни. Официально этот брак так и не был признан.
В мае 1840 года императрица Александра Фёдоровна получила сообщение о болезни своего семидесятилетнего отца. Она сильно встревожилась: год 1840-й казался прусской принцессе роковым в немецкой истории, она его воспринимала не как простое число. В 1640 году в Бранденбургском курфюрстве вступил в правление Фридрих Вильгельм, вошедший в историю как «великий курфюрст» и считавшийся основателем Прусского государства. В 1740 году к власти пришёл ещё один великий человек – король Фридрих II, прозванный «философом на троне» и считавшийся замечательным полководцем. И вот сейчас было опасение новой перемены на прусском престоле.
Александра Фёдоровна поспешила в Берлин, к постели любимого отца. Фридрих Вильгельм был уже очень слаб, но приезду дочери чрезвычайно обрадовался. Правда, когда вслед за ней несколькими днями позже приехал и супруг его Шарлотты, король своего зятя уже не узнал. Он скончался в ту же ночь.
Эта смерть глубоко опечалила Александру Фёдоровну. Врачи предписали ей курортное лечение для восстановления сил. С небольшой свитой императрица выехала в Эмс, где провела около трёх месяцев. В царской семье в это время произошло ещё одно событие, но на этот раз радостное. Во время своего путешествия по странам Европы с образовательной целью Александр, наследник престола, познакомился с дочерью герцога Гессенского Людовика II, красивой и хорошо воспитанной девушкой, которой едва исполнилось пятнадцать лет. Цесаревич безумно влюбился и немедленно написал своим родителям письмо, в котором умолял позволить ему жениться на Максимилиане Марии – так звали юную принцессу. Николай I не торопился с согласием, в то время как его супруга была вполне довольна выбором своего старшего сына. Ведь дармштадтский двор не был чужд русскому императорскому дому. Первая жена императора Павла I была из этого рода, да и собственная бабушка Шарлотты, мать короля Фридриха Вильгельма III, была гессенской принцессой.
Осенью Александра Фёдоровна возвратилась в Петербург вместе с дочерью гессенского герцога, уже объявленной невестой цесаревича. Предполагалось, что за шесть месяцев до намеченной свадьбы Максимилиана Мария должна подготовиться к своей новой роли и несколько адаптироваться в новой обстановке. Таким образом, ещё одна немецкая принцесса предназначалась для российского трона, но о ней подробно речь пойдёт в следующей главе.
В Петербурге был в разгаре музыкальный сезон. Российскую столицу посетил Ференц Лист, его концерты имели огромный успех. Бывала на них и императорская семья. А на музыкальные вечера к императрице приглашался сам Михаил Глинка. Он уже был знаменит благодаря своей опере «Жизнь за царя», симфоническим произведениям и романсам. Принимали композитора всегда очень приветливо, с удовольствием слушая его сочинения на русские темы. Императрица Александра и сама часто садилась за фортепьяно и с удовольствием аккомпанировала мужу – он любил иногда петь народные песни. Часто музицировали все вместе. Для царской семьи порой специально сочиняли инструментальные пьесы, а императору при этом предназначалась партия на трубе. Приглашавшийся на такие вечера композитор А.Ф. Львов вспоминал потом, что во время репетиций Николай I часто уводил его к себе в кабинет. Там Львов должен был играть на скрипке его партию. Внимательно прослушав два или три раза, император возвращался к супруге и играл без ошибок.
Большой интерес Александра Фёдоровна проявляла и к русской литературе. В её салоне часто появлялись известные писатели и поэты. Бывал там несколько раз и Михаил Лермонтов, он читал свои лирические стихи, играл на скрипке и фортепьяно. По желанию хозяйки салона читали вслух и «Демона». Вопреки мнению светских дам Александра Фёдоровна находила Лермонтова очень симпатичным человеком. С большим интересом она прочитала и его роман «Герой нашего времени», причём сделала это, запёршись в спальне, чтобы не увидел муж. У императора отношение к молодому поэту, прославившемуся своим острым языком и резкими выпадами против самодержавия, было однозначно негативным. Он резко отозвался о Печорине, герое лермонтовского романа, и сослал автора на Кавказ: пусть, мол, прочистит себе голову под пулями. Узнав о смерти Лермонтова, Александра Фёдоровна написала Софье Бобринской: «Вздыхаю о Лермонтове, о его разбитой лире, о русской литературе; он мог бы быть выдающейся звездой». В тот же день она подарила своей старшей дочери Марии хранившиеся у неё две книги Лермонтова.
Любила Александра Фёдоровна и Николая Гоголя. «Он очень загадочен», – говорила она.
Появлялся в качестве гостя царского семейства и Василий Жуковский. Он уже завершил свои обязанности по воспитанию наследника престола, но оставался другом семьи. В 1841 году поэт написал императрице в своём письме такие строки: «Оканчиваю письмо моё повторением моей глубочайшей благодарности перед Вами, Всемилостивейшая государыня, за все благотворения, коими так щедро осыпали меня в прошедшем. Одним из главнейших из сих благотворений почитаю возможность, которую Вы даровали мне, чтобы узнать близко Вашу высокую душу. Это знание всегда было и навсегда останется моим любезным сокровищем».
Любопытна дальнейшая судьба замечательного человека и поэта. Женившись в 1841 году на дочери своего друга, немецкого художника Генриха фон Ройтерна, он поселился во Франкфурте-на-Майне, где прожил со своей семьёй семь лет. В связи с бурными политическими событиями, разразившимися в Западной Европе в 1848 году, Жуковский переехал с женой и двумя маленькими детьми в Баден-Баден. Там прошли последние четыре года его жизни. Здоровье ухудшалось, сдавали глаза, но бывший наставник старшего сына российского императора ещё творил и получил известность в Германии переводами Шиллера, в которых сумел воплотить своё удивительное поэтическое дарование. Трёх лет он не доживёт до того момента, когда его воспитанник займёт царский престол. Поэт скончался в возрасте шестидесяти девяти лет и был сначала похоронен в Баден-Бадене, а затем его останки перевезли в Петербург – таково было желание благодарного ему ученика, Александра II. А на баденском доме, где пробил его смертный час, и сейчас висит памятная доска с надписью на немецком языке: «Здесь жил и скончался русский поэт и переводчик Василий Жуковский».
Увлеклась императрица и русской историей. Она захотела, чтобы для неё был прочитан курс истории России. На прослушивание она приглашала всех своих близких. Интересовало её и всё, что издавалось за границей касательно Российской империи.
В 1843 году с письмом к Александре Фёдоровне от её брата, короля Фридриха Вильгельма IV, в Петербург приехал барон Гакстгаузен. Он получил от неё значительную сумму на перевод и издание своего труда о России, в котором было собрано много важных наблюдений над различными явлениями жизни русских людей того времени. Позже император Вильгельм I, сменивший на прусском престоле своего старшего брата, после смерти сестры, Александры Фёдоровны, поручил Гримму, бывшему воспитателю великого князя Константина Николаевича, написать биографию своей сестры. Книга вышла в свет в 1866 году. Гримм не знал русского языка, но на немецком создал великолепное жизнеописание принцессы Шарлотты.
Но вернёмся к царской семье. Помимо музыкальных вечеров и литературных чтений большое внимание уделялось и театру. Почти каждое воскресенье посещали Эрмитажный театр, там давались оперы, водевили и балеты. Лож в театре не было, кроме небольших – под амфитеатром, поэтому императорская чета вместе с детьми сидела в партере. По соседству занимали кресла и другие члены романовской фамилии, а также высшие сановники и иностранные послы. По сторонам и по ступеням лестницы, ведущей к партеру, стояли камер-пажи в красочной униформе.
В первый месяц каждого нового года в царские покои Зимнего дворца обычно был открыт доступ для любого прилично одетого человека. Желающему пройти во дворец выдавался билет, который у него отбирали у двери для подсчёта общего числа посетителей. Этой возможностью пользовались очень многие. А семья царя большую часть зимнего сезона проводила в своём любимом Аничковом дворце. Почти еженедельно в белой гостиной дворца императорская чета давала бал, на который приглашалось не более ста персон. «Государыня была ещё хороша, – писал современник. – Прекрасные её плечи и руки были ещё пышные и полные, и при свечах, танцуя на балу, она ещё затмевала первых красавиц».
Летом 1842 года император Николай I и его супруга в узком семейном кругу отпраздновали серебряную свадьбу. По этому случаю в Петербург прибыл прусский король Фридрих Вильгельм IV, старший брат Александры Фёдоровны. В России он не был с 1818 года, когда приезжал вместе с отцом по случаю рождения племянника, первенца сестры. Сейчас у неё было уже семеро детей и двадцатипятилетний стаж замужества. Конечно, годы наложили на принцессу свой отпечаток, но кого они щадят? Дочери её были очень хороши собой, но только младшая, Александра, похожа на мать и одновременно на бабушку, королеву Луизу. Уже с детства великая княжна Александра несколько отличалась от своих старших сестёр: она могла искренне восторгаться красотами природы, нежно нашёптывать цветам свои мысли, слушать журчание воды фонтанов или шум морского прибоя в Петергофе. Нередко её можно было видеть на берегу озера: лебеди подплывали к берегу, чтобы получить из её рук корм.
Великая княжна Александра обладала замечательным голосом. Она занималась пением под руководством итальянца Соливи и делала заметные успехи. Родители не скрывали своей гордости редкими способностями дочери и не раз просили её появиться перед избранной публикой, чтобы усладить присутствующих своим чудесным голосом. Однако после занятий пением с великой княжной итальянский маэстро заметил, что голос её стал меняться – что-то нарушало ритм дыхания. Он высказал опасение относительно здоровья девушки, заподозрив болезненное состояние лёгких. Но этому не придали должного значения.
Середину лета следующего 1843 года царская семья, как обычно, провела в Петергофе. Здесь несколько недель гостил принц Гессен-Кассельский Фридрих Вильгельм, сын ландграфа Вильгельма, наследника датского престола. Младшая дочь императрицы очаровала его не только своим чудесным голосом, но и богатством необыкновенно тонкой души. Он сделал ей предложение и получил согласие девушки. Не возражали и родители Александры, хотя знали, что жить ей придётся в Дании. С этой страной до сих пор Россия не имела близких родственных связей. Бракосочетание назначили на январь. Молодым людям пришлось на время расстаться. Когда же принц приехал в Петербург незадолго до свадьбы, он заметил резкую перемену в своей невесте – на её лице появилась болезненная бледность, часто она кашляла. Но это не явилось причиной, чтобы откладывать венчание.
В один день было устроено сразу две свадьбы: великой княжны Александры с гессенским принцем и дочери великого князя Михаила Павловича, младшего брата императора, Елизаветы. Племянница Николая I выходила замуж за герцога Насаусского. Тысячи приглашённых гостей собрались на это торжество. Многих поразил болезненный вид младшей дочери государя.
После свадьбы Адольф, герцог Насаусский, уехал с молодой женой к себе на родину, а Александра с мужем поселилась в Зимнем дворце. Её состояние стало быстро ухудшаться. Молодых перевели в Аничков дворец, чтобы дочь была поближе к матери. Императрица была крайне обеспокоена болезнью своей дорогой Александры, ожидавшей ребёнка. К ней были приставлены врачи, по словам которых никакой серьёзной опасности не было. Отзыв врачей несколько успокоил родителей. Царь выехал в Лондон, не думая ни о чём плохом. Однако сердце матери предчувствовало худшее. Неделей позже она созвала консилиум и по обрывкам латинских фраз, которые доктора употребили в её присутствии, угадала, что спасения нет. Чахотка быстро прогрессировала. Императрица срочно послала в Лондон курьеров. Государь незамедлительно выехал в Петербург. Великая княгиня находилась в это время в Царском Селе. Из морского плавания возвратился и великий князь Константин, с этим братом у Александры была особая близость. Слушая его рассказы о только что виденном Копенгагене, предназначаемом ей для жизни, она, казалось, немного ожила, на лице появилась слабая улыбка. 28 июля Александра разрешилась от бремени. Она родила сына, который умер через два дня. А на следующее утро за новорождённым последовала и его мать. «Будьте счастливы», – произнесла она, засыпая вечным сном, обращаясь к страдающим родителям, склонившимся над ней. Умеющий себя сдерживать Николай I плакал, не стесняясь слёз. Смерть дочери он считал наказанием свыше за кровь, пролитую в год её рождения – 1825-й.
2 августа 1844 года на улицах Петербурга состоялось печальное шествие. Не было ни торжественности, ни особых почестей. По главным улицам столицы в закрытом ландо везли преждевременно скончавшуюся княгиню. В память о великой княгине Александре в Петербурге была открыта Александрийская женская клиника, а в Царском Селе, где прошли последние её дни, возвели памятник в виде часовни со статуей великой княгини с ребёнком на руках.
Годом позже вдали от России скончалась и племянница императора Елизавета Насаусская, вставшая под венец в один день с царской дочерью. Словно мечом рока были снесены эти две молодые жизни. И той и другой девушке исполнилось лишь девятнадцать лет.
После похорон царская семья переехала в Гатчину, где царило полное уединение. Приёмы были прекращены, визиты стали чрезвычайно редкими. Весь Петербург сочувствовал горю царской семьи: в городе приостановились все увеселения без всякого на то приказания свыше.
Прошёл год. Здоровье безутешной матери настолько ухудшилось, что доктора стали считать её состояние опасным и настойчиво рекомендовали уехать в Крым или за границу. Но Крым, где климат подошёл бы для здоровья императрицы, Николаем был отвергнут. Там не было дворца, где могла бы жить его супруга, да и дороги были очень плохими.! Решили остановиться на Италии, выбрали Палермо, причём не сам город, а близлежащую виллу, принадлежавшую княгине Бутера, урождённой Шаховской. Вместе с матерью выехала и дочь Ольга. Разместились на вилле, достаточно вместительной, и даже с печами, что было для Италии редкостью. Небольшой двор поселился в примыкающих соседних строениях.
Король Неаполитанский заботился о том, чтобы высокую гостью из России никто не беспокоил в её резиденции. Из округи удалили всех нищих и бродяг, полиции поручили бдительный надзор за местностью.
Распорядок дня государыни определялся её врачами: в восемь часов утра она вставала и прогуливалась по саду, в котором было много цветов и редких растений. Затем там же накрывался стол для завтрака. Некоторое время Александра Фёдоровна проводила в кабинете, писала письма, читала, в основном книги об Италии и Сицилии, слушала последние новости – их сообщал барон Мейндорф, бывший посланник в Берлине, сопровождавший императрицу в путешествии. После обеда она непременно отдыхала, а по вечерам часа на два у неё собирался двор. Когда после лёгкого ужина Александра Фёдоровна отходила ко сну, всё вокруг замирало.
Через несколько недель императрица почувствовала себя значительно лучше. Она поправилась настолько, что могла вновь надеть любимые браслеты, которые в Петербурге буквально спадали с её рук. Она уже могла принимать гостей. На некоторое время к ней приехала её сестра, вдовствующая герцогиня Мекленбург-Шверинская. Несколько недель провёл наследный принц Вюртемберга Карл Фридрих Александр, который давно мечтал познакомиться с дочерью императрицы, о её красоте он был много наслышан. Великая княжна Ольга действительно была неотразимо красива. Высокая, стройная, с большими ясными глазами, обрамленными длинными пушистыми ресницами, она была как бы женской копией своего красавца-отца. Рассказывали, что как-то во время прогулки, протиснувшись через толпу людей, желавших посмотреть на гостей из России, к девушке близко подошёл какой-то человек. На вопрос, что ему нужно, он ответил: «Я художник и хочу видеть вблизи первую красоту в мире». И, обращаясь к Ольге, сказал: «Хоть на одно мгновение задержите на мне свой взгляд, и я за него отдам половину моей жизни!»
Неудивительно, что Карл Фридрих Александр, познакомившись с дочерью российского императора, был так очарован, что немедленно попросил её руки.
На этот брак последовало согласие со стороны как родителей невесты, так и жениха. Венчание состоялось спустя несколько месяцев. Через восемнадцать лет дочь прусской принцессы, внучка Марии Фёдоровны, принцессы из Вюртемберга, станет королевой Вюртембергской. Семейная жизнь этой дочери российского императора Николая I сложится вполне благополучно.
Навестил больную мать и великий князь Константин, находившийся в плавании по Средиземному морю. Он много рассказывал о древних городах, которые посещал, о нравах и обычаях людей, там проживающих, всячески стараясь отвлечь матушку от грустных мыслей. Он же распорядился, чтобы оркестр российской флотилии играл в саду итальянской виллы национальные мелодии. Всё это весьма благотворно действовало на Александру Фёдоровну.
Со временем она стала вести всё более подвижный образ жизни. При хорошей погоде выезжала в близлежащие окрестности, несколько раз появлялась на балах, которые местная аристократия устраивала в честь высокой гостьи из России. Ранней весной во время народного гулянья съездила в Палермо. Поддавшись общему праздничному настроению, российская императрица бросала в народ конфеты, цветы, а беднякам распорядилась выдать значительную сумму денег.
Четыре месяца прожила Александра Фёдоровна на вилле. В память о «волшебном уголке», как она назвала это место, по её распоряжению в Петербург было отправлено несколько апельсиновых деревьев.
Достаточно окрепнув, супруга Николая I решила совершить длительную поездку по Италии. Своё путешествие она начала с Неаполя. Везувий, древние руины Помпеев произвели на неё сильное впечатление. Однако, по всей вероятности, она ещё была слаба для столь сильных эмоций и вновь слегла. Врачей настолько встревожило состояние императрицы, что ей предписали полный покой, допуская лишь самых близких, и то минут на пятнадцать, не более. Болезнь продолжалась около двух недель, но всё обошлось благополучно, и Александра Фёдоровна смогла продолжить своё путешествие. На этот раз она поплыла на российском корабле «Камчатка» к северу Италии. На несколько дней была сделана остановка во Флоренции. Сам великий герцог Леопольд II был гидом российской императрицы по картинной галерее Питти; полотнами замечательных итальянских мастеров она могла любоваться часами. Александра Фёдоровна сожалела лишь, что рядом с ней не было её обожаемого супруга.
Шесть месяцев Александра Фёдоровна находилась вдали от Петербурга. Так долго она ещё никогда не отсутствовала. Очевидцы утверждали, что хотя внешне её супруг не скрывал своей грусти от разлуки с женой, но в одиночестве не оставался. Болезнь жены не замедлила расстроить идиллию семейной жизни, связав её лишь идеей долга. Император был увлечён фрейлиной Варварой Нелидовой, и при дворе стали считать её официальной фавориткой государя. Но всё это было как бы молча, про себя, поскольку отношения между Николаем I и фрейлиной были прикрыты с внешней стороны самыми строгими приличиями. В глазах общества и общей морали их можно было оправдать. Да и посмел бы кто-либо осуждать государя?