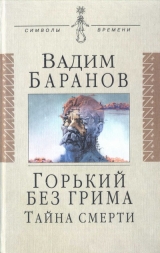
Текст книги "Горький без грима. Тайна смерти"
Автор книги: Вадим Баранов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц)
28 июня 1921 года Ленин писал наркому продовольствия И. Теодоровичу: «От Горького поступил проект „Комиссии помощи голодающим“.
Возьмите у Рыкова через ¼ часа, когда он прочтет.
Завтра в Политбюро решим. Созвонитесь с Молотовым, чтобы завтра Вам дать 5 минут. Мне лично кажется, что можно соединить наш и горьковский проект».
Обратим внимание, с какой стремительностью двигалось дело: «¼ часа», «5 минут», «завтра».
И действительно, на другой день, 29 июня, Политбюро в принципе одобрило горьковский проект, а 21 июля ВЦИК принял постановление учредить «Всероссийский комитет помощи голодающим в целях борьбы с голодом и другими последствиями неурожая». Это непомерно громоздкое наименование очень быстро превратилось в быту в сокращенное «Помгол» (в духе времени).
Комитет имел весьма широкие полномочия на местах, а также своих представителей за рубежом. Стать почетным председателем комитета дал согласие Короленко, о котором еще в 1918 г. Горький сказал: в великой работе строения новой России «найдет должную оценку прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем». (Увы, драматическая судьба Помгола ускорила уход Короленко из жизни в декабре 1921 года.)
Чтобы понять характер этого уникального учреждения, вспомним, каков был его состав. Председатель – Л. Каменев. Вошли в комитет и другие члены правительства: А. Рыков, Л. Красин, А. Луначарский, И. Теодорович, М. Литвинов (всего 12 человек). Наряду с ними в Помголе была широко представлена научная и культурная общественность (академики, писатели, артисты). Важно, что сочли возможным ввести в состав организации людей, в недалеком прошлом являвшихся видными представителями таких партий, как кадеты (С. Прокопович, Н. Кутлер, Ф. Головин, Н. Кишкин), эсеры (Е. Кускова).
Подобного рода союз многим в пору торжества политической конфронтации мог показаться неожиданным и даже противоестественным, и потому официальная печать поспешила заверить, что советская власть отлично понимает подлинное, оппозиционное умонастроение общественных деятелей подобного рода, но «приветствует гуманные тенденции и не боится задних мыслей» (К. Радек).
Однако очень скоро ход событий показал, сколь обоснованными являются слова, будто бы власти не боятся «задних мыслей» в сознании интеллигенции. Интересные материалы на этот счет содержатся в книге воспоминаний «Москва» известного русского прозаика Б. Зайцева, выпущенной в 1960 году в Мюнхене.
Мемуарные свидетельства Зайцева, посвященные сложным событиям в общественной жизни страны, отличает ровный, спокойный тон, в них совершенно не чувствуется какой-либо обиды, не говоря уже об озлобленности или предвзятости (в отличие, к примеру, от желчных, часто крайне односторонних характеристик людей и событий, которые содержатся в воспоминаниях Бунина).
Примечательна, к примеру, в изображении Зайцева фигура Каменева, возглавившего Помгол, как чиновника, державшегося вполне корректно, достаточно либерального (он запретил издание чекистского бюллетеня, содержавшего призывы к пыткам во время допросов). Каменев с вниманием относился к просьбам об освобождении арестованных писателей и других представителей интеллигенции…
Зайцев рисует выразительную картину той внутренней напряженности, которая возникла в умонастроениях интеллигенции сразу с момента образования комитета. «На другой день уже весь город знал о комитете. Тогда еще считалось, что „они“ вот-вот падут. Поэтому комитет мгновенно разрисовали. Было целое течение, считавшее, что это – в замаскированном виде – будущее правительство. Другие ругали нас, среди них С. П. Мельгунов, за „соглашательство“: ведь мы должны были работать под покровительством Льва Борисовича (Каменева. – В.Б.)… На следующий день в газетах нас превозносили (очевидно, уже считали „своими“), а нашими именами уязвляли непошедших. Газеты эти были расклеены… Я наткнулся на такую „стенгазету“. Вокруг нее куча читателей. Безрадостно увидал я свое имя рядом с Максимом Горьким. Мрачный тип, прочитав, фукнул и сказал: „Персональный список идиотов“».
Зайцев подчеркивает особую трудность положения Прокоповича и Кусковой: «Все это они затеяли, предстояло найти линию и достойную, и осуществимую». Очень быстро обнаружилось, однако, что подобная цель недостижима…
Впрочем, на первых порах деятельность комитета оказалась достаточно эффективной. России большую помощь оказали международный Красный крест, во главе которого стоял Фритьоф Нансен, американская благотворительная организация АРА.
Но социальное размежевание по принципу «мы» и «они» чувствовалось в работе комитета во всем. «„Наших“, – пишет Зайцев, – было числом гораздо больше: профессора, статистики, агрономы, общественные деятели – вроде парламента». Вот это-то «вроде парламента», т. е. органа, могущего претендовать на реальную власть, в первую очередь и не устраивало большевиков. Неприемлемость для руководства ориентаций комитета предельно обнажилась после того, как «мы» начали настаивать, «чтобы была послана в Европу делегация от комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места». Когда же осуществление подобного вполне разумного требования «общественности» было предъявлено как непременное условие дальнейшей деятельности комитета, он был немедленно распущен. Его ликвидировали по требованию Ленина, в категорической форме выраженному в письме на имя Сталина и всех членов Политбюро от 26 августа 1921 года.
Мало того, что Помгол распустили. Многих деятельных членов комитета, таких, как Прокопович, Кускова, Кишкин, тот же Зайцев, Осоргин и др., арестовали.
Для Горького все это было ударом колоссальной силы. Кускова, с которой он познакомился еще в Нижнем 90-х годов, вспоминает: узнав о готовящемся аресте, Горький поспешил к ней, чтоб предупредить о беде… На нем лица не было: ведь его могли счесть за провокатора, который заманил в ловушку людей, решивших в бедственной ситуации помочь своему народу, встав выше политических амбиций. А их арестовывают, причем над некоторыми возникла реальная угроза расстрела.
А Горький? Он оставался на свободе!
Горький знал, что Ленин и другие из его окружения называли комитет уничижительно «кукиш». По первому слогу от фамилий: Кускова, Кишкин. И вот теперь с самым настоящим кукишем, да еще каким, остается он, Горький!
Писатель все силы приложил к тому, чтобы члены комитета были освобождены. А в целом история Помгола убедила его, что художнику не преодолеть деспотизм политики, жесткое размежевание по принципу «или-или», не достичь того, что станет утверждаться в России как плюрализм лишь через годы и десятилетия.
Горький понял, что дальнейший диалог с руководством не сулит благоприятных результатов. 16 октября 1921 года он выезжает в Германию.
Мысленно восстанавливая вскоре недавние драматические события, Горький не мог пройти мимо ленинского письмеца, написанного 9 августа, в разгар борьбы вокруг Помгола. В нем вождь упорно настаивал, чтобы Горький выехал за границу. «…У Вас кровохарканье, и Вы не едете! Это ей же ей и бессовестно и нерационально.
В Европе в хорошем санатории будете и лечиться и втрое больше дела делать… А у нас ни лечения, ни дела – одна суетня. Зряшная суетня.
Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас. Ваш Ленин».
Что значит «втрое больше делать дела»? Какого? И что – помощь умирающим от голода россиянам – тоже зряшная суетня?
Теперь, в октябре, покидая родину, Горький отлично понимал, что ленинское настояние о выезде именно тогда было не случайно. Вождь стремился изо всех сил отделить Горького от Помгола, прежде чем окончательно разгромить его…
ГЛАВА IV
«В роли противника всех и всего», или Вне политики
Прожив месяц в Берлине, в пансионе Штеллингера, на Аусбургерштрасс, 47, Горький вместе с сыном Максимом, его женой Н. Пешковой и А. Пинкевичем отправляется в Шварцвальд, где поселяется 4 декабря 1921 года в санатории, в дачной местности Санкт-Блазиен. Здесь и застало его страшное известие: 25 октября скончался Владимир Галактионович Короленко…
Весть эта потрясла Горького не намного меньше, чем в свое время весть об уходе Льва Толстого. Тогда он рыдал воистину как ребенок. А потом сам удивлялся: ведь Толстой-проповедник был совершенно чужд ему. «Не противься злу насилием», – учил один. «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться», – смолоду упрямо утверждал другой. С момента знакомства тяга к гению неизменно сочеталась с чувством духовного отталкивания. Совсем иное дело – Короленко. Смерть его всколыхнула целый рой дорогих сердцу воспоминаний. Возникло необоримое желание написать о нем.
Потребовались его письма. И тотчас Горький бомбит своих корреспондентов в России просьбами. 12 января 1922 года – А. Пинкевичу: срочно пойти в Государственную библиотеку, снять там копии писем Короленко и послать в Берлин, Гржебину. В тот же день – И. Ладыжникову: «Очень прошу Вас о следующем: в чемодане писем, отправленном в Дрезденский банк, есть пакет писем Короленко. Будьте добры взять этот пакет, снять с писем точные копии и передать их З. Гржебину»…
…Нижний Новгород, конец века. Сюда, на Канатную, в непритязательный двухэтажный дом, похожий на многие другие, пришел к маститому писателю начинающий литератор. Так началось знакомство, длившееся более четверти века. Об этом и напишет Горький вскоре в очерках «В. Г. Короленко» и «Время Короленко».
Но творческая мысль раздваивалась. Неумолимое и драматическое настоящее постоянно вторгалось в воспоминания о молодости. А из писем Короленко, которые были так нужны, естественно, в памяти оживали полученные совсем недавно. Особенно те два, что были написаны – одно, большое, в ночь на 9 августа 1921 года, а второе, краткое, вдогонку, на другой день. Ими Короленко откликнулся на призыв Горького написать обращение к Европе о помощи голодающей России.
Память лихорадочно выхватывала из писем Короленко самое важное.
…История сыграла над Россией очень скверную шутку… Прежний режим был слеп и не замечал со своей «диктатурой дворянства», что он растит только слепую вражду…
…Но что из этого вышло? Лишенный политического смысла народ тотчас же подчинился первому, кто взял палку. Это были коммунисты. Они удовлетворяли долго назревавшей вражде и этим овладели настроением народа…
…Нужно было внушить, что богачи и есть прежде всего бандиты. Все как будто столкнулось так, чтобы породить голод: самые трудоспособные элементы народа, самые разумные и знающие сельское хозяйство преследовались и убивались…
…Мой вывод, к которому я пришел с несомненностью: настоящий голод не стихийный. Он порождение излишней торопливости: нарушен естественный порядок труда, вызваны вперед худшие элементы, самые нетрудоспособные…
…От этой системы раскулачивания надо решительно отказаться. Нужна организация разумного кредита, а для кредита нужна зажиточность, а не равнение. Иначе сказать, нужно отказаться от внезапного коммунизма…
…Нужно вернуться к свободе… Прежде всего к свободе торговли. Затем к свободе печати, свободе мнения…
…Я, как и Уэльс, думаю, что если нынешнее правительство не будет вследствие голода постигнуто каким-нибудь катаклизмом, то ему суждено вывести Россию из нынешнего тупика…
Большевики довели народ на край пропасти. Но мы видели и деникинцев и Врангеля. Они слишком тяготели к помещикам и царизму. А это еще хуже. Это значило бы ввергнуть страну в маразм. Но обращение к свободе есть условие, без которого я не мыслю даже первых шагов выхода…
А как кончалось второе письмо? Эти-то слова он запомнил наизусть, перечитывая много раз, ошеломленно, со смешанным чувством восторга за огромное доверие, выраженное ему, и непомерной тяжести, взваливаемой на его плечи. «Слышал, что Вы уезжаете за границу. Желаю Вам от души успеха. Сделайте предварительно все, что можете, чтобы изменить систему. Иначе ничего не выйдет. А теперь еще раз желаю всяческого успеха. Россия погибает».
Звучал в короленковских словах затаенный мотив: я делаю все, что могу. Уезжать никуда не собираюсь. Но дней моих остается совсем мало.
Однако глубже всего, гвоздем, засела в сознание идея: надо изменить систему. Ничего себе, задачка! По силам ли она вообще одному человеку? Но главное в другом: художник ли должен заниматься изменением политических систем? И вскоре, в 1923 году, организуя журнал «Беседа», Горький станет настойчиво подчеркивать: журнал вне политики. Точно так же, как А. Толстой, приступая весной 1922 года к редактированию в Берлине литературного приложения к газете «Накануне».
В литературоведении так оценят потом, в 60-е годы, горьковскую «Беседу»: «…Горькому не удалось полностью осуществить все свои замыслы, связанные с „Беседой“, и, в частности, передать на ее страницах подлинное дыхание жизни Советской страны, показать ее основных героев. Дело в том, что в основу „Беседы“ лег ложный принцип аполитичного издания. Недостатки „Беседы“ были настолько серьезны, что в Советском Союзе она не получила распространения, не встретила ни сочувствия, ни поддержки».
Понимая неизбежность подобных характеристик-клише в ту пору, когда горьковедение было предельно идеологизировано, мы тем не менее отчетливо ощущаем сейчас исходную недостаточность подобных пассажей.
Было бы нелепо, однако, бросаться в обратную крайность и начисто отрицать всякую связь искусства и политики. Она конечно же есть, но отнюдь не сводится к диктату политики, превращающему художественное творчество в прилежного иллюстратора партийных лозунгов. Взаимодействие двух этих важнейших сфер общественного сознания прихотливо, динамично.
Что же касается опыта Горького в этом плане, он уникален и вместе с тем глубоко поучителен. Испытывая острейшее разочарование от своего участия в политике, он с эпатирующей бывших друзей-большевиков демонстративностью совершает одну за другой ряд акций, озадачивших всех своей «нерасчетливостью», надпартийностью, как бы содержавших дерзкий вызов политикам: ругайте, уничтожайте меня со своих партийных трибун, но я думаю так, а не иначе и не собираюсь подчинять свою мысль вашим доктринам.
Размышляя о бедствиях страны, о постигшем ее голоде, Горький приходил к выводам, которые вскоре ошеломили всех: и друзей его и врагов. В апреле 1922 года в датской газете «Politiken» были опубликованы его заметки «О русском крестьянстве».
Крайняя заостренность основной идеи, перерастающая в явную тенденциозность и предвзятость, была столь очевидна, что и годы спустя не открывала возможности для публикации заметок на родине. Они увидели свет, с сокращениями, лишь без малого через семьдесят лет, в 1991 году («Огонек», № 49).
По мысли автора заметок, любой народ – стихия анархическая. Он предпочитает иметь как можно больше прав и свести к минимуму количество обязанностей. Наиболее консервативная часть народа – крестьянство. Русская деревня долгое время зависела от города, но теперь, в годы Гражданской войны, поняла, что город зависит от нее. Деревне присуще «недоверие к поискам мысли», «скептицизм невежества»… И – жестокость, становящаяся порой патологической.
В сознании Горького далеко не лучшим образом соединились отрицательный личный опыт общения с мужиком в молодости и марксистские догмы о крестьянстве как классе буржуазном (пусть и с приставкой «мелко»), а следовательно – враждебном. Реакция на суждения Горького о крестьянстве была крайне отрицательной. Белоэмигранты возмутились: Горький все беды революции и Гражданской войны сваливает на народ и тем самым оправдывает этих кровавых палачей-большевиков. Большевики в свою очередь подвергли Горького резкой критике: как-никак народ – главная движущая сила истории.
Первый залп критическими статьями дали «Известия» сразу же, в апреле. Но это оказалось лишь разведкой боем. Опережая отечественную прессу и как бы пролагая ей дорогу (случайно ли?), коммунистическая «Rote Fahne» 15 июля, называя Горького (как и Франса) другом Советской России, упрекала его за излишнюю эмоциональность. Следом, 20 июля, выступил в «Правде» с фельетоном «Гнетучка» первый придворный поэт Демьян Бедный (не гримаса ли судьбы: подлинная фамилия Придворов!). А буквально на другой день и брошюру «О русском крестьянстве», и письмо Франсу в защиту эсеров (о нем – ниже) осудила «Красная газета». 8 августа собрание представителей культкомиссий заводов Замоскворецкого района столицы в своей резолюции предлагало Горькому немедленно вернуться в Россию, чтобы в пролетарской среде изжить свои ошибки…
Но Горький не то чтобы возвращаться с покаянием, но и оправдываться издалека что-то не торопился.
В начале сентября он выпустил отдельное издание очерка и вскоре сообщил Роллану: писать было трудно, но необходимо. Французский друг отвечал, что рассуждения о русском крестьянстве тронули его своей трагической силой… И все-таки, что бы там успокоительное ни писали друзья, поводов для критики взглядов Горького на мужика возникало предостаточно. Никто еще в русской (да и только ли в русской?) литературе не высказывался о своем народе столь резко и беспощадно. Так что и критические отповеди Горькому понять можно, а особенно если они рождены той болью, которая вызвана нашим нынешним знанием о трагедии крестьянства в годы сталинщины.
Чем же вызван столь односторонне пристрастный взгляд на мужика? Немного о традициях. Первой придет на память «Деревня» Бунина, встреченная Горьким восторженно. Бунина как будто никто не обвинял в клевете на русское крестьянство, а ведь картины деревенской жизни, нарисованные им, мягко говоря, далеко не идилличны. Бунин продолжил традицию, сложившуюся в отечественной литературе ранее. И тут в первую очередь надо назвать две вещи Чехова: «Мужики» и «В овраге», которые Горький сразу же по их появлении в печати расценил как правдивые свидетельства о жизни села, ее кричащих противоречиях, социальном расслоении. А дальше – Глеб Успенский, Решетников… Особое место занял бы в этом ряду Лев Толстой.
Апологетический взгляд на деревню преобладал у литераторов народнического направления, которое Горький отвергал в принципе за односторонность, перерастающую в умилительность.
Небольшой литературоведческий экскурс о деревне в литературе можно было бы повернуть из прошлого в наши дни и вспомнить сурово-трезвый (но именно потому глубоко патриотический) взгляд на крестьянство Ф. Абрамова, И. Мележа, В. Шукшина (чего стоит знаменитый рассказ «Срезал» с фигурой деревенского «эрудита» Глеба Капустина в центре).
Впрочем, рассуждая об истоках, питающих горьковскую концепцию, не впасть бы в ошибку литературоцентризма! В конце концов воздействие самой жизни на писателя сильнее воздействия книг.
Горького потрясла весть о зверской расправе над писателем Сергеем Терентьевичем Семеновым… Народные рассказы Л. Толстого побудили того к художественному творчеству, и первая книга начинающего автора «Крестьянские рассказы» еще в конце прошлого века вышла с предисловием знаменитого писателя. Семенов принимал участие в революционной деятельности, вынужден был эмигрировать за границу. Верность деревне, однако, сохранил и после 1917 года вернулся к земле. Интеллигентный человек, повидавший мир, он искренне хотел нести культуру в отсталый деревенский быт, в сельскохозяйственное производство. Миссионер? Святой? Жертвенник?
Далеко не все принимали его усилия с благодарностью. Нашлись деревенские толстосумы, не без оснований почувствовавшие в нем опасного человека. Ведь чем меньше темноты и отсталости, тем меньше почвы для произвола! Они-то и учинили однажды над Семеновым дикий, кровавый самосуд.
И беда, и трагедия дореволюционной деревни были обусловлены ее изолированностью от достижений цивилизации. Размышляя над жизнью в глобальных масштабах, Горький испытывал невольный страх перед «огромностью всемирной русско-китайско-индусской деревни» и опасался, как бы она не погубила богатства культуры, поглотив, но не усвоив их.
Весь ушедший с головой в хлопоты и заботы об интеллигенции, мозге нации, он, конечно же, односторонне смотрел на мужика. Но, возможно, после сказанного будет немного понятнее причина такого отношения.
Деревня и город… Крестьянство и интеллигенция, ее выживание в условиях голода – все это было связано теснейшим образом. И вновь, как незаживающая рана, начинала зудеть мысль: почему большевики так боятся интеллигенции, что мгновенно разогнали Помгол? Почему вообще так опасаются мнений, не схожих с собственными, стремятся к огосударствлению общественной мысли и инициативы? Ведь боится чужого мнения только тот, кто не уверен в своей правоте. И потому прибегает к силе. А может быть, они хотят ограничить расход интеллектуальной энергии, которая уходит на дискуссии? И вправду, сколько бесплодных споров затевала интеллигенция на Руси! Иных хлебом не корми, дай поговорить. Но нет, дело, видимо, не в этом, не в стремлении к экономии энергии, а в тяге к политическому, духовному монополизму. Жизнь давала тому веские подтверждения. Еще в марте 1921 года состоялся X съезд партии большевиков. Советская историко-партийная наука неизменно подчеркивала первостепенное значение принятого на нем решения о переходе к новой экономической политике, пришедшей на смену военному коммунизму (тому, что Короленко называл «внезапным»). Иную концепцию выдвинул известный политолог А. Авторханов в книге «Происхождение партократии», изданной на Западе еще в 1973 году. Большевики шли к власти под лозунгом диктатуры пролетариата. Привыкнув к этому термину, превратившемуся в идеологическое клише, мы перестали замечать изначально заложенный в нем алогизм. Как, каким путем неимущие, насильственно отторгнутые дотоле от участия в государственном строительстве и потому не обладающие соответствующим опытом, будут управлять обществом? Жизнь очень скоро убедила в практической неосуществимости этого принципа, и вот уже с 1919 года Ленин начинает подчеркивать, что «диктатуру осуществляет коммунистическая партия большевиков». Авторханов метко называет возникший механизм «надгосударственной партийной машиной». Чем дальше, тем больше партийная машина превращалась в аппаратно-бюрократическую, то есть на деле вся власть переходила в руки уже не партии, а ее верхушки. X съезд принял резолюцию «О единстве партии». Ленин резко порвал с предыдущим курсом, заявив: «Споров об уклонах мы не допустим». Сопротивление этому диктаторскому принципу со стороны тех, кто понял гигантскую опасность, заключенную в нем (Шляпников, Коллонтай), было подавлено. Теперь стал возможен переход к организованному ограничению и ликвидации инакомыслия уже вне партии. Метод дискуссий, воздействия на сознание был тут, по мнению большевиков, в принципе неприемлем.
Поспешная ликвидация Помгола и стала, очевидно, первым практическим действием большевиков по ликвидации гнезда интеллигентского инакомыслия. На очереди стоял вопрос об отношении к другим, все еще существовавшим революционным партиям.
В феврале 1922 года, незадолго до переезда Горького из Шварцвальда в Берлин, здесь вышла брошюра некоего Г. Семенова «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917–1918 гг.». Весьма показательно, что ее текст был немедленно перепечатан «Известиями». Автор изо всех сил старался убедить читателя в том, что лидеры эсеров причастны к попыткам покушения на руководство страны: Ленина, Троцкого, Зиновьева и других лиц. Однако тенденциозно-обвинительный, фальсификаторский характер опуса Семенова доказан был очень скоро. Тем не менее эсеры, в прошлом активные участники революционного движения, были арестованы, и их ждала самая суровая участь.
Как известно, между программами эсеров и меньшевиков имелись существенные разногласия. Тем примечательнее, что борьбу за спасение эсеров возглавил недавно оказавшийся в эмиграции меньшевик Ю. Мартов. Он прекрасно знал, что Горького и Ленина связывают тесные личные отношения. И тем не менее через своего соратника по партии Б. Николаевского, только недавно освободившегося из заключения и выехавшего в Европу, он обратился к Горькому с просьбой поднять голос протеста против готовящейся расправы над социалистами-революционерами.
Раздумывая над этим предложением, Горький мог вспомнить еще один фрагмент из недавнего письма Короленко и еще раз поразиться прозорливости Владимира Галактионовича. «История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же методами, что и царский режим».
В мае 1922 года Горький в газете «Манчестер гардиен» пишет: «Ошибкой всей русской интеллигенции является партийный раскол внутри ее…».
По поводу процесса над эсерами Горький сначала обратился за поддержкой к Анатолю Франсу, чей авторитет среди европейской интеллигенции был чрезвычайно высок. Горький не мог не учитывать при этом конкретного участия Франса в русских делах: полученную в 1921 году Нобелевскую премию он пожертвовал в пользу голодающих России. (Ленин, проявлявший повышенную подозрительность к участию культурных сил Запада в преодолении Россией ее трудностей, назвал «наглейшим» предложение Нансена об участии иностранных представителей в контроле за распределением зарубежной помощи. Предложение Нансена стало одной из причин разгона Помгола.) Однако, чтобы обращение к Франсу не выглядело слишком демонстративным и оппозиционным (почти разрывом с большевиками), Горький одновременно послал письмо аналогичного содержания Рыкову, заменявшему Ленина в связи с его болезнью[10]10
Подробнее об этом: Л. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. Горький и дело эсеров. «Дружба народов», 1990, № 12.
[Закрыть].
В России никак не ожидали подобных шагов со стороны Горького. «Правда» высказывалась без обиняков: «Своими политическими заграничными выступлениями Максим Горький вредит нашей революции. И вредит сильно». Ленин назвал письмо Горького Франсу «поганым», но от публичного осуждения его все же решил воздержаться.
А разочарование Ленина по поводу «защитительных действий» Горького было велико. Ведь согласно их договоренности, писатель выезжал на Запад не только для лечения, но и для налаживания связей советской власти с западной интеллигенцией, и в первую очередь ради сбора средств для борьбы с голодом.
В письме Горькому от 6 декабря 1921 года Ленин напоминает о договоренности, но примечательно при этом, что просьбу обратиться с соответствующими предложениями к Б. Шоу и Г. Уэллсу сам он адресует не от себя лично: «меня просят написать Вам…» Кто именно просит – неизвестно. Может быть, те, с кем отношения Горького были более стабильны, чем с Лениным в ту пору?
Между тем Ленин отлично понимал, сколь велик авторитет Горького в Европе и за ее пределами. Свои разногласия с писателем он хотел смягчить заботой о его положении. 12 декабря 1921 года Ленин пишет Молотову, что Горький выехал совсем без денег, рассчитывая получить гонорар за издание своих книг. Ленин же полагал, что необходимо провести через Политбюро решение о выделении необходимых средств партией и государством.
Однако Горький не счел возможным связывать себя с советским правительством какими-либо обязательствами, и М. Андреева, вероятно, по его просьбе писала Ленину о том, что следовало бы побыстрее решать вопрос об издании книг Алексея Максимовича: хотя уехал он, «не взяв ни копейки», «но пособия или ссуды Алексей не возьмет».
…Пожелал сохранить свою независимость, предполагал Ленин. Уж не для того ли, чтобы иметь право на публикацию сочинений, подобных «поганому» письму Франсу? А ведь в конце прошлого года прислал длинное письмо-«отчет»: о письме Уэллсу, в котором просил английского друга провести переговоры с Комитетом Карнеги и Рокфеллером, и и письме к президенту США Гардингу, где подробно сообщал о связях с Международной ассоциацией помощи голодающим в России. «Вообще, я делаю все, что могу».
Действительно, значение помощи извне, в том числе и из Америки, было довольно велико. Об этом красноречиво свидетельствует совсем недавно опубликованное в нашей стране письмо Горького американке Джейн Адамс от 10 июля 1922 года по поводу голода, продолжавшегося в стране. Горький исключительно высоко оценивает миссию Гувера: «Америка вправе гордиться детьми своими, которые так бесстрашно и прекрасно работают на огромном поле смерти, в атмосфере эпидемии, одиночества и людоедства.
Эта работа кроме своей прямой задачи – спасения миллионов людей от голодной смерти имеет еще и другое, на мой взгляд, более важное значение: она возрождает в русском народе убитое войной чувство человечности, воскрешает уничтоженную мечту о возможности братства народов, реализует идею совместного, дружеского труда наций».
Как современно звучит эта мысль, пронизанная пафосом торжества общечеловеческих ценностей, не правда ли? А высказана она тогда, когда власти в стране, вынуждаемые безысходными обстоятельствами, использовали гуманитарную помощь Запада, но в конечном-то счете стремились к победе над тем же «проклятым миром капитализма». Знай Ленин об этом письме, он и его мог бы назвать «поганым».
А то, конца декабря 1921 года, письмо – «отчет» Ленину Горький заканчивал в общем вполне дружески: о лечении, о природе Шварцвальда, необходимости и Ленину непременно отдохнуть… И можно было как будто не придавать значения последней, несколько неожиданной фразе: «Помните, что российский житель суть человек самых неожиданных поступков – сделает пакость и сам удивляется: как это меня угораздило?»
И вот письмо Франсу, поддерживающее сразу и эсеров, и меньшевиков, хлопочущих о них! Разве не та же самая «пакость», о которой изволил обмолвиться Алексей Максимович в конце своей эпистолы?..
Дальнейшие события, развернувшиеся все в том же 1922 году, дали новые доказательства того, что большевистская власть намерена допускать к выходу на общественную арену в стране только такие взгляды, которые соответствуют ее стратегии и тактике. Осенью в принудительном порядке была выслана за рубеж группа крупных философов, экономистов, социологов, публицистов: Н. Бердяев, С. Франк, Л. Карсавин, Ф. Степун, И. Ильин, Д. Лутохин, П. Сорокин, С. Мельгунов… На прямую связь этой акции с судьбой Помгола указывает тот факт, что среди высланных было несколько активных участников комитета: председатель Общества сельского хозяйства А. Угрюмов, председатель его студенческой секции Л. Головачев, писатель М. Осоргин, философ С. Булгаков.
Эта печально известная акция получила наименование «философский пароход». Да, лишение родины – тяжкое наказание. Но все же оно не было, слава Богу, лишением жизни, и многие «пассажиры» парохода получили возможность продолжить за рубежом маршруты своих творческих исканий. И уже в наши дни страна возвращает на родину наследие выдающихся мыслителей. Кстати сказать, их впечатления о драматических событиях в России очень часто совершенно лишены присущего нашим отечественным писаниям чувства личной ущемленности и содержат глубокие, объективные размышления о времени и о себе (достаточно, например, перечитать сочинения Н. Бердяева).








