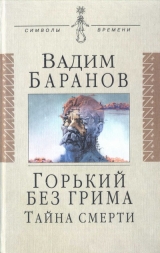
Текст книги "Горький без грима. Тайна смерти"
Автор книги: Вадим Баранов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
ГЛАВА XI
О литературе – с высоты коня?
Сталин все чаще задумывался о роли литературы в жизни общества. Сколько неграмотных было в царской России? Три четверти. А теперь развертывалась настоящая культурная революция. Неграмотность ликвидируется. В деревню приходят печать, радио. Важно, какую духовную пищу получит народ. Значит, пора позаботиться о том, чтобы открыть дорогу произведениям, которые помогают в осуществлении Его планов, и, соответственно, ограничить, а затем и совсем прекратить появление на свет произведений вредных.
Подумать только, что они пишут, эти писатели!
Пильняк напечатал в журнале «Повесть непогашенной луны». Каков сюжет! Некий руководитель отправляет под хирургический нож здорового человека, полководца, который словно бы мог стать конкурентом руководителя. Пошли слухи, что в жестком лидере что-то от него, Сталина, а в его жертве – от Фрунзе!..
А что написала эта «сволочь» – Платонов о коллективизации – великом историческом деянии, которое спасет страну? «Впрок» – хроника, которую не назовешь иначе, как кулацкой! Пусть теперь Фадеев расхлебывает эту кашу, раз заварил ее в своей «Красной нови» (видно, не выветрился еще оттуда дух связавшегося с троцкистами Воронского).
Что пишет Булгаков? Как изображает эту самую белую гвардию, эмигрантов? (Вот если б кто-нибудь о красных написал так, как он о белых!) Приходится ходить в МХАТ, изучать психологию классового врага… Жалуется, что запрещают его пьесы, жить нечем… Просится за границу… Замятина вот уже пришлось отпустить. Уговорил Горький… В чем-то надо и уступать. Но только в том случае, если эта уступка вскоре окупится сторицей…
А группировки? Кто в лес, кто по дрова! Даже правоверные рапповцы, борющиеся за чистоту партийной идеологии, не радуют: пишут плохо. Учились бы у беспартийных.
Ну, в общем, с этой вакханалией надо кончать! Литература в России всегда была носительницей крамолы.
Надо объединять писателей в единый союз.
Он вспомнил первую, не доведенную до конца попытку подобного рода, которая предпринята была еще при Ленине, весной 1922 года. Тогда по решению Политбюро от 6 июля, подписанному им, Сталиным, была создана уже упоминавшаяся выше так называемая комиссия Я. Яковлева (по фамилии заместителя заведующего Агитпропом ЦК, которого теперь Сталин бросил на сельское хозяйство). Перед комиссией стояла задача объединить писателей в самостоятельное общество. Но главную роль в оргкомитете играли такие, как тот же Воронский, которые включили в оргкомитет и Горького, и пролеткультовцев, и Маяковского, и того же Пильняка, и даже сменовеховцев, из которых один, правда, вскоре вернулся домой…[32]32
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 175.
[Закрыть]
Тогда объединить писателей не удалось, а теперь это сделать надо во что бы то ни стало. И во главе организации мог стать только один человек – Горький.
Через своих людей Сталин знал, сколь многообразны были контакты Горького с советскими писателями даже и в пору пребывания того за границей: переписка, личные встречи в Сорренто. Туда к нему приезжали многие: Леонов, Катаев, Алексей Толстой, Афиногенов, Безыменский… Так что Горького не надо было «вводить в курс дела…».
Но никто, включая и Сталина с его осведомленностью и способностью держать в памяти гигантскую информацию, не мог в полной мере оценить уникальность, беспрецедентность Горького как творческой личности, если иметь в виду обилие его связей с литературным окружением.
Достаточно взять в руки хотя бы вышедший уже давно семидесятый том «Литературного наследства», включающий только переписку Горького с советскими писателями (да и то далеко не всю), чтобы поразиться и ее объему, и бесконечному обилию поднимаемых в ней вопросов, и, главное, тому, что к каждому Горький подходит как к неповторимой личности, с ее особенностями, со своеобразным мироощущением, сугубо индивидуальным кругом литературных интересов.
Впрочем, последнее обстоятельство Сталина не очень-то интересовало. Он-то полагал, что чем дальше, тем больше будет возрастать значение факторов, сближающих писателей, объединяющих их вокруг идеи государственного строительства. Важно не то, что придумает каждый за своим столом, как кустарь-одиночка. Важно Единство.
Как это говорил Ленин когда-то о «невменяемости писателей»? «Нелегко спорить против этого»? С писателями надо не спорить. Писателями надо руководить.
Горький тоже считал, что раздробленность писателей по группировкам нежелательна. Это сначала она была неизбежна, так как позволила литераторам сконцентрироваться по творческим интересам.
Но чем дальше, тем отчетливее проступали отрицательные черты разъединения писателей. Вместо того чтобы устраивать соревнование книг, они стали состязаться в сочинении полемических деклараций.
Затевают бесконечные словесные потасовки. Обмениваются зуботычинами, а то и вовсе запрещенными ударами ниже пояса. И все рвутся к власти, хотят командовать: о чем писать, как писать, для кого писать… Лефовцы договорились до отрицания художественной литературы, все сводят к репортажу и очерку.
Но самыми правоверными, самыми партийными считают себя рапповцы. Без конца козыряют чистотой своего пролетарского происхождения. Напрочь отрицают классику. А не мешало бы у нее-то как раз и поучиться. Не хотят. Потому что внутренне сами осознают: бесполезно.
Никакая политическая ортодоксальность не может заменить таланта.
Полагая, что размежевание по группировкам приносит отрицательные результаты, так как оборачивается кастовостью, Горький менее всего хотел, чтоб сближение литераторов приводило к нивелировке их индивидуальных художественных манер, к однообразию понимания жизни и происходящих в ней событий.
Писатель не тот, кто овладел секретами стилистики. Тот, кто по-своему видит мир. Так, как никто другой. Этим он и обогащает жизнь…
«Серапионов» в начале 20-х годов он поддерживал вопреки разносной газетной критике. Они считали, что искусству мешает идеология. Какой шум поднялся тогда! Но он и сам, издавая за границей «Беседу», подчеркивал: журнал вне политики.
Конечно, ударялись в крайность. Куда от нее, политики, денешься? Но одно дело – органическая связь художника с идеями времени, поддержка тех тенденций, которые близки ему духовно, и совсем другое дело, когда искусство объявляют служанкой политики, превращают в иллюстратора политических лозунгов. Искусство – явление святое, самоценное, может быть, именно в нем (да еще разве в науке) проявляется все величие человеческого духа.
Ни политика, ни философия, ни этика не могут соревноваться с искусством в создании вечных духовных ценностей. В этом смысле искусство превосходит даже науку. Может быть, потому, что оно свободнее науки, индивидуальнее в своем подходе к жизни?..
Вот, к примеру, Бабель. Какой своеобразный мастер, какой неповторимый язык! Но Буденный считает, что «Конармия» – поклеп на Первую конную. Нельзя же, однако, так прямолинейно подходить к литературе! В гневе Горький пишет письмо в защиту Бабеля.
Горькому сообщили, что письмо т. Буденным получено. «Мы немедленно его опубликуем по получении от Вас ответа на следующий наш вопрос. Нам казалось бы, что последняя фраза в Вашем письме: „Въехав в литературу на коне и с высоты коня критикуя ее, Вы уподобляете себя тем бесшабашным и безответственным критикам, которые разъезжают по литературе в телегах плохо усвоенных теорий, а для правильной и полезной критики необходимо, чтобы критик был или культурно выше литератора, или по крайней мере – стоял на одном уровне культуры с ним“, – будет воспринята как личное оскорбление. Те товарищи, с которыми мы советовались, придерживаются такого же мнения»[33]33
Письмо Г. Крумина и А. Халатова М. Горькому от 14 ноября 1928 г. Архив А. М. Горького, КГ-Н-83а-1–27.
[Закрыть].
Можно догадываться, с какими «товарищами» советовались Г. Крумин и А. Халатов, но Горький своей точки зрения в принципе не изменил. В статье «О том, как я учился писать», опубликованной ГИЗом отдельной брошюрой (а отрывок из нее одновременно, 30 сентября 1928 г., напечатали «Правда» и «Известия»), читаем: «Товарищ Буденный охаял „Конармию“ Бабеля, – мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев».
Пришлось Горькому защищать Бабеля от нападок и по совсем уж внелитературному поводу. Некто сообщал, что в настоящее время «при общем взгляде на литературу, как будто и нет талантов. Печатаются евреи, кричат о них, редактируют их. Просто тошно».
Как и все подлинные русские интеллигенты, Горький решительно отвергал антисемитизм. Отметив, что большинство периодических изданий редактируют русские и перечислив их имена (Бухарин, Раскольников, Скворцов-Степанов, Луначарский и др.), Горький саркастически замечает: «Но – если б и евреи? Вы, гражданин-поэт, думаете, что, например, Бабель и другие талантливые евреи хуже такого христианского гуся, как вы? Ошибаетесь, гражданин, ошибаетесь по малограмотности вашей!».
Вообще, надо сказать, что в массовом сознании до сих пор господствует упрощенное представление о литературных интересах и привязанностях Горького. Собственно, его индивидуальные склонности в этом отношении долгое время не только не принимались во внимание, но попросту игнорировались, причиной чему – господствовавший в нашей науке догматизм. Литературоведение не только не было исключением, но, как наука гуманитарно-общественная, несло на себе отчетливо выраженную печать зависимости от официально спускаемых сверху канонов.
Как строился историко-литературный курс? Вытягивалась этакая кильватерная колонна классиков. Естественно, во главе флагман – сам Горький. Дальше – линкоры: Маяковский, Шолохов, Толстой, Леонов и т. д. То есть классики. Перемена общественной погоды дала возможность увеличить «флотилию» за счет тех, кто долгие годы был вообще где-то на горизонте или даже за его чертой: Булгаков, Платонов, Пастернак, Ахматова…
Существовал строго канонизированный ряд, и литературоведы тщательно подыскивали у Горького цитаты – высказывания об этих классиках. Что из того, что Горький сдержанно похвалил «Разгром»? Что из того, что внимание к Фадееву не сопоставимо с вниманием – ну, к кому? Например, к А. Чапыгину! Горького, как в прокрустово ложе, втискивали в рамки официальной концепции развития советской литературы. И – втиснули. Но не реального Горького, «еретика», каким он называл себя. А загримированного двойника, придуманного в угоду схеме.
По этому принципу построены многие труды, и прежде всего три обширные монографии: А. Волкова «А. М. Горький и литературное движение советской эпохи», Е. Наумова «М. Горький в борьбе за идейность и мастерство советских писателей» и К. Муратовой «М. Горький в борьбе за развитие советской литературы». Разумеется, нет никакой закономерности в том, что вышли все они одновременно, в 1958 году. Но так и кажется ныне, что какая-то сила торопилась утвердить устаревающие на глазах представления: ведь уже позади был знаменательный 1956 год.
Не хотел бы, чтоб у читателя сложилось превратное представление о моем отношении ко всем положениям этих книг и к их авторам. Они, особенно К. Муратова, собрали богатый материал, у них можно встретить немало конкретных соображений, не утративших своего значения и по сию пору. Но ведь монография – это прежде всего общая идея, концепция, вытекающая из фактов, взятых во всей их полноте, без каких-либо изъятий, в их внутренних сцеплениях и взаимозависимостях.
Так кого же более всего ценил Горький в 20-е – начале 30-х годов? Он сам не раз говорил об этом, но писателей выбирал все каких-то неподходящих. Ими были: Сергеев-Ценский, Пришвин и Чапыгин. «…Сейчас на Руси трое „первоклассных“ литераторов, – писал он в 1926 году Сергееву-Ценскому: – Вы, Михаил Пришвин и Алексей Чапыгин… Кроме этих троих есть еще Горький, но этот будет послабее и – значительно. Так думать о себе побуждает меня отнюдь не „ложная скромность“, а – самосознание и сознание, что быть четвертым в конце этого ряда вполне достойное место».
Впервые загадочный парадокс горьковской историко-литературной концепции объяснила молодой литературовед Наталья Абкина (Баранова) в своей кандидатской диссертации о литературно-критических взглядах Горького в 20-е годы, не без затруднений защищенной в Казани в 1961 году, то есть вскоре после выхода названных выше монографий трех авторов. В 1974 году Барановой удалось в Москве опубликовать книгу «М. Горький и советские писатели в 20-е годы». В ней симпатии Горького и его взгляды объясняются изнутри. Например, доказывается, что Пришвина Горький высоко ценил не как «природоведа», а за то, что ему удавалось раскрыть философию активного восприятия природы человеком, приступающим к созданию «второй природы». Таким образом, Пришвин вдруг оказывался не неким отшельником, ушедшим в лесные чащи от шумов и ритмов социалистического строительства, а художником-философом, помогающим лучше постичь природу как феномен и предостерегающим тем самым от прямолинейно-утилитарного, как бы сказали теперь, потребительского отношения к ней.
Сергеева-Ценского Горький ценил за его интерес к проблеме гуманизма, причем многие стороны суждений Горького о гуманистическом содержании произведений Сергеева-Ценского никак не укладывались в сложившуюся схему так называемого пролетарского гуманизма и оказывались ближе к тому, что с оттенком явного пренебрежения называли гуманизмом «абстрактным», а по нынешним представлениям – отвечающим общечеловеческим нормам нравственности.
Так нетрадиционно, неожиданно оценивал Горький состояние дел литературных издалека.
Надо ли говорить, с каким воодушевлением ожидали писатели его возвращения из-за рубежа! Весной 1928 года журнал «Прожектор» опубликовал дружеский шарж по поводу предстоящей встречи Горького. Длинную очередь приветствующих возглавлял Луначарский, тогдашний нарком просвещения. За ним следовали Серафимович, Вересаев, Д. Бедный, Тренев, Пришвин, Маяковский, С. Третьяков, Асеев, Зозуля, Бабель, Леонов, Пильняк, Вс. Иванов, Авербах, Кольцов, А. Толстой, Либединский, Сейфуллина, Фадеев, Подъячев, Деев-Хомяковский, Гладков, Ляшко, Никифоров, П. Романов, Касаткин, Сельвинский, Инбер, Евдокимов, П. Коган, Эфрос, Фриче, Раскольников.
Естественно, список этот мог быть расширен за счет многих и многих имен. В первую очередь это, разумеется, «серапионы»: К. Федин, М. Зощенко, М. Слонимский, Н. Тихонов, В. Каверин, а также О. Форш, М. Козаков, А. Платонов, М. Булгаков, М. Чумандрин, Ф. Панферов, И. Макарьев, И. Вольнов и другие.
Однако возвращению и возвеличиванию М. Горького радовались отнюдь не все. Руководители Российской ассоциации пролетарских писателей вообще не считали Горького писателем пролетарским, упорно напоминали о его «ошибках» в 1917–1918 годах, указывали, что в своем творчестве он не пропагандирует новое, а уходит в прошлое («Рассказы 1922–1924 годов», «Заметки из дневника. Воспоминания», портрет Л. Толстого, «Дело Артамоновых»).
В докладе на Первом Всесоюзном съезде писателей в мае 1928 года (месяц приезда Горького в страну!) рапповцы преподнесли гостю юбилейный подарок. Критик В. Ермилов заявил, что «Горький – пролетарский писатель в той степени и постольку, в какой степени и поскольку пролетариат осуществляет задачи буржуазно-демократической революции, то есть задачи, которые должны были быть осуществлены русской буржуазией, если б она не была у нас столь бездарна и бессильна»[34]34
«На литературном посту», 1929, № 1, с. 36.
[Закрыть].
Другой рапповский критик высказывался еще более решительно, причислив Горького к носителям мировоззрения «мелкобуржуазного социализма»[35]35
Там же, 1929, № 7, с. 52.
[Закрыть].
Дальше всех, однако, пошли рапповцы – представители сибирской группы «Настоящее». Они объявили Горького ни много ни мало «изворотливым, маскирующимся врагом». «Настоященцы» выступили, таким образом, в жанре самого откровенного и гнусного политического доноса.
Вот в каких неординарных обстоятельствах приходилось Горькому утверждать свои принципы подхода к явлениям литературы. С одной стороны, непомерное его возвеличивание, всячески поощряемое властями. С другой – совершенно неожиданное в обстановке железного партийного единомыслия поношение и попытка политической дискредитации.
Как мы сможем скоро убедиться, парадоксальное сочетание несопоставимого было не случайно и отражало сложные подспудные процессы, протекавшие в духовной жизни страны на рубеже 20-х – 30-х годов.
ГЛАВА XII
Великий перелом
Очерк о поездке на Соловки очень подрывал авторитет Горького в глазах интеллигенции, всех мыслящих людей. Тем более неожиданно прозвучала мысль о том, что тогда же, в 1929 году, Горький дал Сталину весьма основательные поводы для недовольства…
Как густо был насыщен событиями этот год! И какими! Ведь сам Он, великий вождь и лучший друг трудящихся, нарек его годом великого перелома.
Статью под таким заголовком Сталин опубликовал в конце года, как бы подводя его итоги. Опубликовал накануне пленума ЦК партии, посвященного проблемам колхозного строительства. А выступая затем на конференции аграрников-марксистов, впервые, с присущей ему чеканностью формулировок, провозгласил переход «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса».
Если вспоминать другие важнейшие события года, происшедшие раньше, то это прежде всего первый пятилетний план индустриализации страны, который окончательно утвердил V съезд Советов в мае… А как продуманно, мудро был начат год! Его, Сталина, год! Публикацией в «Правде», по специальному решению ЦК, статьи Ленина «Как организовать соревнование», написанной еще в 1918 году. Для Сталина важнее всего были те моменты статьи, которые характеризовали острое социальное противоборство рабочего класса и буржуазии: «Задача организационная сплетается в одно неразрывное целое с задачей беспощадного военного подавления вчерашних рабовладельцев (капиталистов) и своры их лакеев – господ буржуазных интеллигентов».
Внимательно вчитываясь в одно место ленинской статьи, Сталин не раз возвращался мыслью к Горькому. «Рабочие и крестьяне, – говорилось в статье, – нисколько не заражены сентиментальными иллюзиями господ интеллигентиков, всей этой новожизненской и прочей слякоти, которые „кричали“ против капиталистов до хрипоты, „жестикулировали“ против них, „громили“ их с тем, чтобы расплакаться и вести себя подобно побитому щенку, когда дошло до дела, до реализации угроз, до выполнения на практике дела смещения капиталистов».
Кто-кто, а Горький не мог теперь, в 1929-м, не обратить внимания на этот острый полемический пассаж, направленный Лениным тогда прямо в него, в редактируемую им «Новую жизнь» (хорошо, крепко сказал вождь: «новожизненская слякоть»), С другой стороны, в отличие от него, Сталина, еще в 1917-м резко одернувшего Горького и прямо назвавшего его фамилию, Ленин ограничился намеком. Но потом «Новую жизнь» все равно пришлось закрыть.
По прошествии стольких лет возвращаясь на родину, Горький должен из всего этого сделать соответствующие выводы. Интеллигенция должна помогать Его политике.
Горький съездил на Соловки. Отрывок из очерка он опубликовал в «Известиях» вскоре же, в начале июля. Отрывок, направленный на то, чтобы прекратить «шумиху», поднятую в западной прессе. Но никто, абсолютно никто, не исключая и Его самого, не мог предполагать, что будет потом. Совсем скоро!
…Еще в 1926 году в шестой книжке журнала «Новый мир» Пильняк напечатал пресловутую «Повесть непогашенной луны». Книжку журнала, конечно, распорядились конфисковать. Пильняк был в ту пору довольно популярен и даже возглавлял Всероссийский союз писателей. (Нашли кому доверить!)
Пильняк… Сталин завязал крепкий узелок на память. И вот теперь, в 1929 году, – наконец-то! – пришла пора развязать его.
За границей, в эмигрантском издательстве «Петрополис», была опубликована крайне сомнительная вещица того же Пильняка «Красное дерево» – сплошная апология старины, которую надо ломать беспощадно. К «Дереву» подключили и пресловутый роман Е. Замятина «Мы», отвергнутый в стране как клевета на социализм. Дело тут было не только в содержании, но и в самом факте публикации в стане классового врага.
Организуя политическую кампанию, полагал вождь, можно не считаться с «мелочами». С тем, например, что роман «Мы» был написан еще в 1920 году и рукопись отправлена автором в Берлин в издательство Гржебина, действовавшего с разрешения советской власти, при участии Горького, и имевшего отделения в Москве и Петрограде. Можно было опустить и другую «мелочь», ту, что в 20-е годы вообще многие советские писатели печатались в русских издательствах, находившихся в Берлине. (В том же «Петрополисе», к примеру, выходили книги А. Толстого, Федина, Шолохова, Каверина и других.)
Наступали новые времена, и пора было кончать с такой «самодеятельностью»! И вот 26 августа 1929 года «Литературная газета» публикует статью Б. Волина «Недопустимейшее явление». Это была сигнальная ракета для атаки. 2 сентября та же газета напечатала уже целую подборку критических материалов о Пильняке. В заметке «Наше отношение» Маяковский, провозгласив, что к литературному произведению относится, как к оружию, заключил: «В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене». При этом Маяковский демонстративно признавался, что ни «Красное дерево» «(так, что ли?)», ни «другие его повести и многих других не читал».
В том же номере «Литературной газеты» была опубликована заметка следующего содержания: «Для всякого честного советского писателя нет двух мнений по поводу того, что двурушничество недопустимо. Советский писатель не может печататься в эмигрантских изданиях. И советская общественность весьма своевременно, в связи с данным случаем, поставила общий, принципиальный вопрос и подняла кампанию за оздоровление литературных нравов».
И кто же автор этой гневной заметки, приветствующей «кампанию»? Федор Раскольников! Тот самый, который через несколько лет обратится к Сталину с обличительным письмом по поводу творящихся в стране невиданных преступлений!
Еще через неделю «единодушно» осудили Пильняка многие писатели. Выступили: Вс. Иванов, Н. Огнев, К. Зелинский, В. Катаев, И. Гроссман-Рощин… Были опубликованы постановления правления Союза писателей и письма протеста от объединений «Кузница», «Перевал», от Федерации объединений советских писателей (ФОСП), Всесоюзного общества крестьянских писателей (ВОКП), ЦК работников искусств…
Интеллигенцию начали – и весьма успешно – приучать учинять расправу над ее же представителями, которые были неугодны власти.
Еще через неделю, 15 сентября, состоялось экстренное собрание Всероссийского Союза писателей. Организацию решено было переименовать в Союз советских писателей, а Пильняка сместить с председательского поста. Не забыло собрание послать и приветствие Первой московской областной партконференции.
Итак, все шло как нельзя лучше!..
И вдруг – кто бы мог ожидать! Гром средь ясного неба! Горький публикует в «Известиях» статью с многозначительным заголовком: «О трате энергии».
Горький писал в ней: «Я всю жизнь боролся за осторожное отношение к человеку, и мне кажется, что борьба эта должна быть усилена в наше время и в нашей обстановке, когда и где начинает перерабатывать действительность новый человек, выдвиженец из массы… Достаточно ли осторожно относимся мы к этим людям, достаточно ли умело ценим их работу, способности и не слишком ли сурово относимся к их ошибкам, к их поступкам?.. Умеем ли мы воспитывать помощников, вести за собой попутчиков? Мне кажется, не умеем. Хвастливые заявления о том, что „обойдемся и без попутчиков“, неубедительны. У нас образовалась дурацкая привычка втаскивать людей на колокольню славы и через некоторое время сбрасывать их оттуда в прах и грязь».
Горький возражает тем, кто мог бы обвинить его в примиренчестве и либерализме, и утверждает: более всего беспокоит неразумная трата духовной энергии. Ортодоксально-официозные критики встретили его статью в штыки. Наиболее крайние из них утверждали даже: «Статья в защиту Пильняка… дает лишнее орудие в руки врагов пролетарского государства».
Следует заметить: вступаясь за Пильняка, Горький делал это вовсе не потому, что тот был ему очень уж близок как литератор. Ничуть не бывало! Можно привести сколько угодно критических и даже резко отрицательных отзывов о манере Пильняка, содержащихся в переписке Горького: «… кажется, что Пильняк разболтал себя в словесных фокусах» (1925 г.).
Возникали у Горького серьезные претензии и к концептуальной направленности ряда произведений Пильняка, не исключая и его сенсационной «Повести непогашенной луны», к которой он отнесся резко отрицательно. «Прочитал скандальный рассказ Пильняка „Повесть непогашенной луны“ – каково заглавице? Этот господин мне противен, хотя, в начале его писательства, я его весьма похваливал. Но теперь он пишет так, как будто мелкий сыщик: хочет донести, а – кому? – не решает. И доносит одновременно направо, налево. Очень скверно. И – каким уродливым языком все это доносится!»
Что лежало в основе столь резкого и, как мы понимаем сегодня, несправедливого отзыва о повести?
Пильняк посвятил свое сочинение Воронскому, критику, поддерживавшему так называемых «попутчиков», исключительно много сделавшему для утверждения высокого профессионализма в молодой советской литературе в пору, когда в нее начинали в изобилии устремляться люди «от станка» и «от сохи». Как известно, позиции Воронского вызывали яростную неприязнь со стороны рапповцев.
Чем руководствовался Пильняк, снабжая повесть подобным посвящением? Дело в том, что, по свидетельству дочери Воронского, Галины Александровны, первоначально «Повесть непогашенной луны» была предложена в «Красную новь», но Воронский отклонил ее. «Новый мир» опубликовал ее как бы «в пику» редактору «Красной нови», но, сопровождая появление вещи в журнале посвящением отклонившему ее первоначально редактору, Пильняк словно бы хотел подчеркнуть, что не в обиде на него. А может быть, чувствуя остроту повести, он хотел как бы «заслониться» именем маститого критика, не вполне задумываясь о двусмысленности такого шага, о том, что тем самым он ставит Воронского под удар? Надо сказать, Воронский ничего не знал о посвящении, и «сюрприз» этот привел его в негодование. Отношения с Пильняком были порваны и восстановились далеко не сразу. А удара долго ждать не пришлось. В 1927 году создатель лучшего журнала 20-х годов был отстранен от редактирования «Красной нови», а за «принадлежность» к так называемой троцкистской оппозиции исключен из партии.
Уже после того, как случилось все это, Горький продолжал называть Воронского «самым талантливым» из критиков, активно работавших в 20-е годы.
Так почему же Горький все-таки стал так круто защищать Пильняка, который не был «героем его романа»? В данном случае он выступал не «за» или «против» личности или манеры. Он выступал за самое право писать свободно. И делал он это сейчас энергично, резко – так, словно боялся упустить последний шанс. Он чувствовал, что от нападок на писателей перешли к нападкам на литературу.
Особенно грубым выпадам подвергся сам Горький со стороны представителей сибирской группы пролеткультовско-рапповского толка «Настоящее». Антигорьковская направленность их «энергии» была подготовлена той полемикой, которая началась еще до публикации статьи в «Известиях» (Горький еще раньше подверг критике явно упрощенческие, вульгаризаторские взгляды «настоященцев» на природу художественного творчества и его общественное значение).
И вот теперь, щедро подливая в огонь полемики новую дозу масла, газета «Советская Сибирь» 22 сентября 1929 г. печатает статью с саркастическим названием «Затраченная энергия М. Горького». В ней особенно важен один момент. Словно упреждая своих оппонентов, Горький в статье пишет, что он вовсе не проповедует либерализм, примиренчество. «Это будет ложь». Некто, предусмотрительно скрывшийся за псевдонимом «Журналист», немедленно парировал: «Нет, Горький, – сказать, что вы проповедуете примиренчество, не будет ложью… Вы, Алексей Максимович, убежденный и сознательный примиренец. Примиренец, так сказать, в международном масштабе».
Стоп! Воздадим должное горьковскому оппоненту! Как все-таки Время расставляет все по своим местам! И как неплохо было бы, чтобы в эти слова вдумались многочисленные нынешние оппоненты Горького, видящие в нем последовательного сталиниста. Между тем во всей развертывающейся истории – а мы далеко еще не добрались до ее конца, – Горький выступает как сторонник консолидации сил художественной интеллигенции, т. е. в определенном смысле действительно как «примиренец». Он призывает покончить с утверждавшейся жестокой традицией за каждой ошибкой, неточным поступком искать злой умысел, враждебное намерение. Он явно против гипертрофированного отношения к понятию «классовая борьба» и против механического перенесения его на культуру, против ее огульной политизации.
С критикой Горького выступили отнюдь не только вульгаризаторы-«настоященцы». 18 сентября «Правда» публикует статью И. Беспалова «Литература и политика». Отмечая полемические крайности (требования выслать Пильняка из Советского Союза), «Правда» поддерживала критику Пильняка. «Известия», опубликовавшие статью Горького, в сущности тоже вскоре отмежевались от нее.
Итак, осуждают Пильняка, а с ним и Замятина, решительно все. На Горького же навешены опасные ярлыки. Что оставалось делать?
Прежде чем ответить на этот вопрос, задержимся на минутку, чтоб вспомнить еще об одном «крамольном» писателе, внесшем свой вклад в осложнение и без того напряженной ситуации. В сентябрьской книжке «Октября» за 1929 год появился рассказ Платонова «Усомнившийся Макар», отличавшийся острейшей антибюрократической направленностью. Протестуя против нараставших злоупотреблений, мужик Макар отправляется искать правду и находит ее в работах Ленина. Макар вычитывает у Ленина мысль о том, что «наши учреждения – дерьмо», такие могли замучить и самого Ленина. И Макар говорит своему единомышленнику: «Завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждение и будем думать для государства».
Вот только этого как раз Сталину и не хватало! Чтоб какие-то «винтики» брали на себя право «думать для государства». За всех думает Он. А их дело – исполнять. И восторгаться его мудрыми указаниями.
Естественно, рассказ Платонова немедленно был подвергнут разгрому. Одна из статей («Вечерняя Москва», 28 сентября 1929 г.) называлась «„Разоблачители“ социализма. О подпильнячниках».








