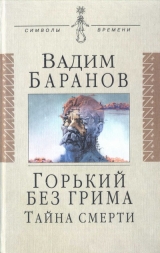
Текст книги "Горький без грима. Тайна смерти"
Автор книги: Вадим Баранов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
ГЛАВА XXVI
Бесовщина всевластия
Будучи крайне ограничен в общении с окружающим миром, Горький с тем большим нетерпением набрасывался на газеты. Он не знал, что «Правду» стали печатать для него в одном экземпляре (об этом, уже после XX съезда, сообщил метранпаж редактору газеты по отделу литературы и искусства Г. Куницыну). Осуществлять это было тем проще, что определенный опыт уже имелся. Согласно сталинскому распоряжению, «чтобы не беспокоить больного Владимира Ильича» непечатанием его последних работ, для него делали газету «Правда» в одном экземпляре. Так, 23 января 1923 года была «опубликована», то есть скрыта от народа, ставшая впоследствии знаменитой статья «Как нам реорганизовать Рабкрин».
Понятно: если газета предназначена для одного читателя, надо, Чтоб она не попадала в руки другим. Для таких целей в доме должен находиться особый человек. Эту миссию с успехом выполнял все тот же Крючков.
Воцарившаяся вокруг Горького обстановка официального положения, да еще приведшая к внешней изоляции, оказывала на него самого, как человека, на его характер определенное негативное воздействие.
Вознесенный на невиданную высоту, Горький поначалу замечал какое-то непривычное состояние: что-то вроде кислородного голодания, как при восхождении на гору. А потом стал привыкать к нему. И как-то перестал замечать, что его отношения с писателями начинают меняться. И дело не только в том, что не всех из них допускал к нему Крючков. Сам он, Горький, часто смотрел теперь на посетителя по-другому, говорил иным голосом, вдруг «выключался», когда не хотел слышать что-нибудь неприятное.
Давно ли писал Вс. Иванову, некогда прибывшему в рваных ботинках в Петроград из Сибири «в распоряжение Горького» и выпестованному им: «Я люблю литературу больше всего в жизни, люблю и уважаю людей, создающих ее. Это категорически запрещает мне выступать в качестве „учителя“, „руководителя“ и т. д. – чувствований, мнений и намерений художников слова».
Но шло время, и слишком много необстрелянных новичков стучалось в высокие двери литературы и нуждалось в совете. И сам он не переставал ощущать всегдашнюю необходимость помочь наиболее талантливым. Но вот тут все чаще начали появляться поучительность, назидательность, стремление один вкус провозгласить в качестве наиболее продуктивного…
Поначалу на это никто не обращал внимания: уж слишком он был обаятелен, Алексей Максимович. А потом начали все заметнее выявляться менторство, раздражительность. А когда становилось собеседника слушать неприятно или неинтересно – не вступал в спор, но – уходил в себя, барабаня по столу острыми костяшками пальцев, отстраненно глядя сквозь посетителя.
И вот уже спустя несколько лет тот же Иванов решается написать следующее: жаль, что Горький, по слухам, не приедет зимой из-за границы в Москву. Несмотря на уверения Щербакова и аппаратчиков, литературная жизнь все же какая-то сухая, разобщенная, малоплодотворная. А дальше пассаж прямо-таки загадочный: «У Вас же, при всей вашей „неодобрительности“ к литераторам, имеется литературный пламень и организаторский талант».
Талант и пламень – это, конечно, очень хорошо. Но откуда же взялась эта самая столь широковещательно поданная «неодобрительность» к литераторам?
Может быть, это чисто субъективное мнение Иванова, у которого, как известно, представления о наиболее соответствующей его таланту манере письма расходились с горьковскими?
Все ставит на место время. И вот спустя годы письма перечитывает младший современник классика, едва успевший чуточку обогреться у костра всеобъемлющего горьковского таланта и сам ставший впоследствии великим поэтом и редактором.
19 апреля 1955 года в рабочей тетради Твардовский делает лаконичную запись, избегая каких-либо подробностей: «Дочитываю Горького». А спустя несколько дней – суровые слова, в которых звучит немалое разочарование: «Письма Горького – великий воистину, но тяжелый, малообаятельный, деланный и нудноватый человек».
И в самом деле, тональность горьковского эпистолярия существенно меняется, равно как – что еще важнее – куда более сурово звучат публичные отзывы со страниц газет. Резкие суждения – о работе столь разных и талантливых писателей, как П. Васильев, Б. Корнилов, А. Белый… Охладевает Горький к Булгакову.
Неоднозначны оказались итоги предсъездовской дискуссии о языке, начатой Горьким в связи со спорами о романе «Бруски» Панферова. Совершенно закономерен был протест Горького не только против засилья диалектизмов в речи автора, но и против низкой общей культуры письма (хотя мы видели: странные огрехи пера, схожие с панферовскими, появлялись вдруг и на страницах «Клима»). Однако существовал свой резон и в рассуждениях оппонентов М. Горького, заботившихся о непосредственности языкового выражения художественной мысли, против «облизывания» языка, ведущего к его нивелировке (Серафимович). К сожалению, чрезмерное усердие редакторов нанесло впоследствии немало вреда хорошим книгам, включая и такие шедевры, как «Тихий Дон». Пред– и послесъездовский разговор о литературе (1934) приобретал порою суровый характер и касался отнюдь не только языка. Возникал вопрос и о творческой дисциплине, понимаемой в тех условиях весьма своеобразно.
Горький решительно осуждал настроения богемы, проникающие в среду творческой молодежи, и в этом он был, безусловно, прав. Но как и в каких формах иной раз он делал это? «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин… Порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулиганов, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно „взирают“ на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние „короче воробьиного носа“»[66]66
Заметим, что первый раздел статьи «Литературные забавы», содержавший размышления о фашизме, был одновременно напечатан 14 июля 1934 года в газетах «Правда», «Известия», «Литературная газета» и «Литературный Ленинград».
[Закрыть].
Перечитывая эти строки, воистину диву даешься: великий ли писатель написал их? А если он, то что произошло с ним? Еще одна загадка? Неужели Горький не осознавал, к каким страшным, кровавым последствиям может повести убийственный тезис о том, что от бытового хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа». То есть в сущности – никакого!
Горькому возражать теперь было невозможно (хотя еще совсем недавно происходили рапповские наскоки на него, за которые он же просил Сталина не наказывать виновных). А теперь возражения ему так же невозможны, как невозможны были возражения Сталину.
Характеризуя Горького в своем «Московском дневнике», Роллан пишет о «величественной роли главного надзирателя (без портфеля, но от этого не менее влиятельного) литературы, наук и искусств, воспитания, издательств. Он руководитель и цензор культуры в целом. Никакой писатель не обладал такой властью, и Горький принял ее. Во время общественных церемоний его место рядом с членами правительства. Он один из первых в советском государстве. Это высокое положение и связанные с ним обязанности оправдывают его жизнь. Общественный человек возобладал над частным». (Выделено мною. – В.Б.)
Да, так было. И со стороны не сразу различалось, что подобное положение Горького в государстве в какой-то момент начало меняться, и весьма существенно.
Далеко не все литераторы остались довольны тем, что Горький все настойчивее говорил о необходимости поднимать качество литературного труда. В письме, адресованном в ЦК партии, то есть 1 сентября 1934 года, еще в день окончания съезда, он заявлял весьма недвусмысленно: «Съезд литераторов Союза С. С. республик обнаружил почти единодушное сознание литераторами необходимости повысить качество их работы и – тем самым – признал необходимость повышения профессиональной, технической квалификации.
Писатели, которые не умеют или не желают учиться, но привыкли играть роли администраторов и стремятся укрепить за собою командующие посты – остались в незначительном меньшинстве. Они – партийцы, но их выступления на съезде были идеологически тусклы и обнаружили их профессиональную малограмотность. Эта малограмотность позволяет им не только не понимать необходимость повышения их продукции, но настраивает их против признания этой необходимости, – как это видно из речей Панферова, Ермилова, Фадеева и двух, трех других».
Однако, продолжал Горький, из сообщения Жданова следовало, что эти люди «будут введены в состав Правления». Заметим от себя: не «рассматриваются как кандидатуры», не «могут быть избраны» и т. д. Горький дает понять, что ему отлично известно, кто на деле формирует руководящие органы творческих союзов при видимости их демократического устройства, кому в этом отношении принадлежит решающее слово.
Все в том же письме подвергается критике журнал «Октябрь», «редактируемый группой Панферова».
Горький был настолько недоволен позицией своих оппонентов и их групповыми пристрастиями, что, в сущности, предъявлял высшему партийному начальству ультиматум: освободить его от обязанностей председателя Правления Союза писателей.
Уговорили остаться. Слишком скандально выглядел бы его уход. Наверное, не скупились на обещания учесть впредь критические пожелания крупнейшего пролетарского писателя. Но на деле все обернулось иначе. Как и предчувствовал Горький. Однако он ошибся, расценивая возможные действия оппонентов как «пустяковые склоки». Все приобретало куда более серьезный характер.
20 января 1935 года в «Правде» появилась статья Д. Заславского, критикующая переиздание романа Ф. Достоевского «Бесы». Казалось бы, факт не слишком примечательный в масштабах литературной жизни огромной страны, особенно если учесть, что негативное отношение к творчеству писателя, именовавшегося «злым гением» русской литературы, утвердилось в послеоктябрьской России уже давно. Но слишком хлестко звучал заголовок статейки: «Литературная гниль». Впрочем, немаловажным было и другое обстоятельство: выпустило роман издательство «Academia», которое возглавил Каменев. Возглавил после того, как Горький хлопотал перед Сталиным о целесообразности привлечь опального политика к активной деятельности хотя бы в области культуры. Известно, что писатель устроил примирительную встречу Хозяина с проштрафившимся оппозиционером у себя дома. Следует добавить, что Горький принимал самое активное участие в работе издательства: внимательно изучал его тематические планы, вносил свои рекомендации.
Исключительно интересные и ценные впечатления о Каменеве изложил в своем дневнике Чуковский. В записи от 14 ноября 1934 года содержится описание встречи Каменева с представителями литературной и научной общественности невской столицы, такими, как Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум, Гуковский, Оксман, Жирмунский… «Каменев с обычным рыхлым добродушием вынул из кармана бумажку – вот письмо от Алексея Максимовича». «Мысль Каменева-Горького такая: „поменьше марксизма, побольше формалистического анализа!..“» «Увы, теперь она не встретила сочувствия у прежних адептов так называемого формализма, а Каменеву не оставалось ничего иного, как горько пошутить: „Ну, что же! Не могу же я вас в концентрационный лагерь запереть“».
Шутка, скажем прямо, прозвучала зловеще – особенно в преддверии событий, которые надвигались неумолимо.
Запись 5 декабря 1934 года: «Вечером позвонил к Каменевым, и они пригласили меня поужинать. У них я застал Зиновьева, к-рый, как это ни странно – пишет статью… о Пушкине („Пушк. и декабристы“). Изумительна версатильность (многосторонность. – В.Б.) этих старых партийцев. Я помню то время, когда Зин. не удостаивал меня даже кивка головы, когда он б<ыл> недосягаемым мифом… когда он б<ыл> жирен, одутловат, физически противен. Теперь это сухопарый старик, очень бодрый, веселый, беспрестанно смеющийся искренним заливчатым смехом».
Напомним, что запись сделана спустя всего несколько дней после убийства Кирова, поэтому дальше содержится подробное описание гражданской панихиды и почетного караула, в который с трудом удалось пробиться Каменеву сквозь огромную толпу, собравшуюся у Колонного зала на Театральной площади.
В статье «Расстрелянное поколение», опубликованной в августе 1993 года, А. Н. Яковлев пишет: «Сталин лично дирижировал подготовкой многих судебных процессов. Известно, что 2 декабря 1934 года, прибыв в Ленинград после убийства Кирова, он отверг те версии, которые выдвигало следствие, и дал указание доказать, что убийство Кирова – дело рук зиновьевцев».
В сознании Чуковского выстраивались два никак не связанных друг с другом параллельных ряда: впечатления о бывших партийных лидерах, нашедших себя на ниве культуры, и трагические и таинственные повороты политики в связи с событиями 1 декабря. И вдруг, о Боже! Запись 20 декабря: «В „Academia“ носятся слухи, что уже 4 дня как арестован Каменев. Никто ничего определенного не говорит, но по умолчаниям можно заключить, что это так. Неужели он такой негодяй? неужели он имел какое-нб. отношение к убийству Кирова? В таком случае он лицемер сверхъественнный, т. к. к гробу Кирова он шел вместе со мною в глубоком горе, негодуя против гнусного убийцы. И притворялся, что занят исключительно литературой».
И – отрывок из еще одной записи, 18 января 1935 года: «Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других. Вчера читал обвинительный акт. Оказывается, для этих людей литература была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели. А я-то верил, что Каменев и вправду волнуется по поводу переводов Шекспира, озабочен юбилеем Пушкина… Мне казалось, что он сам убедился, что в политике он ломаный грош, и вот искренне ушел в литературу – выполняя предначертания партии. Все знали, что в феврале он будет выбран в академики, что Горький наметил его директором Всесоюзного Института Литературы, и казалось, что его честолюбие вполне удовлетворено этими перспективами… Все это, оказывается, было ширмой для него, как для политического авантюриста… Так ли это? Не знаю. Похоже, что так».
Горький знал, что не так. Для него не была гипнотически неотразимой, мгновенно меняющей представление о людях и судьбах официальная версия по поводу событий, развернувшихся вслед за выстрелом 1 декабря. Свое несогласие с этой казенной версией он доказывал действием.
Спустя несколько дней после публикации обвинительного акта против Каменева «Правда» печатает статью Д. Заславского «Литературная гниль», в которой подвергается разносу каменевское издательство «Academia» за попытку издания романа Достоевского «Бесы» как «грязнейшего пасквиля, направленного против революции».
В чем, в чем, а в целеустремленности и последовательности казенной прессе отказать было невозможно. Поскольку выпускался роман, из которого «контрреволюция добывала свои клеветнические „аргументы“, постольку „в этих условиях… выбор „Бесов“ для отдельного издания нельзя не признать по меньшей мере странным“». Да, действительно – по меньшей мере. Для понимающих было совершенно очевидно, что дело тут вовсе не в Достоевском и «Бесах», а в Каменеве.
Отлично понимая подоплеку выпада против издательства, Горький немедленно откликнулся на рецензию Заславского ответной статьей «Об издании романа „Бесы“» (опубликована 24 января).
«…Я решительно высказываюсь за издание „Academia“ романа „Бесы“… Делаю это потому, что я против превращения легальной литературы в нелегальную, которая продается „из-под полы“, соблазняет молодежь своей запретностью…» В сущности Горький уже тогда выступал против условий, которые потом привели к рождению «самиздата». Естественно, писатель не мог назвать имени директора издательства, выпускающего «контрреволюционный роман», но кому же было не ясно, что защита такой книги есть и защита позиций выпускающей фирмы и ее руководителя?
Видимо, чувствуя особенности складывающейся в стране обстановки и оценивая позиции Горького в споре о Заславском, Чуковский заключает: «…в споре с Заславским Горький прав совершенно: „Бесы“ гениальнейшая вещь из гениальнейших».
Достоевский не принадлежал к числу тех классиков, чей опыт Горький считал необходимым изучать и пропагандировать в первую очередь. А до революции он вел резкую полемику с театром, инсценировавшим тех же «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Но времена изменились, и, по мысли Горького, следовало расширять круг публикуемых произведений с учетом культурного роста читательской аудитории.
Ну что ж, состоялся обмен мнениями, вопрос можно считать исчерпанным. Тем более, что одновременно с возражением Заславскому в том же номере «Правды» была опубликована пространная третья (заключительная) часть горьковских полемических заметок «Литературные забавы».
Однако буквально на другой день, 25 января, на страницах все той же руководящей газеты появилось ответное выступление Заславского с откровенно полемическим заголовком «По поводу замечаний Горького». Вот это знатоков литературы уже озадачило всерьез! Не припоминалось, чтоб в последние годы кто-либо осмеливался открыто полемизировать с ним (исключение – только отдельные выступления в дискуссии о языке 1934 года).
Еще лет десять назад Горький пришел в ярость, узнав о том, что Наркомпрос составляет довольно обширные списки книг, изымаемых из обращения по так называемым идеологическим мотивам. Думал, наступили наконец иные времена, пора более либерального подхода к культурным ценностям, открывающая читателю возможность самому разбираться в содержании прочитанного. Ан нет…
Он еще не мог предполагать, что дело тут не в «Бесах» и не в Федоре Михайловиче. Поднимать голову начинали совсем иные бесы.
Забегая вперед, напомним, что «Правда» вскоре, 19 марта, выступит еще раз с критикой другого издания «Academia» – «Песни французской революции», и Горькому вновь придется вступать в спор с газетой в письме к ее редактору.
С удивлением встретивший публикацию второго выступления Заславского, направленного теперь уже непосредственно против него, Горький еще не мог предположить, сколь быстро и круто развернутся события…
28 января 1935 года Горький занял место в президиуме VII Всесоюзного съезда Советов. Известный всем и каждому, он, конечно, не удивлялся обилию «здравствуйте» и приветственных кивков издалека. Но во многих взглядах улавливалось что-то необычное: то ли удивление, то ли недоумение, то ли порой, как ему казалось, даже злорадное торжество.
Все прояснилось, когда ему дали «Правду». Ни раньше, ни позже, а именно в день открытия съезда газета преподнесла сюрприз: «Открытое письмо А. М. Горькому». Автор? Ну, кто бы мог подумать – Федор Панферов! Да как он посмел, этот недоучка!.. После всего, что произошло каких-то полгода назад!
Казалось бы, все причины для появления нынешней панферовской эпистолы были устранены еще весной прошлого года. Тогда, в ходе подготовки к съезду писателей, по инициативе Горького состоялась дискуссия о языке художественной литературы. Признанный мастер подверг суровой и обоснованной критике роман Панферова «Бруски», прежде всего за злоупотребление местными речениями. Но все понимали, что разговор завязывается по более основательному счету: ставился вопрос о повышении общей культуры писательского труда.
7 марта 1934 года докладчик на III Всесоюзном пленуме Оргкомитета Союза советских писателей П. Юдин особо подчеркнул, что выступления Горького о языке имеют очень большое значение.
18 марта 1934 года «Правда» опубликовала новую статью Горького – «О языке». Мало того, редакция сопроводила ее примечанием, не оставлявшим тени сомнения, в каком направлении должна развиваться литература. Подчеркнув, что вопрос о качестве литературного труда является частью большого, государственной важности вопроса борьбы за качество социалистического строительства, «Правда» резюмировала: «Редакция „Правды“ целиком поддерживает А. М. Горького в его борьбе за качество литературной речи, за дальнейший подъем советской литературы».
16 июня в «Литературной газете» публикуется передовая статья «Борьба за новый тип писателя», посвященная статье Горького «Литературные забавы» и полностью поддерживающая ее.
Решительно все точки над i расставлены, как было принято в пору могущественного господства одного авторитета. Понял тогда это и Панферов. Приходил к Горькому с покаянными словами, благодарил за науку. Позже, в апреле, прислал письмо, поддерживающее статью «Беседа с молодыми». Еще раз подчеркнул, что в вопросе о языке Горький прав полностью…
Совершенно очевидно, что категоричное партийное резюме – далеко не лучший способ завершить чисто профессиональный спор. Но в то время так было принято. Партия (читай – высшее ее руководство) присвоила себе право на изречение истины в последней инстанции и по любому поводу.
И вот теперь, спустя менее чем год после дискуссии о языке, та же «Правда» публикует выступление Панферова, никак не оговорив изменения своей позиции. А развязный тон панферовского письма Горькому не мог не озадачить всех, кого партийные верхи приучали безоговорочно принимать суждения Горького по любому поводу. Теперь вдруг осмелевший Панферов горьковские критические замечания в свой адрес называет проработкой в худшем смысле этого слова. Обыгрывая название статьи «Литературные забавы», Панферов обвиняет автора: он «слишком увлекательно забавляется, забывая о том, что имеет дело с живыми людьми, а не с манекенами». (Попутное замечание: наверное, все-таки «увлеченно», а не «увлекательно» – это к вопросу о точности профессионально-писательского словоупотребления.)
Даже наиболее бывалые литераторы не могли припомнить ничего подобного за последние годы. И те же бывалые люди начинали смекать: Панферов далеко не столь авторитетная фигура, чтобы отважиться выступить против Горького по своей инициативе. С нетерпением хватали очередные номера «Правды»: ну, что отвечает Горький?
Увы, ответа не последовало. Собственно, написан он был Горьким быстро, но Мехлис опубликовать его отказался. И опять возникало предположение: слишком крупной фигурой был Горький, чтобы Мехлис отклонил его статью единолично. Это мнение утвердилось бы еще прочнее, если б в литературной среде могли знать то, что было известно лишь руководству «Правды»: газета отклонила и статью Горького «По поводу „открытого“ и других писем». Это выглядело не чем иным, как вотумом недоверия. Горькому зажимали рот…
Верхи начинали круто менять курс литературной политики. Кончался период либерального заигрывания с интеллигенцией.
Не думая посягать на основы установившегося в стране порядка, но и не желая быть игрушкой в руках властей, Горький все упорнее стремится пробивать свою линию в области культуры, всячески стараясь поднять вес таланта, компетентности, профессионализма.
Начал он понимать, однако, и нечто куда более важное: арест Каменева и Зиновьева должен был послужить началом какой-то более широкой кампании изничтожения не только инакомыслящих «стариков», но и любых неугодных Хозяину и его приспешникам.
Да, надвигалась великая «кадровая революция». Будь на то воля Сталина, он бы начал, говоря иносказательно, 37-й год уже сейчас, в 35-м. Но даже могущественный диктатор и тиран принужден был считаться с обстоятельствами. С задуманной акцией приходилось повременить.
Горький же действовал прямо-таки демонстративно. Он брал под защиту критика Д. Мирского, недвусмысленно расценившего роман коммуниста Фадеева как неудачу! А кто такой сам Мирский? Выходец из дворянства, примкнувший, правда, до своего возвращения в Россию к английской компартии. Не только защищал Мирского, но едко высмеивал классовый подход к оценке истоков деятельности литературных кадров, заявлял, что коммунист по титулу и партбилету – не всегда коммунист по существу.
Горький пока не откликнулся на попахивающий доносительством призыв Панферова назвать имена таких псевдокоммунистов, но обещал это сделать. Кого собирался он назвать? Скорее всего, не того, кто и в самом деле заслуживал такого упоминания. И вообще, беспартийный Горький в этом вопросе явно превышал уровень своей компетенции. Дальше. Не слишком ли «многообещающе» прозвучало заявление Алексея Максимовича в ответ на слова Панферова, что Горький «ругается». «Полноте, разве так ругаются. Это – впереди».
Разве можно было оставлять подобное заявление без внимания, а тем более допускать дальнейшее обострение ситуации и укрепление горьковских позиций?
Сталин не обладал утонченным художественным вкусом, но плохую или даже среднюю книгу от хорошей отличал. Он отлично понимал, что укрепление панферовской линии может повлечь за собой снижение качественного уровня многих литературных произведений.
Примечателен в этой связи отзыв о панферовских «Брусках», принадлежащий Мартемьяну Рютину, одному из самых решительных противников сталинской политики. (Кстати, Рютин резко критиковал статью Горького «Литературные забавы», но не за то, за что обрушивался на нее Панферов.) Рютин писал: «…Это же не „Бруски“, а просто сучковатые, неотесанные „Поленья“! Что было бы, если бы он написал 15 статей, как собирался?! Это был бы настоящий дровяной склад!» – поделом на него обрушились Горький и Шолохов. Методом Панферова пишутся обыкновенно не «Человеческие комедии», «Кукольные комедии».
Итак, встает вопрос о возможности некоторого снижения уровня литературы? Но кто и где нашел критерий, точно определяющий этот уровень? Известно, что временно чем-то можно пожертвовать во имя главного. А главное – это политика.
В большой политике не бывает ничего случайного. Не случайно было и то, что именно Панферов выступил в качестве критика Горького. Еще в самом начале года великого перелома, в феврале 29-го, Сталин встретился с группой украинских писателей. Суждениям его нельзя было отказать в решительности. Булгакова назвал «безусловно чужим человеком», а его «Дни Турбиных» – «антисоветской штукой». Обратившись к зарубежной классике, расценил «Женитьбу Фигаро» как «пустяковую и бессодержательную вещь» – «шутки дармоедов-дворян и их прислужников…».
Из произведений современных советских литераторов особо выделил роман Панферова «Бруски» и тем, кто еще не успел ознакомиться с ним, рекомендовал это сделать. Между прочим, в течение всей встречи почему-то упорно называл Панферова Парфеновым, но никто не решился открыть рот, чтоб поправить его.
Перед съездом писателей Горький подверг «Бруски» резкой критике? Тогда его поддержали другие литераторы? Но нельзя же дело вести так, чтобы один диктовал свою волю, навязывал свои вкусы другим! Пусть теперь возьмет слово критикуемый. А другие пусть сопоставляют, делают выводы… Соответствующие выводы!..
Ну а выводы, они в общем-то напрашивались сами собой. Сталин уже давно утвердил свое неограниченное могущество в партии и государстве, разгромил и «правых», и «левых». Но его культ все же складывался постепенно, и именно теперь, в 1935 году, особенно к осени, он стал обретать наиболее грандиозные формы. Историки называют кульминацией Первый Всесоюзный съезд стахановцев. Именно в эту пору газеты, как по команде, вдруг заполнились творениями разнообразных ашугов и акынов, которые от имени своих народов воспевали Вождя – мудрейшего из мудрых, добрейшего из добрых, – такого, какого еще не рождала Земля…
В стране взрастал культ, какого не знала история, культ, на который в условиях утвердившегося «единомыслия» работала создаваемая годами гигантская пропагандистская машина.
…Прошло всего каких-то три года с тех пор, как Сталин редактировал пьесу Афиногенова «Ложь». Тогда он внес в патетический монолог одного из героев, воспевающего мудрость руководителя, весьма характерные поправки. Слова «Я говорю о вожде» Сталин вычеркивает. В выражении «Я говорю о человеке» вычеркивает последнее слово и вписывает от себя: «о Центральном Комитете партии коммунистов Советской страны».
Автору так и написал со всей большевистской прямотой: «Зря распространяетесь о „вожде“. Это нехорошо и, пожалуй, неприлично. Не в „вожде“ дело, а в коллективном руководстве – в ЦК партии».
Он-то всегда так считал и будет считать. Но с другой стороны, кто может запретить самим коммунистам, народу воздавать должное руководителю? Такому, заменить которого больше некем. Теперь, в 35-м, он полностью, окончательно убедился в этом.
…Воистину, раньше, чем начнется Большой Террор, должна была восторжествовать Большая Ложь.
К этому времени Сталин окончательно разочаровался в Горьком. Он понял, что в душе пролетарский писатель совсем не тот, за кого выдает себя, клянясь в верности Ему и Его власти в стране. Он понял, что создавал Горький писательский Союз в расчете на то, чтобы сделать его, так сказать, самостоятельной организацией, и чем более «независимой» от правительства она будет, тем лучше. Это никак не входило в планы Сталина, и ему пришлось сразу после съезда активизировать антигорьковскую группировку в Союзе.
Понял Сталин и то, что книгу о нем Горький не напишет. И не потому, что занят сверх головы… Это – позиция. Хотя время от времени он и упоминает Его имя в своих статьях в сопровождении подобающих эпитетов… Впрочем, иногда и не упоминает там, где, по уже сложившейся в обществе традиции, упомянуть следовало бы непременно…
Например, в статье «Знать прошлое – необходимо», опубликованной в «Правде» 12 октября 1935 года, говорит об учении Ленина. И это после съезда победителей, на котором Зиновьев в своей покаянной речи подал своевременный пример, впервые связав четыре великих имени: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин…
Личные отношения между вождем и писателем осложнились крайне. Еще совсем недавно писатель запросто мог обратиться к Хозяину по любому поводу – прийти в кабинет, встретиться на даче, позвонить по телефону. Теперь даже по такому важнейшему вопросу, как прием приезжающего к нему в гости Роллана Сталиным, приходилось письменно обращаться через третье лицо – А. Щербакова. Однако и эта возможность скоро исчезла: Щербакова перевели на другую работу сразу после его обращения с просьбой Горького к вождю.
Нельзя, правда, сказать, что отношения прервались совсем. Так, 3 июля 1935 года, довольно неожиданно, Сталин со свитой посетил Горького на даче, в Горках. Повод был существенный: узнать, что думают писатели и крупнейший из них о проекте новой Конституции, о строительстве метро… И вдруг Сталин с какой-то загадочной многозначительностью заговорил на тему, от которой Горького словно пробило током. И лишь сверхъестественным, гигантским усилием воли сохранил он самообладание.








