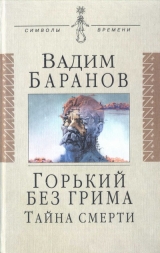
Текст книги "Горький без грима. Тайна смерти"
Автор книги: Вадим Баранов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
У нас нет прямых свидетельств о том, что Богородский по заданию соответствующих органов собирал информацию об умонастроениях писателя. Но, зная порядки, укореняемые Сталиным, который, так сказать, «собственноушно» подслушивал разговоры членов Политбюро в помещении Кремля, трудно предположить, чтобы полугодовое пребывание художника в Сорренто на рубеже 1929(!)—1930 годов не было использовано соответствующим образом.
Ну, а для тех, кого не удовлетворяет такое объяснение, – свидетельство Берберовой, сделанное уже спустя несколько лет после публикации «Железной женщины»: «В своей книге „Железная женщина“ я не могла упомянуть, потому что недостаточно была уверена, но теперь это уже опубликовано и стало известным, что моя героиня, любовница Горького Закревская-Бенкендорф-Будберг, была двойным агентом: она ГПУ доносила о Европе и английской разведке – о том, что делалось в Советском Союзе». Был Горький окружен службой ОГПУ и во время поездки по Волге в 1935 году.
Вернемся, однако, к свидетельствам Шкапы. Приведя слова писателя «окружили, обложили», мемуарист заканчивает воспоминания следующим образом: «Мне показалось – я ослышался: необычны были голос Горького и смысл его слов. Глаза тоже были другие, не те, которые я хорошо помнил. Сейчас в них проступали надлом и горечь. В ушах звучало: „Непривычно сие“».
…Пожалуй, началось это еще в Крыму. 1 декабря в Ленинграде был убит Киров. «Я совершенно подавлен убийством Кирова, – писал Горький Федину, – чувствую себя вдребезги разбитым и вообще – скверно. Очень я любил и уважал этого человека».
До сих пор в нашей печати господствует версия, авторы которой, начиная с Хрущева, не решаются идти до конца, ограничиваясь предположением об организации убийства Кирова Сталиным.
Автор книги «Большой террор» Конквест более последователен: «Сталин одобрил, если не организовал убийство Кирова», которое Конквест называет «преступлением века».
Убийство Кирова произошло в 16 часов 37 минут. После двух выстрелов его обнаружили в коридоре Смольного лежащим вниз лицом. В Москву из Ленинграда сообщили около 18 часов. В тот же день, пусть поздно вечером, раздался звонок из Москвы, в доме писателя в Крыму. Весть, которую принес Крючков из деревянного флигеля, где стоял телефон, обсуждали долго, не решаясь сообщить ее Горькому. Вдруг с дороги послышался грохот. Оказалось, по распоряжению Москвы приехала вооруженная охрана.
В тот же день, сразу? Но если свершился совершенно неожиданный террористический акт, надо все внимание сосредоточить на том, чтобы расследовать его! И до него ли, писателя, живущего за тысячи верст в каком-то Тессели? Что стоит за этим? Так ценят его жизнь? Или… не хотелось думать об этом, но предположение вновь и вновь лезло в голову. Кто-то перестарался, отдавая распоряжение об охране его, Горького, в день убийства Кирова, и тем самым давал повод думать, что для кого-то убийство Кирова не было таким уж неожиданным?..
Однако трудно предположить, что в таком деле кто-то мог перестараться. Но тогда ему дают понять, что случайности нет, и, может быть, хотят вызвать его на откровенные разговоры с окружающими?..
А может быть, все гораздо проще? Охраняют не его от кого-то, а себя от него. Не дай Бог, старик возьмет да и отколет какой-нибудь номер… Поедет куда-то, выступит где-нибудь, скажет не то, что нужно Хозяину.
Далее, мог ли Горький не обратить внимание на еще одну странную особенность разыгравшихся событий. Развернув 4 декабря «Правду», он прочитал в ней грозный указ о том, какие решительные меры (и как оперативно!) будут приниматься против этих самых террористов. Но указ-то был датирован еще 1 декабря, днем убийства Кирова! Как будто Президиум ЦИК был абсолютно готов к его принятию, так же как и Калинин и Енукидзе, подписавшие указ. Особенно озадачивал один пункт, последний, пятый: «Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение по вынесении приговора». Иными словами: обжалованию не подлежит. Речь идет о человеческой жизни, а срок следствия ограничивается десятью днями!..
Убийство Кирова заставило Горького на многое смотреть иначе. Когда Сталин боролся с Троцким и Зиновьевым, это не вызывало опасений. Но теперь все чаще начинали одолевать мрачные раздумья. Он понимал, что больше не может оставаться в бездействии. Обращался к Сталину, устроил его встречу с Каменевым у себя на квартире… Узнаем ли мы когда-нибудь подробности этой встречи? Как говорится: дай-то Бог!
А сейчас вспомним лишь некоторые факты биографии Каменева, которые не могли не обратить на себя внимание Горького и на иные из которых он мог опереться в беседе.
Это у него, Горького, в «Новой жизни» было опубликовано письмо Зиновьева и Каменева о том, что большевики готовят вооруженное восстание. Ленин тогда пришел в ярость, потребовал исключения штрейкбрехеров революции из партии (хотя не следовало забывать, что точных сроков выступления они не называли; были в принципе против – вот и выступили).
Сталин тогда не пошел за Лениным. Он защитил Каменева, опубликовал в «Рабочем пути» заметку о том, что вопрос о Каменеве и Зиновьеве с повестки дня снят.
Каменев и Зиновьев…
Горький совершенно по-разному относился к двум этим людям, имена которых с некоторых пор неизменно фигурировали вместе. И хотя он явно не одобрил бы физическую расправу ни над тем, ни над другим, но если б и стал непосредственно защищать Зиновьева, то делал бы это с гораздо меньшим внутренним расположением. Их отношения закончились полным разрывом еще в годы Гражданской войны, когда Горький отчаянно боролся за спасение интеллигенции. А Зиновьев – тот принес интеллигенции много зла. Додумался даже учинить обыск в квартире Горького на Кронверкском.
Зиновьева Ленин лишь пожурил, а дела в Питере пошли по-прежнему… Ленин не захотел ссориться тогда со своим верным соратником: ведь в годы эмиграции получилось так, что Зиновьев оказался едва ли не наиболее близок ему. И наверное, не случайно в Разливе с Лениным оказался именно он, а не кто-то другой…
В бытность Зиновьева редактором зарубежных партийных газет «Пролетарий» и «Социал-демократ» Ленин был его постоянным наставником, правил его статьи, добиваясь большей четкости формулировок, последовательности в выражении политических позиций.
Идейная близость двух политиков в предоктябрьские годы была столь велика, что они выступали как соавторы некоторых программных работ («Социализм и война»). Больше того, Ленин и Зиновьев выпускают совместные сборники статей («Из истории рабочей партии в России», «Против течения»).
Но ведь и Каменева, как работника, Ленин ценил чрезвычайно высоко! Во время болезни Ильича по его предложению Льва Борисовича сделали первым заместителем председателя Совнаркома. Он председательствовал на заседаниях Политбюро, одновременно сохраняя за собой должность председателя Моссовета (тогда принято было нести по нескольку нагрузок). Ленин оставался весьма доволен работой Каменева и говорил, что эта «лошадка» тянет сразу три воза – СНК, СТО и Моссовет.
Но и Сталин не должен был забывать тех услуг, которые оказал ему Каменев. Это он настойчивее других предлагал Сталина на пост генсека. Может быть, опирался он тогда и на какие-то свои, сугубо личные впечатления о Сталине: туруханскую ссылку они отбывали вместе и даже как-то сфотографировались в обнимку…
Правда, потом все стало гораздо сложней. Каменев выступал с решительной критикой Сталина… Но в целом положительное должно же было перевешивать!
И еще одно ценил Горький в Каменеве. Сам незаурядный литератор, автор работ о Герцене, Некрасове, Каменев, в отличие от своего соратника Зиновьева, с глубоким вниманием относился к нуждам художественной интеллигенции. Как председатель Моссовета, многих спас по ходатайству Союза поэтов: И. Новикова, А. Кизеветтера… К нему обращался даже М. Волошин из Коктебеля! Не случайно он стал организатором и первым директором Института мировой литературы…
Увы, горьковское ходатайство не дало результатов.
Да, годы 1932–1934-й, о которых исследователи склонны порой говорить как о времени почти безграничной власти Горького, остались позади. На смену им приходили совсем иные времена.
ГЛАВА XXV
Против Горького – Горький
Создаваемая вокруг писателя в последние годы жизни атмосфера тягостной дискомфортности не могла не отразиться на его творческой работе. Сказалось это решающим образом не только на «Климе Самгине», но и на публицистике. Написанное им в эту пору разительно отличается от публицистики дореволюционной – статей типа «Поль Верлен и декаденты», «Разрушение личности», «Две души» и др. В них Горький предстает как яркая, самобытная личность, обладающая четко выраженным индивидуальным миропониманием, своей философией жизни. Здесь не могло обойтись без полемических преувеличений, без заостренного выражения любимых идей (противопоставление Запада Востоку, критика МХТа за инсценировку романов Достоевского и др.). Но это был именно Горький. Так не мог написать никто.
Резкая смена жанра происходит в цикле «Несвоевременные мысли». Накаленная политическая атмосфера, в которой решалась судьба России, требовала мгновенной реакции на события. Тут было не до развернутых рассуждений философически-обобщенного типа. Преобладает оперативная оценка конкретного события, политического заявления того или иного лица, отдельного факта. Расчет – немедленное воздействие на ситуацию. Жанр совсем другой, но Горький-то все тот же – как личность, художник, гражданин.
И вот писатель возвращается на родину. Мы хорошо знаем, каким ореолом и почему было окружено его имя. Он уже не просто писатель, пусть и самый крупный. Его публицистика теперь – это своего рода ликбез, рассчитанный на массу, едва успевшую освоить грамоту. Он – носитель некой суммы истин, не подлежащих сомнению: порочность капитализма и превосходство социализма, решающая роль труда в преобразовании жизни, воспитание нового человека, борьба с природой…
Здесь Горький уже не ищет. Он щедро раздает то, чем располагает сам, переставая замечать унылую повторяемость одних и тех же постулатов.
Статьи назидательны. Популяризация сплошь и рядом перерастает в упрощение. Капиталист бережет вещи потому, что они служат ему для порабощения рабочих и крестьян… Но разве только поэтому и для этого? И вообще, в первую ли очередь для этого? Единоличник бережет потому, что хочет быть кулаком. А вот трудовой народ бережет добро потому, что это ускоряет его движение к возвышенной цели. Но разве только сейчас стало понятно, что коллективное начало, при всей конструктивности устремления к благу, рискует обернуться формулой «ничье», содержащей крайне негативные моменты.
Горький не мог не понимать этого. И порой вырывался за рамки формулы, особенно когда включал голос какого-то конкретного, живого человека. Именно такое опровержение жесткой идеологической догмы происходит в рассуждениях крестьянина, не по своей воле попавшего на Беломорканал, приводившихся нами ранее: «Плотничная работа спокойнее, а к земле – не вернусь, в колхозе я не работник, а на какой-нибудь своей десятине тоже радости не найдешь, лучше в носе пальцем ковырять».
Статья как жанр проблемный теряет свои свойства. Ее начинает теснить «жанр» официального приветствия. И кого только не приветствовал в эти славные годы Алексей Максимович! Приветствовал, искренне радуясь успехам. Первый Всесоюзный слет колхозников-ударников и Красную Армию, Уралмашстрой и харьковский завод «Серп и молот», «Крестьянскую газету» и шахту своего имени…
Неудивительно, что в статьях 30-х годов много раз встречается имя Сталина. Верного ученика Ленина, обладающего мудростью государственного руководителя. В таком духе он писал о вожде даже в 1935 году, когда находился с ним в состоянии все обостряющейся конфронтации. Так в чем же дело?
Нимало не пытаясь оправдать Горького, отметим, что рождение культа Сталина – процесс постепенный, связанный с перерождением партии. Известно, что первыми начинали непомерно восхвалять Сталина те, кто пытался противостоять ему, но потерпел поражение (такие, как К. Радек). К середине 30-х годов преклонение перед Сталиным приобрело характер обязательного государственного ритуала, а любое собрание кончалось здравицей в его честь. Ни одна мало-мальски значительная публикация в прессе не обходилась без упоминания его имени. Любая попытка миновать этот ритуал воспринималась как выражение идеологического недомыслия, а может быть, и чего-то похуже.
Что касается горьковских упоминаний вождя, то не стоит нам все же превращаться в тех оппонентов Горького, которые с детской непосредственностью восклицают: «Ага, вот упомянул еще раз!», отвлекаясь при этом от конкретных обстоятельств, в которых рождался тот или иной отклик.
Один пример из многих. С 11 по 17 февраля 1935 года в Москве проходил Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Сославшись на нездоровье, Горький уклонился от участия в нем. Свою же заметку по поводу успешного завершения съезда он закончил выражением удовлетворения по поводу того, что уверенно двигается вперед «наша родина – великая талантливостью и делом ее людей, мудростью их вождей».
Казалось бы, все в порядке, необходимый реверанс сделан… На самом же деле все обстояло совсем, совсем иначе! И опытный-то глаз умел вовремя различить едва ли не крамольное несоблюдение нормы, выражение недопустимого вольномыслия.
Что, собственно, означает фразочка о мудрости вождей? Сколько их, вождей? Пять, десять, сто? Не только страна – весь мир убедился, что у Республики Советов есть только один вождь! И именно ему, его мудрости и прозорливости обязана она всеми своими успехами, и именно он руководит «делом ее людей». И именно он определяет меру так называемой «талантливости» кого-либо из них. Хотя всем давно пора понять, что главное достоинство кадров не какая-то там «талантливость», а дисциплина, беспрекословное выполнение указаний Центра.
Вот вам и приветствие Алексея Максимовича!.. И как хитро все сделано: опубликована заметка в день окончания съезда (а не в начале, как обычно!).
Можно представить себе, какой переполох вызвало у понимающих – тех, что сидят в ответственных креслах и ни при какой погоде не собираются покидать их, – такое приветствие, опубликованное – где? Ну, конечно, в бухаринских «Известиях»! И какой разгон учинил им Сталин!
И вот срочно, на другой же день после окончания съезда, в московском Доме советского писателя устраивается встреча редакции журнала «Колхозник» и ее актива с уже нацелившимися на разъезд по домам (всю неделю заседали – непривычно!) делегатами. И там зачитывается новое приветствие Горького, которое появится завтра, 19 февраля, в «Правде», у Мехлиса.
«Миллионы крестьян, – внимали теперь делегаты, – узнают от вас о том, какие простые, хорошие люди вожди нашей страны, организаторы вашего труда: узнают, как прост и доступен товарищ Сталин, с утра до вечера присутствовавший среди вас; узнают, что эти вожди, бывшие рабочие, непоколебимые революционеры, желают только одного: чтобы всему трудовому народу Союза Социалистических Республик жилось легко, богато, разумно, весело».
Исправил или не исправил товарищ Горький свою ошибку? Он похлопал по плечу товарища Сталина, опять настаивая на том, что рядом с ним находятся еще какие-то вожди… Нужны ли товарищу Сталину такие двусмысленные похлопывания по плечу? И что на самом деле скрывается за ними?
Вскоре, как бы компенсируя недостаточную апологетичность высказанных о Сталине суждений, Горький в статье «Две пятилетки», опубликованной 9 апреля 1935 года, вынужден написать о соратниках Ленина «во главе с Иосифом Сталиным, человеком могучей организаторской мысли»… А 2 июля из-под пера Горького появляется возглас: «Да здравствует Иосиф Сталин, человек огромного сердца и ума, человек, которого вчера так трогательно поблагодарила молодежь за то, что он дал ей „радостную юность“». Это – в связи с впечатлениями от парада физкультурников 1 июля, на который Горький взирал с трибуны ленинского Мавзолея вместе со Сталиным. (Как мы помним, совсем иное восприятие коллективизма спортивной молодежи рождалось у С. Цвейга, проводившего аналогии с подобными же массовыми действами-парадами в гитлеровской Германии.)
Итак, все сводить только к подсчету упоминаний Сталина в статьях Горького не следует.
Анализируя характер взаимоотношений между главными представителями верхних этажей власти, Вяч. Вс. Иванов выдвигает даже идею «заговора» против Сталина, участником которого, наряду с Бухариным, Рыковым и даже Ягодой, будто бы являлся и Горький. Мне уже приходилось замечать, что идея «заговора» в прямом смысле этого слова мало или вовсе невероятна. Но что были попытки какого-то «сговора», совместного противостояния сталинскому единовластию, особенно после ареста Зиновьева и Каменева, – в этом сомневаться не приходится. Однако все это было скрыто от глаз, находилось где-то в подводной части айсберга, в самых нижних его напластованиях. А на виду до сих пор, увы, – печальная итоговая реальность компромисса.
Говоря о пропагандистско-ликбезовском характере горьковской публицистики, следует отметить еще одно обстоятельство, способствовавшее официализации статей писателя, придававшей им определенную директивность явно за счет ослабления индивидуально-личностного начала.
Рукопись одной из последних статей сопровождает такая довольно своеобразная карандашная приписка: «Статью можно кончить здесь, не печатая следующего – о литературе, но если статья попадет в „Правду“ или „Известия“ – обязательно включить и литературу».
На размышления наводит несколько моментов. В общем нет ничего удивительного, когда автор пишет статью, не зная заранее, где она будет опубликована. Но перед нами не просто некий автор, а сам Горький! И не может не озадачить его просительная интонация: «если попадет». Значит, у него возникали какие-то сомнения на этот счет? Да ведь и был уже недавно случай отказа печатать его полемическую статью по поводу открытого письма Панферова!
Но нас, впрочем, сейчас интересует не ослабление позиций Горького как официального лица к 1936 году – это очевидно. Важно противоположное – именно придание властями его статьям статуса официальных выступлений в течение ряда лет. Цитированная карандашная приписка показательна. Допустим, у Горького нет сомнений в том, что статья будет опубликована. Но где? Каждый автор решает такой вопрос индивидуально. А вот за Горького – другие. Каждый автор не считает этичным предлагать произведение одновременно двум редакциям. А тут Инстанция, наоборот, дает «добро» на публикацию статей Горького по меньшей мере сразу в двух газетах – «Правде» и «Известиях». Иногда же к этим основным изданиям приплюсовывались и другие – отраслевые или региональные. То есть Горький словно бы переставал быть хозяином своей творческой мысли, а превращался в «колесико» и в «винтик» огромной пропагандистской Машины, живущей по своим законам.
Тем более ценно, что ему время от времени удавалось использовать легальные возможности для выражения своего инакомыслия. Иной раз даже посредством применения своего рода эзопова языка, как в статье «О формализме». Но рассмотрим другой пример. 4 декабря 1934 года публикуется отклик Горького на убийство Кирова. Вина возлагалась на «троцкистско-бухаринских агентов международного империализма», как потом будут уверять комментаторы. Однако вот что пишет сам Горький уже в начале января 1935 года: «Семнадцать лет стража пролетариата вылавливает и уничтожает шпионов европейского капитализма. На восемнадцатом году диктатуры пролетариата убит один из крупнейших его вождей Сергей Киров».
Согласимся, одно дело, если в убийстве обвиняются те политические деятели страны, которые якобы каким-то неведомым путем стали «агентами международного империализма». Но совсем другое дело, если это шпионы-террористы, засланные извне. Горький, как может, старается отвести нелепые и грозные обвинения от тех, кто к убийству не имеет ни малейшей причастности, но неугоден Сталину.
Не будем, впрочем, преувеличивать: примеров подобного рода эзоповой речи в публицистике Горького немного, и внешне они, как говорится, не делают погоды, растворяясь в потоке официозно-умозрительных построений. А среди таковых наряду с просто банальными встречаются и такие, которые рождались в сознании Горького не случайно, являлись не следствием «подстраивания» под мнение Хозяина, а отражали его собственные ошибки и заблуждения. Другое дело, что они были очень на руку Хозяину.
По-прежнему звучат с момента публикации пресловутой брошюры «О русском крестьянстве» (1922) идеи превосходства промышленного труда над сельскохозяйственным, крайне односторонние суждения о кулаке и его вредоносности.
Возможно, наиболее уязвимое место в мировоззренческой концепции Горького – это вопрос о воспитательной роли труда в условиях лагерной системы. В главе о Соловках я пытался охарактеризовать определенную нетипичность, «показушность» лагеря (хотя не только Горький, но и любой профессиональный литератор мог бы разобраться в действительном положении вещей более основательно, чем это нашло отражение в горьковском очерке).
Но дело в том, что и позднее Горький отстаивал идею продуктивности лагерной системы «перековки» человека (делая упор, правда, на уголовные элементы). Более того, у Горького органы ЧК провозглашаются инструментом перевоспитания, а люди в форме – «работниками культуры».
В одной из последних своих статей, «От „врагов общества“ – к героям труда», Горький со странным упорством продолжает твердить обо всем этом, хотя обществу было уже ясно, что лагерная система – это прежде всего система насилия, основанная на беззаконии.
В этой воистину уникальной статье Горький пишет: «Вероятно, лет этак через пятьдесят, когда жизнь несколько остынет и людям конца XX столетия первая половина его покажется великолепной трагедией, эпосом пролетариата, – вероятно, тогда будет достойно освещена искусством, а также историей удивительная культурная работа рядовых чекистов в лагерях».
Перед нами не просто случай прогностической ошибки литератора, но пример абсолютного несовпадения предсказания с чудовищной действительностью, порожденной системой тоталитаризма.
Горький не мог знать, что вскоре после этой публикации арестуют (и дадут сполна хлебнуть всех «благ лагерной цивилизации») человека, который уцелеет чудом и поведает подлинную правду о лагерном «перевоспитании». Я говорю о Варламе Шаламове.
В одном из своих писем Солженицыну (еще до опубликования «Архипелага ГУЛАГ») Шаламов пишет: «Можно ли говорить о прелестях принудительного труда? И не есть ли восхваление такого труда худшее унижение человека, худший вид духовного растления? Лагерь может воспитать только отвращение к труду. Так и происходит в действительности. Никогда и нигде лагерь труду не учил. В лагерях нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно тяжелой физической подневольной работы».
Именно статьи 30-х годов давали повод современникам в нашей стране и за рубежом отзываться о Горьком резко критически. Показателен последовательной полемической заостренностью отзыв об одной из статей, принадлежащий Мартемьяну Рютину, смело выступившему против сталинского единовластия. Отзыв содержится в письме родным, написанным в тюремной камере в январе 1935 года. Сначала подробно излагается взгляд на убийство Кирова, а потом, следуя своей внутренней логике, Рютин обращается к Горькому:
«Прочел на днях статью Горького „Литературные забавы“! Тягостное впечатление! Поистине нет для таланта большей трагедии, как пережить физически самого себя!
Худшие из мертвецов – это живые мертвецы, да при том еще с талантом и авторитетом прошлого.
Горький-публицист всегда был тем нашим „любимым“ русским сказочным героем, который на похоронах кричит „Таскать бы вам не перетаскать!“ – а на свадьбе – „Канун да свеча!“ Горький-публицист позорил и скандализировал Горького-художника. Его трагедия – огромное художественное чутье и почти никакого философского и социологического… Схватив верхушки и обрывки философии и социологии, он сообразил, что этого достаточно не только для того, чтобы „изображать“, но и для того, чтобы теоретически „поучать“… Горький-певец „Человека“ превратился в Тартюфа. Горький „Макара Чудры“, „Старухи Изергиль“ и „Бывших людей“ – в тщеславного ханжу и стяжателя „золотых табакерок“. Горький-Сокол в Горького-Ужа, хотя и „великого“! Человек духовно уже умер, но он все еще воображает, что переживает первую молодость. Мертвец, хватающий живых! Да, трагично!»
Принять эту гневную филиппику без поправок невозможно. Характеризуя публицистику Горького, Рютин, к примеру, оставляет по тем или иным причинам вне поля зрения «Несвоевременные мысли». Но можно понять и Рютина, честнейшего революционера, чья жизнь висела на волоске, когда он прочитал в той же статье, написанной вскоре после убийства Кирова, слова о каких-то гнилых людях, убийцах, которые прячутся в рядах партии большевиков.
Вряд ли Горький знал, что не менее резкие соображения о его судьбе и связи с властью рождаются в сознании некоторых коллег, с которыми его связывали дружеские отношения. Развернутую и весьма сложную по содержанию запись на эту тему оставил в своем дневнике Пришвин. А кончается запись так: «…сила, оголенная от Бога, стала властью, и всякая такая власть есть власть над человеком, но ведь это же путь и Горького, и Сталина, и всех властолюбцев. Вот что означают хохот Легкобытова (одного из руководителей хлыстовства. – В.Б.) и улыбки Горького, Ленина, Сталина… Собственно говоря, все революционеры пали. И совершается совсем не то, о чем думали. Но тем фактичнее должно доказываться, что именно это революция и коммунизм… Итак, Легкобытов, Горький, Ленин, Сталин…».
А через какие-то две недели, в связи со слухами о «падении» Д. Бедного, Пришвин вновь обращается к фигуре Горького: «Интересно, как кончится Горький, успеет умереть до падения или тоже рухнет. Вот острие: на Красную площадь – героем или… и все оттого, сумеет ли человек умереть вовремя. Сила его в добрых делах…»
Воспроизведем наконец несколько пространных пассажей из газеты «Рассвет», имевшей демократическую направленность и издававшейся в Чикаго. Среди множества зарубежных публикаций о Горьком она имеет особенно принципиальный характер. «Передают, – пишет газета, воспроизводя сцену приезда писателя на родину в 1928 году, – что Максим Горький на Александровском вокзале в Москве, увидя перед собой живое море москвичей, пришедших его встречать, не удержался и заплакал, как ребенок.
Хотя он и Горький, но плакал не горькими слезами, а слезами радости. Плакал не о том, о чем теперь многие плачут, сидя „на реках вавилонских“, а о том, что он теперь самый счастливый человек в мире.
В наше время ведь нет человека более самодовольного. Тем более – нет и не было писателя, с которым бы носились, как носится советская власть с Горьким. На долю обожателя босяков выпал жребий пожинать почести, которым мог бы позавидовать любой корононосец.
Ни один из русских писателей не находился на таком высоком счету у государства, на котором находится Горький. Даже писатели, поэты, которых принято называть придворными, не удостаивались таких торжественных государственных почестей… О других же писателях и поэтах и говорить нечего. Большинство из них было вынуждено коротать свои дни на чужбине или же, не желая расставаться с родиной, подвергаться гонениям и всевозможным лишениям.
Но потому они и велики! Потому они и дороги для нас, что они не разделяли участи „ликующих“ и „праздно болтающих“».
В качестве примеров автор статьи вспоминает ссыльных Короленко и Чернышевского, опального Льва Толстого.
«Давно сказано, – продолжает газета „Рассвет“, – „блажен муж, иже не иде на совет нечистивых“. Он пользуется славой только сейчас. Он „выше“ только теперь – и не столько как писатель, сколько как последователь известной доктрины. Для будущего же поколения он не будет великим. Свою славу, которую он теперь пожинает, он унесет с собой. После себя он почти ничего бессмертного не оставит.
Горький умертвил себя как писатель, когда он потянулся к командным партийным высотам. Дело писателя быть с народом, а не над народом, как это теперь делает Горький. Задача писателя стоять на стороне справедливости, а не на стороне партийных интересов. Писателя должен уважать и понимать сам народ, а не правительство. Писатель и правительство – два совершенно противоположных понятия, и ни один писатель, уважающий свои призвания, не станет связывать свои интересы с интересами той партии, которая командует народом».
Авторы этих отзывов не знали и не могли знать того, что знаем теперь мы о попытках скрытого противостояния Горького Сталину, попытках, о которых – рассчитывал он – успеет когда-нибудь сказать сам или скажут потомки. Самому – сделать не удалось. Это один из самых трагических моментов его биографии.
Что же касается отзывов современников, замалчивать их, как делалось до сих пор, нельзя: они судили о том, что могли знать, и только об этом.








