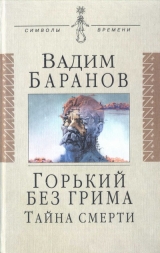
Текст книги "Горький без грима. Тайна смерти"
Автор книги: Вадим Баранов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 35 страниц)
Цель действительно достаточно странная, ведь речь идет не о покупке мебельного гарнитура. И если уж человек редко бывает в компании, он обычно держится застенчиво и, фигурально говоря, боится сесть между двух стульев.
«И вдруг засмеялся мелким смехом, старчески сморщив лицо, весь вздрагивая, потирая руки, глаза его, спрятанные в щелочках морщин, щекотали Самгина, точно мухи».
Глаза – точно мухи?..
«Шумный, красненький мужичок, сверкая голыми и тонкими ногами, летал около людей, точно муха, толкая всех…» Но муха не может толкать никого. Вообще, тут нарушаются элементарные зрительные пропорции образа.
Это – о действиях героя, его поведении. А вот о его речи.
«…Его кисленький голосок звучал твердо, слова соскакивали с длинного языка легко и ловко, а лицо сияло удовольствием». Это – о Тагильском, про которого было известно, что у него «длинный язык», то есть может наговорить лишнего. Но иносказание вдруг приобретает в приведенном примере буквальный смысл, и тотчас возникает вопрос: но что же измеряло длину этого языка? И вообще, простите за каламбур: когда человек разговаривает, он, как говорится, держит язык за зубами (тут уж – в прямом смысле слова).
«Он говорил не торопясь, складывая слова, точно каменщик кирпичи, любуясь, как плотно ложатся они друг к другу». Или: «…рассказывал о достопримечательности Астрахани тоже клетчатыми, как его костюм, серенькими и белыми словами…»
Теперь портрет. «…Он уже обеими руками забросил волосы на затылок, и они вздыбились там некрасивой кучей. Вообще волосы его лежали на голове неровно, как будто череп Долганова имел форму шляпки кованого гвоздя».
Иной раз детали портретной характеристики переносятся на неодушевленный предмет следующим образом: «Один бок могилы узорно осыпался и напомнил беззубую челюсть нищей старухи».
Могут сказать: из гигантской эпопеи можно выхватить несколько неудачных примеров. Однако все приведенные цитаты взяты только из второго тома. И к сожалению, количество подобных примеров можно было бы увеличить без особого труда, не обращаясь к другим томам…
И наряду с этим – прекрасные находки, связанные с торжеством совсем иной стилистики, запоминающиеся сразу и острые в своей реалистической точности: офицер, перетянутый ремнями, словно чемодан… Или вот это небольшое описание, связанное с пароходным путешествием Самгина. «…Город, окутанный знойным туманом и густейшими запахами соленой рыбы, недубленых кож, нефти, стоял на грязном песке; всюду, по набережной и в пыли на улицах, сверкала, как слюда, рыбная чешуя, всюду медленно шагали распаренные восточные люди, в тюбетейках, чалмах, халатах; их было так много, что город казался не русским, а церкви – лишними в нем. В тени серых, невысоких стен кремля сидели и лежали калмыки, татары, персы, вооруженные лопатами, ломами, можно было подумать, что они только что взяли город с боя и, отдыхая, дожидаются, когда им прикажут разрушить кремль».
Великолепная, точная проза! Никаких надуманностей, красивостей! И какая глубина внутренней содержательности, лишенной всякой прямолинейности при характеристике народа как мощной и грозной силы, опасной для Самгиных.
Увы, не этот стиль преобладает в романе…
И отзывы критики, и примеры из текста, приведенные в этой главе, свидетельствуют о том, что на вершину Горькому взойти не удалось. Роман нельзя считать его победой, и нам пора прямо и честно сказать об этом. Он – выражение духовного кризиса писателя, его мучительной раздвоенности и одолевавших его сомнений.
Вызволенная им с Соловков, Юлия Данзас заключает свои впечатления о «Жизни Клима Самгина»: «Горький хотел создать грандиозную эпопею, похожую на „Войну и мир“ Толстого. Ею думал он завершить свою литературную карьеру. Он работал над ней несколько лет мучительно и безуспешно. „Жизнь Клима Самгина“ – произведение тяжеловесное, плохо связанное, почти непреодолимо скучное. Свое творческое бессилие Горький ощущал с горечью».
«„Самгин“ – вещь, которую необходимо переделать с начала до конца».
Кто же вынес этот беспощадно-суровый приговор? Он сам. В чем его никогда нельзя было обвинить, так это в том, что пальму первенства он хотел удержать любой ценой. Как уже было сказано о художнике: «Ты сам свой высший суд». Воистину так.
Пожалуй, не много крупных книг рождалось в состоянии внутренне-психологической дискомфортности, прогрессировавшей столь активно, что рука писателя, объявленного при жизни классиком, начинала «дрожать». Творческий почерк стал как бы меняться. Меняться настолько, что он допускал порой огрехи, непростительные и для начинающего, свидетельствующие даже об уступках безвкусице, такой, за которую беспощадно критиковал, к примеру, Панферова.
Критикуя роман, впрочем, явно несправедливо было бы оставить в тени и те не столь уж многочисленные положительные оценки «Жизни Клима Самгина», которые раздавались в печати еще при жизни автора и ложились довольно увесистым грузом на противоположную чашу личных мнений и свидетельств (особенно если учесть, кто были авторы этих оценок). А к их числу принадлежали такие авторитетные литераторы, как Луначарский, Фадеев.
С основными своими работами о писателе: «Горький (к 40-летнему юбилею)», «Самгин» (обе – 1932 г.) – выступает в печати Луначарский. Исследователи считают даже, что этими статьями он «достойно отметил 40-летие творческой деятельности писателя, внеся огромный, до сих пор непревзойденный вклад в изучение творчества Горького, и показал подлинную силу марксистского литературного анализа»[64]64
Бугаенко П. А. А. В. Луначарский и советская литературная критика. Саратов, 1972, с. 268–269.
[Закрыть].
Ну, для начала заметим в скобках, что сам по себе юбилей вряд ли когда-нибудь бывает поводом для подлинно аналитического, по-хорошему «въедливого» анализа творчества художника. Все-таки, согласимся, критики в первую очередь поднимают высоко на щит самое положительное, значительное из опыта юбиляра, а о недостатках пишут куда скромней (если и касаются их вообще).
Впрочем, когда речь идет о критике такого ранга, как Луначарский, у читателя, наверное, всегда остается множество поводов ожидать и метких наблюдений, и сильных обобщений, вовсе не расходящихся с принципом объективности.
И подобных наблюдений и обобщений в статье Луначарского действительно предостаточно. Прежде всего они относятся, конечно, к образу Самгина и самгинщине как социальному явлению. С присущим ему блеском Луначарский возводит внешне безликую фигуру Самгина в разряд типов мирового значения: от Ричарда III до Иудушки Головлева, от Фауста до Ивана Карамазова.
Проницательно отметив, что Горький предлагает читателю какой-то новый тип повествования, в котором соединяются черты романа воспитания и исторической хроники, Луначарский все же основное внимание уделяет главному герою (нигде, слава Богу, не давая повода дальнейшему горьковедению блистать такой «новацией»: будто бы главным героем «Жизни Клима Самгина» является вовсе не Клим, а… народ. Чувствуя явную несообразность такого построения, один из авторов уточняет, что называется, из кулька в рогожку: народ является скрытым, но истинным героем повествования?!).
Разумеется, критик имеет полное право на тот или иной способ анализа образа. И Луначарский встает на путь классификации основных социально-психологических признаков Самгина, причем не всегда ему удается избежать беглой перечислительности («перейдем к другим корням и цветам самгинства»; «остановимся еще на одной выразительной и общей черте самгинства»).
Собственно говоря, такой прием как бы «навязан» Луначарскому самим внесюжетным характером повествования. Критик не может не признать этой внесюжетности, пусть и косвенно, а именно отмечая то, что становится одним из важнейших сюжеторазрушающих принципов и что было обозначено нами как внепрофессиональность героя. Отмечая эту внепрофессиональность Самгина, благоговейно настроенный по отношению к Горькому критик все же не может удержаться от едкой ироничности: «Клим что-то вроде юриста, он что-то такое вроде писателя (что-то такое вроде?! – В.Б.); если бы его назвали праздным бездельником – он бы, наверное, крепко обиделся. Он работает. Он ищет работы (так работает или ищет? – В.Б.). Но во всей его „Жизни“ вы не найдете ни следа какой-либо полезной работы…» Прояви критик в данном случае большую профессиональную последовательность, ему пришлось бы невольно заводить речь о недостаточной энергетической напряженности повествования, о малой его увлекательности, подтверждением чего служат приводившиеся многочисленные отзывы читателей.
Как уже сказано, статья о «Климе Самгине» была написана к юбилею, чем вызвана хотя бы отчасти ее панегирическая тональность. Но на характер последних выступлений критика о Горьком не могли не наложить некоторого отпечатка по крайней мере еще следующие два обстоятельства.
В 1928 году, как известно, лихие рапповцы, опираясь на то, что Горький не пишет о нынешнем рабочем классе и вообще ушел от современности, отказывали ему в праве называться пролетарским писателем. И вот Луначарский немалую долю своей неиссякаемой эрудиции и, увы, уже иссякающей творческой энергии направляет на развенчание этого тезиса. Надо отдать ему должное: мысль эту он сформулировал с воистину монументальной основательностью: «Огромное, исключительное значение Горького заключается в том, что он является первым великим писателем пролетариата, что в нем этот класс… впервые осознает себя художественно, как он осознал себя философски и политически в Марксе, Энгельсе и Ленине».
Тезис, что и говорить, весомый, но возникает маленькая незадача. Тактически он несколько припозднился: возник на грани роспуска РАППа, когда была дана команда прекратить обособление писателей в особую пролетарскую организацию и считать их литераторами высшего ранга. Ставился вопрос о создании единой советской литературы, вдохновляемой общими идеями социалистического строительства. Так что тезис был более обращен назад, чем вперед.
И другой важный момент, который не мог не наложить определенного отпечатка на поздние статьи Луначарского о Горьком и связанный со сложностью их предшествующих личных отношений.
Анатолий Васильевич, натура блестящая, увлекающаяся, ценил острое словцо и не лез в карман за таковым ради полемического заострения. И вот тут у него произошло два крайне неприятных, как мы выражаемся сейчас, прокола.
В одной из газет еще в 1926 году, в пору, свободную от юбилейной шумихи, Луначарский выступил с довольно хлесткой театральной рецензией на постановку пьесы Горького «Фальшивая монета». В ней, как говорится, «ради красного словца он не пожалел родного отца». Вот что вышло на свет Божий из-под пера наркома: «Уж подлинно можно сказать, что если страна ждет от Горького ценного подарка, то в этой пьесе она получает уплату своего долга „фальшивой монетой“».
Луначарский почему-то упустил одну «мелочь»: пьеса написана еще в 1913 году, и, естественно, в этом содержался ответ на вопрос рецензента: «Почему нет в ней никакой революции?»
Рецензия, естественно, привела Горького в негодование («возмутил меня министр народного просвещения»).
Но, как известно, беда никогда не приходит одна. Луначарский же – опять-таки как нарком – выступил в роли автора вступительной статьи к собранию сочинений Горького – работы, требующей особой ответственности и величайшего профессионализма. Будучи занят тысячей дел и понадеявшись на свой опыт, Луначарский статью скорее не написал, а составил, скомбинировал из своих предыдущих статей, рецензий, речей (использовав помощь подручных).
Это была не просто профессиональная небрежность, но и политический промах, на что вынужден был ему намекнуть заведующий Госиздатом Халатов, сказавший, что работа, скомпонованная критиком из ранее написанных, «ни в какой мере не гармонирует с той оценкой, которую нашли Ваши труды в советской прессе в дни юбилея».
Произошел случай, не столь уж частый в издательской практике: предисловие пришлось изымать из уже готовых томов и спешить, чтоб первый том с новой статьей вышел не позднее второго. Луначарский был достаточно опытным литератором и руководителем, чтобы понимать, какого масштаба с ним случился конфуз, насколько не попал он «в струю». Он поторопился реабилитироваться, хотя бы частично, и попытался выступить в 1928 году в «Известиях» со статьей в поддержку Горького против бестактного выпада рапповцев.
А его самого удар ожидал двойной: статью в «Известиях» не опубликовали! А ведь в ней, исправляя свои грехи и набирая утраченный ранее пафос, Луначарский пытался прямо заявить: «Я пишу здесь не только от своего имени».
Так вот… Те, от чьего имени пожелал высказаться нарком, отказали ему в этом праве. Что и говорить, удар!
Но возможностей выступать «не от своего имени» у Луначарского отныне вообще становилось все меньше, а в сентябре следующего, 1929 года, он был смещен с поста наркома. Одним из заместителей нового наркома, как мы знаем, становился Ягода…
Вот в этих-то обстоятельствах «проколов» и неудач, связанных со странным непониманием политической стороны горьковского юбилея, тех надежд, которые возлагал Сталин на возвращение писателя, и предпринял бывший нарком, попавший в опалу к Хозяину, еще одну, последнюю, попытку вернуть свое реноме через оценку творчества Горького.
Теперь, в сущности, требовалась уже не столько литературная критика в собственном смысле слова. Требовалась, так сказать, критика-госзадание. Да, вообще говоря, во многом именно такой и становилась вся критика того времени. Исследователи истории литературной журналистики, характеризуя, например, журнал «Новый мир», пишут: «Распространение идеологии культа личности особенно тяжело сказалось на критике… В 1932 году (год публикации последних, „основных“ статей Луначарского о М. Горьком. – В.Б.) критика вообще исчезла со страниц „Нового мира“. Достаточно сказать, что в журнале было помещено всего шесть рецензий».
Перечитывая сегодня статью «Самгин», довольно легко обнаружить в ней тот внешненакладной, полемически-служебный слой, который и был вызван охарактеризованными обстоятельствами.
Еще в написанной в 1928 году статье «Максим Горький», когда увидел свет лишь первый том эпопеи, Луначарский почему-то с большой долей уверенности предрекал ее финал, словно бы вольно или невольно наталкивая автора на мысли о таком его исходе: «Закончит ли Горький свою большую художественную хронику тем, что Самгин, словно нечистая сила, „исчезает“ в лучах прожекторов того броневика, на котором Ильич въехал в будущий Ленинград, неся с собой победу пролетариату, или продвинет Самгина в ряды вредителей, где ему честь и место, – во всяком случае, все мы, читатели Горького, будем ждать дальнейших томов великолепного труда».
Мотив вредительства, мимолетно брошенный в 1928 году, получил свое дальнейшее развитие в статье «Самгин». «Несомненно, – писал экс-нарком, – с психологией вредительства, как она выразилась во время известных процессов, у Самгина удивительно много общего». Но воистину непредсказуем дальнейший ход мысли критика: «Допустим, что вредительство ликвидировано. Можно ли в этом случае сказать, что ликвидировано самгинство? Нет! Самгинство тоньше, летучей». А по твердому убеждению критика, «законченное самгинство, целостное самгинство, должно быть уничтожено».
Статья Луначарского содержит темпераментную полемику с лагерем эмиграции, откликнувшимся на юбилей Горького в 1928 году. В первую очередь он обрушивается на Ек. Кускову, которая опубликовала статью «Обескрыленный сокол». Ту самую Кускову, с которой Горький познакомился еще в 1893 году во время ее ссылки в Нижний Новгород… Ту самую Кускову, которая с готовностью включилась в помощь большевикам по борьбе с голодом в 1921 году, но была, как и все члены Помгола, вскоре арестована. А первым, кто прибежал предупредить ее об аресте, готовящемся большевиками, как уже упоминалось, был Горький…
«Конечно, г-жа Кускова полна ненависти к Горькому, – пишет Луначарский. – Она формулирует ее очень развязно: Горький официальный бард Советской власти. Советская власть ненавидит интеллигенцию и искореняет ее, и ненависть эта взаимна.
Г-жа Кускова берет на себя колоссальную смелость говорить за Советскую власть и за тысячи и тысячи интеллигентов, работающих в СССР.
Сложную, временами скорбную главу романа интеллигенции с народом, написанную после 17-го года, г-жа Кускова, разумеется, не понимает никак. Она радостно поддакивает тов. Сталину, когда он говорит, что среди рабочих есть такие элементы, которых весь опыт глубоких разочарований привел к огульному озлоблению против интеллигенции».
Думается, дальше продолжать этот пассаж не имеет смысла, потому что перед нами не полемика, подразумевающая какие-то аргументы, а в лучшем случае отповедь.
Вряд ли Горький был в восторге, читая эти места статьи Луначарского, так как он уже имел собственный эпистолярный обмен мнениями с Кусковой по тому же вопросу, и отвечать на ее обвинения по существу ей лично для него было гораздо труднее, чем просто ниспровергать их, находясь по ту сторону границы…
Вообще, Горький отлично понимал, какую роль в появлении подобных статей имеют «обстоятельства» и как эти же обстоятельства служат основой для построения мифов. Потому-то его не очень умиляли начавшиеся появляться в том же 1932 году восторженные высказывания некоторых литераторов, например Фадеева, человека, безусловно, одаренного: «Ваша вещь, Алексей Максимович, гениальна в самом простом и полном смысле этого слова…»
В таких условиях постепенно и рождался миф о великой, гениальной эпопее. Надо же было иметь такой эпохе произведение под стать ей! Правда, находились поначалу несознательные, «задиры» из той же рапповской молодежи, которые, будучи загибщиками и упрощенцами в большинстве вопросов творчества, еще не успели уговорить себя не замечать обволакивающую жизнь идеологическую фальшь. Тот же Авербах в дни возвращения Горького, не слишком-то стесняясь в выборе выражений, писал о «неумеренных… и недостаточно искренних восторгах, ахах, охах и прочих юбилейных восклицаниях»; «о разливанных морях патоки». Так оно, конечно, и было. Но Авербаха мгновенно осадила «Правда», в статье В. Астрова «Горький и комчванята». Как уже говорилось, статью Луначарского по тому же поводу отвергли; зато в последующей «шахматной партии» ему отводилась роль тяжелой фигуры.
И он, Луначарский, взял на себя эту, скажем прямо, неблаговидную роль, вставая на путь совершенно очевидных преувеличений. Он писал: «В „Жизни Клима Самгина“ получается такое необъятное богатство красок, сведенных в конце концов к одной большой гармонии, к одному большому целому, какое мы вряд ли можем представить в любом ином произведении. „Клима Самгина“ можно противопоставить „Войне и миру“ и всякой другой великой эпопее». Заметим: даже не сопоставить, а противопоставить! Словом, родилось своего рода эталонное произведение, роман-шедевр, образец для подражания…
Вот как уже современный исследователь определяет стратегическую роль подобных статей Луначарского для развития горьковедения: «За последующие годы появилось много монографических работ о „Жизни Клима Самгина“, но среди этой большой литературоведческой флотилии небольшая статья Луначарского сохраняет положение флагмана. Почти все позднейшие исследователи горьковской эпопеи опираются на нее и развивают ее тезисы»[65]65
Трифонов Н. А. А. В. Луначарский и советская литература. М., 1974, с. 484.
[Закрыть].
Да, такому флагману не страшны были никакие рифы и мели. А за ним – и всей эскадре тоже. Маршрут был рассчитан точно. Лоцманское искусство – не подлежало сомнению. Метеосводки – безошибочно точны. Ни одно облачко не могло затемнить неба государственной культуры…
Ну, а жизненный маршрут самого «капитана флагмана» сломался довольно круто.
В 1933 году ему, тяжелобольному, на исходе шестого десятка, предложили выехать послом в Испанию. Так сказать, почетная ссылка. И это накануне съезда писателей! Благословенная Испания была ему настолько не нужна, что он скончался, не доехав до Мадрида, в местечке Ментона (Франция). Похоронен он, как и полагалось в таких случаях, на Красной площади…
Драму жизни Луначарского последних лет еще предстоит написать.
А Горький, он никак не откликнулся на горестную весть, пришедшую из Ментоны. Ни в момент ее получения, ни позже…
ГЛАВА XXIV
Гений и злодейство
В последние годы Горький все отчетливее ощущал, что происходит вокруг него что-то странное, труднообъяснимое. Словно какие-то недобрые силы неумолимо затягивают и затягивают петлю, все более ограничивающую свободу движений. Какой-то гордиев узел… А у него уже нет сил, чтоб поднять меч и разрубить его. А развязать – развязать такой узел вообще невозможно.
Как-то позвонил старый друг еще по издательству «Знание» Константин Петрович Пятницкий. Сообщил с недоумением и тревогой, что приходили, забрали всю его переписку с Горьким. Возмутился, имел объяснение с Ягодой. «Все уладим, не беспокойтесь, Алексей Максимович!» Но какого черта: надо не улаживать, а не допускать таких нелепостей вообще!
Или – совсем другая история. В общем – приятная. Но и тут в бочку меда не забыли влить ложку качественного «ароматного» дегтя. Это – приезд Герберта Уэллса.
Приглашая его в Советский Союз, Сталин прекрасно понимал, что ставит Горького в двусмысленное положение… Впрочем, как всегда, Сталин одним разом, одновременно решал несколько задач…
Начать с того, что Уэллс уже бывал в Союзе, причем в самые трудные времена, в голодном и холодном 1920 году. Тогда он нанес визит Ленину, назвав его кремлевским мечтателем и написав потом книгу «Россия во мгле».
Теперь, успешно наращивая темпы индустриализации, страна уверенно освещала свой путь в будущее заревом многих электростанций, огнями могучих заводов и фабрик…
Тогда, в 1920-м, Уэллс остановился у своего друга, в Петербурге, на Кронверкском. Там и произошло его знакомство с Марией Игнатьевной Закревской-Будберг, незадолго до приезда Уэллса вошедшей в горьковский дом. Она отлично знала английский и служила Горькому и Уэллсу переводчицей в их многочасовых беседах.
О, им было что вспомнить! Может быть, именно Уэллс оказался первым европейским литератором, которого с Горьким связало личное знакомство. Случилось это еще в 1906 году в Америке, куда Горький приехал по заданию партии для сбора средств. Тогда пресса всячески раздувала скандал вокруг того, что брак Горького и Марии Федоровны Андреевой не зарегистрирован.
Потом писатели встречались в Лондоне, где Горький принимал участие в работе V партийного съезда…
Но больше всего – в 1920-м. Говорили они, конечно, о революции, социальной справедливости, войне и мире, будущем Европы и человечества.
Потом Горький оказался в Италии, и Закревская – вместе с ним. В общей сложности их союз длился двенадцать лет. Горький окончательно покидал Апеннины в 1933 году. После долгих обсуждений сложившейся ситуации они решили расстаться. Мария Игнатьевна выбрала Англию, где и соединила свою жизнь с Уэллсом. (Туда же по договоренности с Горьким она увезла ту часть его архива, которую невозможно было перевозить на родину.)
И вот теперь, в 1934-м, спустя всего лишь год после приезда Горького в СССР и их расставания с Мурой, писателю предстояла встреча с английским другом.
Вообще говоря, в тридцатые годы Сталин встречался с несколькими европейскими писателями (Эмилем Людвигом, Р. Ролланом, Л. Фейхтвангером, Б. Шоу). Все эти встречи имели чисто политическое значение. Приезд же Уэллса не мог не внести дополнительного дискомфорта в жизнь Горького, в его быт…
Впрочем, какие это все-таки пустяки в сравнении с тем, что происходило в стране, как складывались судьбы ее руководителей. Помнится, еще в 1929-м он отправил Сталину письмо, проникнутое глубочайшей озабоченностью по поводу того, что наиболее авторитетные большевики-ленинцы вдруг объявляются «еретиками». Теперь, в середине 30-х, обстановка становилась все более тревожной.
Как-то в доме Горького заговорили о Пушкине, о его «Маленьких трагедиях».
– Пушкин понимал, что «гений и злодейство две вещи несовместные», и потрясающе глубоко выразил это в «Моцарте и Сальери», – сказал Горький. – Да, гений и злодейство две вещи несовместные, ибо гений служит коллективу, он не идет дорогой зла! А злодейство – это канонизация себялюбия, заклятый враг коллектива.
Кто-то из собеседников возразил, сославшись на пример Александра Македонского, Цезаря, Наполеона.
Горький разгорячился:
– Это не гении, а мясники! И даже не очень умные! Гений подлинный всегда благоволит человеку! Он всегда с народом, болеет его нуждами, стоит за народ. А они? Честолюбие пожрало их, как змея змеенышей…
Какая-то тягостная атмосфера в последние годы все более воцарялась в доме. Стал часто бывать нарком внутренних дел Ягода, как бы на правах земляка. Говорили, что секретарь Горького Крючков связан с ним. «В доме Горького приблизительно с 1933 года стали ощутимо господствовать Ягода и его подручный Крючков». (Дневник Михаила Слонимского.) Поэт Н. Клюев сообщал из ссылки в 1935 году: «Горькому я не писал – потому что Крючков все равно моего письма не пропустит».
Подробную характеристику дает Крючкову Роллан в своем «Московском дневнике». Этот человек вошел в жизнь Горького еще в 1918 году, чрезвычайно трудную для писателя пору, вошел, чтоб посвятить собственную жизнь ему. «Можно сказать, он пожертвовал своей жизнью для него. Именно через его руки проходит вся корреспонденция, адресованная Горькому». В другом месте дневника Роллан вновь обращается к фигуре Крючкова: «Горький позволил запереть себя в собственном доме из преданности своему маленькому кружку и поддаваясь чрезмерно деятельному усердию своего секретаря Крючкова, которому удалось нейтрализовать его. Ведь, несмотря на реальную помощь Крючкова, мне приходится с сожалением признать, что установленная им блокада прискорбна. Крючков сделался единственным посредником всех связей Горького с внешним миром: письма, визиты (вернее, просьбы посетить Горького) перехватываются им, одному ему дано судить о том, кому можно, а кому нельзя видеть Горького (вдобавок Горький, не читающий ни на каком иностранном языке, находится всецело во власти переводчиков). А та молниеносная быстрота, с которой через Крючкова во время моего пребывания в Москве передавались некоторые мои письма и слова Сталину, Ягоде и другим, и быстрота их ответов!..
Эти факты заставляют меня думать, что он тайно связан с центральной организацией партии. Не впадая в крайности белогвардейских газет в отношении Крючкова (о которых он сам нам рассказывал), надо признать, что искренний друг Горького, безгранично преданный ему, Крючков располагает им по своему усмотрению и в соответствии с установками партийного руководства. Они ему кажутся, вне всякого сомнения, очень верными. Досадно, однако, что он не дает Горькому возможности самому решить, насколько они для него годятся. И эта опека тем досаднее, что, судя по всему, Крючков человек крайне ограниченный, фанатичный и безапелляционный. Надо быть таким слабовольным, как Горький, чтобы подчиниться ежесекундному контролю и опеке. Они избавляют его от многих забот, но какой ценой?! У старого медведя в губе кольцо».
Тот факт, что Крючков лишал Горького общения вовсе не с досужими визитерами, стремившимися к встрече со знаменитостью, а с людьми, представляющими для писателя интерес, подтверждает, к примеру, свидетельство Воронского (мы знаем, как высоко ценил писатель его деятельность в литературе).
«С осени 1931 года мои встречи с Горьким прекратились. Произошло это таким образом. Перед отъездом на отдых в Крым я позвонил Горькому, хотел с ним проститься. К телефону, как обычно, подошел Крючков и сообщил, что Горькому неможется и что он примет меня дня через два, как только оправится. Я позвонил дня два спустя, и опять Крючков сказал, что Горький болен. Я уехал, не повидавшись с ним. По возвращении из Крыма я опять звонил ему. Крючков сказал: „Горький занят постановкой „Егора Булычова““, – и пообещал позвонить сам, как только Алексей Максимыч освободится. Этим обещанием дело и окончилось. Чему приписать перемену в отношениях ко мне Горького – не знаю. Вероятно, Крючков более осведомлен, чем я, на этот счет. Строить по этому поводу догадки и предположения считаю несвоевременным и излишним.
Я сперва был в обиде на Горького, но потом совершенно освободился от этого чувства».
Как-то, когда Крючков вышел из комнаты, Горький признался своему помощнику по журналу «Наши достижения» И. Шкапе: «Устал я очень… Сколько раз хотелось побывать в деревне, даже пожить, как в былые времена… Не удается. Словно забором окружили – не перешагнуть!.. Окружили… обложили… ни взад, ни вперед! Непривычно сие!»
Из письма Халатову, ноябрь 1935 г.: «А я чувствую себя живущим в ссылке. Не жалуюсь, но – обидно жить, ничего не видя».
Ссылка… При желании можно было назвать это домашним арестом. И вспоминался опять тот давний арзамасский снимок с полицейским у крыльца, снимок, вовсе уже не казавшийся теперь смешным и безобидным…
Вряд ли Горький знал, что уже давно Хозяином контролируется каждый его шаг. Делается все, чтоб фиксировать каждое его суждение.
…В 1929 году к нему в Сорренто приехал художник Федор Богородский. Встретились они поначалу осенью, в Берлине, по возвращении Горького из Советской России. Встречу организовала Мария Федоровна Андреева, работавшая там в торгпредстве.
Мог ли Горький остаться равнодушным к этой встрече? Он уже знал, что после обилия впечатлений от пребывания на родине будет тосковать в благословенной Италии по соотечественникам. А тут не просто соотечественник – земляк, с отцом которого он был знаком еще тысячу лет назад! Тогда, в Нижнем, еще в дописательскую пору, служил делопроизводителем у присяжного поверенного А. Ланина, а отец Богородского – помощником адвоката.
Разговорились, вспомнили прошлое… Федору Богородскому было чем поделиться: еще бы, он успел поработать цирковым акробатом, выпустить книжку задиристых футуристических виршей с агрессивным заголовком «Даешь!», был военным летчиком, а потом воздушный океан оставил в пользу водной стихии – стал комиссаром военной флотилии. О вехах пройденного пути повествовал столь колоритно, что беседу пришлось прервать, чтобы продолжить потом… в течение полугода, в Сорренто, куда Богородский приехал по приглашению Горького.
В Берлине он предпочел не акцентировать внимание великого земляка еще на некоторых «деталях» своей биографии: в Нижнем служил в ЧК, а потом заведовал особым отделом Губчека в Оренбурге. «…Иногда мы ходили гулять по шоссе, – вспоминает Богородский. – О чем мы только не говорили во время этих прогулок! И о Сильвестре Щедрине – замечательном русском художнике, похороненном в Сорренто, и об Александре Иванове, прожившем почти 30 лет в Риме, и о виртуозном мастерстве К. Брюллова, и о мрачном, „ядовитом“ таланте Ф. Достоевского, и о поэтическом даровании Р. Роллана… И, конечно, больше всего говорили о нашей Родине, о Москве, о старом Питере, о Нижнем Новгороде, о Волге…»








