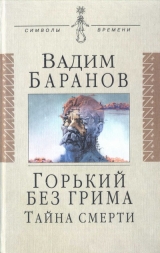
Текст книги "Горький без грима. Тайна смерти"
Автор книги: Вадим Баранов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
В грандиозном спектакле, разыгрываемом по сценарию Железного Хозяина, амплуа могли меняться по ходу действия, в любой момент… И финал этого спектакля выглядит достаточно символично.
…Однажды Емельян Ярославский, один из руководителей пропагандистского ведомства, вызвал к себе молодого живописца Налбандяна и, вручив ему письмо на имя наркомвнудела Ягоды, послал на Лубянку. Выяснилось, что этот визит не угрожает художнику никакими неприятностями. Более того, он получил крайне выгодный официальный заказ, до которых, заметим, стал столь охоч впоследствии, что превратился едва ли не в первого придворного живописца. Предстояло написать монументальное, если не по количеству действующих лиц, то уж во всяком случае по их значимости, полотно – Сталин, Ворошилов, Киров и Ягода на Беломорканале.
Налбандян трудился в поте лица, сделал более ста эскизов… Ворошилов охотно позировал сам в белом кителе. Хозяина заменял грузин-натурщик… С Ягодой было проще – с ним с первым и состоялось личное знакомство живописца. И вот когда картина была уже почти закончена, оставалось сделать лишь последние мазки, однажды, развернув поутру газету, Налбандян остолбенел: Ягода оказался врагом народа!
То ли Хозяин был милостив, то ли картина очень нужна, но ее создателю ничего не было за связь с врагом народа. Приказали просто убрать Ягоду с полотна. Убирать – не рисовать. Вызвали реставраторов, которые «все подчистили». На том месте, где стоял человек, теперь на перилах висел плащ… Цветовое пятно оказалось нужно для равновесия композиции…
Подобная же участь постигла многих других руководителей НКВД, имевших отношение к строительству канала (как ранее – к Соловкам).
Вспоминая о судьбе репрессированной Сталиным верхушки НКВД, думается, не стоит всех погибших ставить на одну доску с Ягодой. Среди них были люди, по-настоящему преданные делу, достаточно образованные, энтузиасты строительства нового общества. Этим и объясняется симпатия Горького к таким, как М. Погребинский, руководитель детской колонии в Болшево, как тот же Макаренко.
Такие люди не вписывались в грандиозные планы Сталина, создававшего систему Гулага, охватывающую всю страну. Стали нужны слепые исполнители Его воли, способные на все, вплоть до самой разнузданной жестокости. И он энергично подбирал и «воспитывал» таких людей, убирая ставший теперь неугодным слой руководителей с идеями. Идея утверждалась одна – преданность вождю. Все должны были проникнуться ею в равной мере. Чтобы легче было тасовать кадры, как карты, устраняя по мере необходимости тех, которые знали слишком много.
ГЛАВА XVI
Ослепленность
Участники экспедиции по каналу столкнулись с человеком, которого менее всего можно было бы ожидать в местах заключения.
Это был поэт Сергей Алымов, автор текста полюбившейся миллионам песни «По долинам и по взгорьям». Удивились: как он попал сюда? По настроение гостей было столь лучезарным, а представление об условиях, в которых оказывались интеллигенты, таким смутным, что А. Безыменский, под общий смех, пошутил:
– Сережу прислали таскать тачку по долинам и по взгорьям.
Если б тот же Безыменский мог хоть ненадолго поставить себя на место Алымова, он бы, наверное, написал новую главу в свою поэму «Трагедийная ночь»…
В ответ на вопрос, за что же все-таки попал сюда Алымов, тот только махнул рукой и, заплакав, полез на верхние нары. Что он мог сказать в присутствии Фирина?
За что мог быть осужден Алымов? Тогда сажали за рассказанный анекдот, за ироническую интонацию в словах о том или ином головотяпском распоряжении местного начальства (посягательство на авторитет Советской власти!) и т. д.
Сколько людей, подобных Алымову, очутилось за колючей проволокой, мы не знаем… Но хотя бы еще об одной изломанной человеческой судьбе не сказать нельзя.
Отрывок из письма.
«Очень хочется рассказать тебе, что я придумал в области диалектики теории функций комплексного переменного. Помнишь, когда-то, лет 7–8 назад, когда ты занималась теорией аналитических функций, ты обратила мое (и свое) внимание на ряд чрезвычайно загадочных и глубоких в философском отношении учений в этой области. Теперь многие из этих учений (интегрирование по контуру, теоремы Моавра, Грина, Спокса и мн. др.) я продумал философски и привел их в стройную диалектическую систему. Надо обязательно дать тебе их на проверку и на благословение, так как все эти мысли – из нашей общей с тобою науки, которая есть сразу и математика, и астрономия, и философия, и общение с „вселенским и родным“ (как сказал бы Вяч. Иванов). Книга эта по диалектике аналитич. функций, написанная мною пока в уме, посвящена, конечно, тебе. Да и какая теперь книга моя не будет посвящена тебе?! Все ведь освящено памятью о тебе, и все делается ради будущей встречи и жизни с тобою. Помнишь, как у тебя зародилась любовь к математике под влиянием твоего гимназического учителя. И помнишь, как ты под влиянием встречи со мною полюбила философию и музыку. Пусть обстоятельства жизни еще не привели тебя к тому, чтобы ты создала что-нибудь самостоятельное в математике и философии. Но ведь все то, что создавал я, принадлежит тебе не меньше, чем мне. И никому другому, как тебе, я обязан тысячью отдельных мыслей и чувств, отдельных теорий – рассудочных и опытных. Кроме того, мы слишком любим с тобою математику, чтобы сделать из нее ремесло. Радость моя, – Имя, Число, Миф – стихия нашей с тобой жизни, где уже тонут отдельные мысли и внутренние стремления и водворяется светлое и безмысленное безмолвие вселенской ласки и любви».
Можно подумать, что письмо о сложнейших проблемах науки, завершающееся словами о «вселенской ласке и любви», написано откуда-нибудь из санатория или дома творчества.
Таким «домом творчества» стал Беломорканал для автора цитированного письма, выдающегося русского философа и филолога Алексея Федоровича Лосева (с чувством какого чисто профессионального отвращения должен он был выводить на конверте исковерканные «неологизмы», отнюдь не обогащающие русский язык: «Свирлаг (Белбалтлаг) – Боровлянка (Сиблаг)…». (Письмо от 22 января 1921 г.) «Человек – вечная проблема, которая вечно решается и которая никогда не будет решена… А зачем окончательное решение? Чтобы перестать стремиться? Чтобы перестать быть проблемой?»
Энциклопедически образованный ученый, Лосев, увы, не усвоил одной простой истины: если человек и был вечной проблемой, то наступил в истории цивилизации такой «заветный» момент, когда проблема эта оказалась решенной раз и навсегда. И это скоро докажет другой философ в своем гениальном труде «О диалектическом и историческом материализме», который украсит «Краткий курс» истории партии.
А пока таким, как Лосев, место там, где исчезает дух вольномыслия, где приучаются думать не так, как хочется, а так, как надо.
Что ж, было немало и таких, кто, уцелев и оказавшись на свободе, начинал мыслить именно так, усвоив самую главную истину: плетью обуха не перешибешь. Были, однако, и другие… Те, чья мысль не могла смириться, не могла перестать быть мыслью, а не ее официальным подобием. Человеческая мысль всегда свободна, и именно здесь – главное выражение свободы человеческого духа. Но мысль всегда ищет скорейших и наиболее полных путей своей самореализации. И тут таится источник внутреннего протеста, ведущего в конце концов к дерзновенному бунту, к попытке переделать обстоятельства, устранить препятствия на пути мысли…
Зэк Лосев, ночной сторож лагерных сараев, слушая монотонный скрип снега под ногами, погружался в созерцание безмерного звездного неба, и его начинала одолевать ни с чем не сравнимая жажда жить, страстное желание постичь тайны вселенского бытия и написать книгу «Звездное небо и его чудеса». Но приходилось возвращаться на грешную землю и с чем же сталкиваться на ней? Лосев пишет жене спустя месяц после того письма, которое мы уже цитировали:
«19 февраля 1932 г. Свирлаг – Боровлянка.
В расцвете сил, на пороге новых и еще небывалых творческих работ, мы зверски избиты и загнаны в подполье – кем же?
Не скрою от тебя (и не хочу, не могу скрывать), что душа моя полна дикого протеста и раздражения против высших сил, как бы ум ни говорил, что всякий ропот и бунт против Бога бессмыслен и нелеп. Кто я? Профессор? Советский профессор, которого отвергли сами Советы! Ученый? Никем не признанный и гонимый не меньше шпаны и бандитов! Арестант? Но какая же сволочь имеет право считать меня арестантом, меня, русского философа. Кто я и что я такое? И еще страшнее вопрос: что я буду через с 10 лет и даже не через 10, а через 5, через 3 и даже через год? Озлобление и духовное оцепенение, нарастающее изо дня в день, может привести к непоправимой духовной катастрофе, из которой уже нельзя будет выбраться на прежний путь. Я закован в цепи в то время, как в душе бурлят непочатые и неистощимые силы и творческие порывы, в уме кипят и напирают новые, все вечно новые и новые мысли, требующие физических условий для их осознания и оформления, а сердце, несмотря на холод и тоскливые сумерки теперешней моей жизни, неустанно бьется в унисон с какими-то мировыми, вселенскими пульсами, манящими в таинственную даль небывалых чувств, восторгов, созерцаний, красоты и силы духовных взлетов, умиления и подвига. Я меньше всего устал. Не чувствую никакой усталости. Наоборот, ощущаю кипение духовных и душевных сил и напор к работе, к творчеству… но невозможность проявить себя… удручает меня, озлобляет, обворовывает мою душу, лишает ясности самообладания и производит изнасилование свободно развивающегося духа».
Лосева арестовали в 1930 году, и полтора года он провел во внутренней тюрьме на Лубянке. В 1931 году, после выступления Л. Кагановича на XVI съезде партии, был осужден на 10 лет лагерей. Однако в 1933 году его освободили и даже сняли судимость.
В лагере Лосева ожидал страшный удар: он почти ослеп. А в 1941 году фугасной бомбой был разрушен дом, где жил ученый, погибли родные, были уничтожены рукописи, книги.
Жестокость судьбы казалась неимоверной… Но Лосев продемонстрировал невиданное величие духа. Теперь он диктует все свои книги, обратившись в первую очередь к проблемам эстетики. Так рождается фундаментальная «История античной эстетики» в 6 томах, за которую бывший зэк Белбалтлага в 1986 году был удостоен Государственной премии. Таков беспрецедентный результат одной несостоявшейся «перековки».
Великий писатель Горький и зэк Лосев в принципе могли встретиться в 1933 году на строительстве канала. Однако заочная их «встреча» произошла несколько раньше, 12 декабря 1931 года, когда Горький в одной из своих статей довольно пространно высказался о Лосеве. Вот отрывок из этой статьи.
«Среди буржуазных „мыслителей“ есть группа особенно бесстыдных лицемеров, их ремесло – сочинять книги о великих заслугах христианства в истории культуры, причем они забывают о поразительном изуверстве церкви Христовой, непрерывной пропаганде ею ненависти ко всем иноверцам, о садизме ее бесчисленных инквизиторов, забывают о неисчислимых ужасах „религиозных“ войн, о том, что эта церковь освящала рабство и крепостное право… В рукописной копии нелегальной брошюры профессора философии Лосева „Дополнение к диалектике мира“[48]48
Опечатка. Следует: мифа.
[Закрыть] сказано то самое, что ежедневно печатается в прессе политиканствующих эмигрантов, предателей трудового народа в прошлом, готовых предать его еще раз и завтра. Не считаясь с тем, что даже классовые враги Союза Советов признают факт культурного возрождения русской трудовой массы, философ Лосев пишет: „Россия кончилась с того момента, как народ перестал быть православным. Спасение русского народа я представляю себе в виде „святой Руси““. Но что же такое, по мнению Лосева, представляет русский народ? Народ этот он характеризует так: „Рабочие и крестьяне безобразны, рабы в душе и по сознанию, обыденно скучны, подлы, глупы. Им свойственна зависть на все духовное, гениальное, матерщина, кабаки и циничное самодовольство в невежестве и бездействии“.
Нечего сказать – красивенький народ! И если б профессор был мало-мальски нормальный человек, он, разумеется, понял бы, что из материала, столь резко охаянного им, невозможно создать „святую Русь“, понял бы и – повесился. Только идиот может оценивать „зависть к духовному“ как порок. Но профессор этот явно безумен, очевидно малограмотен, и если дикие слова его кто-нибудь почувствует как удар, – это удар не только сумасшедшего, но и слепого… Что делать этим мелким, честолюбивым, гниленьким людям в стране, где с невероятным успехом действует молодой хозяин – рабочий класс, выдвигая из среды своей тысячи умных, талантливых строителей социалистического общества, – в стране, где создается новая индивидуальность? Нечего делать в ней людям, которые опоздали умереть, но уже гниют и заражают воздух запахом гниения».
Эту статью Лосев прочитал в лагере и послал в письме газетную вырезку жене, сопроводив ее внешне спокойным постскриптумом: «Шлю тебе вырезку из „Правды“ за 12 дек. 1931 г. Полюбуйся!»
«Полюбоваться», действительно, было на что! Помимо всего того, что не нуждается в комментариях, как дополнительный и в данном случае невольный удар ниже пояса прозвучал намек на слепоту Лосева…
А он, униженный и оскорбленный, спустя какой-то месяц писал жене: «Живу в общем сносно… И кто читает книгу о мифе, тот должен быть не больным, а здоровым».
Что обращает на себя внимание в суждениях Горького в первую очередь? Даже не их содержание, а тон. Это уже не критика. Это, кажется, действие по принципу «если враг не сдается, его уничтожают». «Критика» подобного рода опасна тем более, что она подразумевает невозможность самозащиты.
Дело исследователей истории русской общественной мысли 30-х годов разобраться в дальнейшем существе вопроса, погрузившись в сочинения Лосева, беря их в контексте его духовных исканий и обстоятельств развития страны в целом. Ограничусь лишь кратким комментарием к двум важнейшим моментам.
Прежде всего о роли религии в развитии общества. Последовательный атеист и поклонник Разума, Ratio, Горький выступает как яростный противник церкви, являющейся «гасительницей разума» и заставляющей все принимать на веру. Но церковь и религия – не одно и то же. И наше общество с неизбежностью пришло к тому моменту в своем развитии, когда стало ясно, что религия в известной мере выступает как средство нравственно-философского возвышения человека, укрепления его внутренней самодисциплины. Не так ли понимал значение религии и сам Горький на рубеже 900-х – 10-х годов, когда увлекался богостроительством? Ведь Бог в его представлении тогда был выразителем высших потенций человечества.
На нынешнем этапе духовного развития страны и человечества наши представления избавились от былой, во многом неизбежной и обусловленной обстоятельствами, прямолинейности и односторонности. Но именно эти-то далеко не самые сильные проявления человеческого духа все активнее утверждались в 20–30-е годы. Все сильнее начинала господствовать ее величество Схема, некий безошибочно выполненный социологический чертеж, согласно которому и надлежало строить новое.
Что касается оценок Лосевым русского народа, то их односторонность очевидна. Но и тут следовало бы брать суждения философа как часть общей системы его рассуждений, имевших явно антиказарменный, антиадминистративный характер. Может быть, спасительный адрес исцеления (религия) был и не совсем точен, но главный грех автора состоял в конце концов не в этом, а в том, что он не видел возможности возрождения лучших качеств народа в условиях нарождающейся административно-командной системы.
И все же вряд ли справедливо было бы видеть в Горьком лишь «официоза», а в Лосеве лишь «диссидента». Они не только антиподы. И если уж труд, из-за которого философ попал в опалу, назывался «Диалектикой мифа», то не станем забывать и диалектику, как категорию не только научного мышления, но и повседневного человеческого бытия. Лосев и Горький союзники в главном – в отношении к жизни, если можно так выразиться, к жизнетворчеству.
У Лосева есть работа «Об интеллигентности», и один из ее главных постулатов таков: «Интеллигентность и переделывание действительности». «Культурную значимость интеллигентности… в наиболее общей форме можно обозначить как постоянное и неуклонное стремление не созерцать, но переделывать действительность. Интеллигентность, возникающая на основе чувства общечеловеческого благоденствия, не может не видеть всех несовершенств жизни и ни в коем случае не может оставаться к ним равнодушной. Для этого интеллигенту не нужно даже много размышлять.
Интеллигентность есть в первую очередь инстинктивное чувство жизненных несовершенств и инстинктивное к ним отвращение».
Но разве это не есть то же, что горьковская проповедь действенного отношения к жизни?..
Тем огорчительнее, что жизненная концепция Горького обретала все больше того, что выражала официальная идеологическая доктрина. Нет, разумеется, Горький не превращался в прямолинейного, так сказать, «один к одному» выразителя главенствующей воли. Слишком велик он был прежде всего как личность и как художник. И все-таки идеологическое доктринерство все более сдерживало свободу движения его мысли. А мысль, лишенная свободы движения, – это уже не совсем мысль. Это уже, так сказать, мысль идеологизированная. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Величие Лосева состояло в том, что, гонимый, лишенный официального признания, он остался верен своей мысли, бережно нес ее по жизни до конца. И жизнь возблагодарила его.
Решающая роль в освобождении Лосева из заключения принадлежит прежде всего Екатерине Павловне Пешковой, а также Марии Ильиничне Ульяновой. Помогала им в подобных делах и легендарная народоволка Вера Фигнер, проведшая двадцать лет в мрачных казематах Шлиссельбургской крепости.
Горький не одобрял деятельность своей бывшей супруги – а знать о ее работе он знал: виделись они довольно часто. Екатерина Павловна при встрече с Ролланом жаловалась ему на неприязненное отношение Горького к ее работе в политическом Красном кресте. Он считал, что нельзя вмешиваться в государственные дела. «Действительно, – продолжает свою запись в дневнике Роллан, – у госпожи Пешковой связаны руки: она почти ничего не может больше сделать. В отличие от нее – Ягода по просьбе госпожи Пешковой или моей мог бы добиться смягчения наказаний; но госпожа Пешкова не может примириться с тем, что эти исключения делаются из одолжения, в то время как этого требует общечеловеческий долг… Госпожа Пешкова проводит четкое различие между тем, что делается в отношении уголовных преступников, которых перевоспитывают, – и судьбой политических заключенных, для которых не делается ничего».
Тем выше мы должны оценить деятельность Пешковой, что ее усилия не могли вызвать благоприятного отношения начальства. Да и к тому же в прошлом сама она являлась членом партии эсеров.
Нетрудно представить, в каком плане мог сложиться разговор между бывшими супругами об одном из политических – Лосеве, особенно после того, как появилась в печати статья Горького «О борьбе с природой».
ГЛАВА XVII
Надо ли охранять природу?
Итак, статья, в которой Горький критиковал Лосева, называлась «О борьбе с природой».
Сейчас повсеместно в нашей стране и во всем мире развертывается движение в защиту природы от ведомственных посягательств на нее, посягательств столь агрессивных, что отходы производства – газы, отравляющие атмосферу, сточные воды, загрязняющие реки и озера и т. д., – грозят вообще лишить человека нормальных условий существования и ставят, таким образом, вопрос о продолжении жизни на Земле…
В последние годы решительно заговорили о волюнтаристских тенденциях в статьях Горького 20–30-х годов, где он упорно твердит о «поэзии преодоления сил природы силою воли человека», о «создании новой „географии страны“»… И даже – называет человека «врагом природы, окружающей его»…
Слова «борьба с природой» звучат ныне едва ли не кощунственно, а уж «враг природы» – тем более… Кому-то память может подсказать нечто внешне созвучное: «враг народа»…
Многие из горьковских формулировок, попадающихся в его публицистике, действительно не могут нас нынче не шокировать. Читая иные из статей, диву даешься той ослепленности, которая присуща их автору. Эколог Ф. Штильмарк, критически отозвавшийся об одной из моих статей о Горьком, совершенно прав, связывая горьковскую концепцию борьбы с природой с проповедью антропоцентризма, преклонения перед якобы безграничными возможностями человека, носителя Разума, для торжества над всем, что его окружает. Дело доходило до крайности: ведь наряду с призывом «взяться за основного, древнего врага нашего: за борьбу с природой», прозвучавшим в речи Горького на слете ударников Беломорстроя в 1933 году, выражается радость по поводу деятельности ГПУ, «переплавлявшей людей»…
Увы, крупнейший литератор словно бы полностью попадает во власть восторжествовавших в пору сталинизма идеологических стереотипов (борьба, возведенная в ранг культа, враги, вредители и т. д.). Авторитетный наставник литераторов, ратующий за точность словоупотребления, он сам порой начинает употреблять слова, как бы не до конца отдавая себе отчет в их подлинном значении.
Что такое враг? Существо, которое сознательно поставило цель нанести нам вред. В таком случае разве можно Природу считать врагом? Преклонение поэтов прошлого перед природой можно ли назвать лестью? Ведь лесть – это заведомая угодливость по отношению к кому-то с расчетом явно небескорыстным. И так далее…
Но все же ставить на всем этом точку было бы не совсем справедливо. Если продраться сквозь коросту всяческих идейно-стилистических наслоений (идущих и от заблуждений писателя искренних, и от тех, в которых очевидна дань конъюнктуре), нас ожидает подлинно горьковское, сокровенное. (Принимать ли нам это сокровенное – другой вопрос.)
Обратимся к цитате, которую Ф. Штильмарк приводит в своем письме в редакцию «Литературных новостей», но – не полностью. Страшновато звучащий сейчас призыв «взяться за основного древнего врага нашего – за борьбу с природой» прерван рано. Дальше у Горького идет: «за освоение ее стихийных сил» (Собр. соч. в 30 тт., т. 26, с. 76).
А между тем в этой-то маленькой «добавке» весь смысл! Бороться с природой для Горького – это покорить выжженные солнцем пустыни, победить засуху, свести на нет сорняки, лишающие питательных соков жизненно необходимые человеку растения, уничтожить комаров, тараканов и других вредных насекомых, грызунов – разносчиков страшных инфекций вроде чумы. По возможности – научиться предсказывать землетрясения и другие стихийные бедствия, а еще лучше – локализовать их…
Каждую из этих задач берет на себя какое-то ведомство, научное подразделение, и – ничего, для всех это приемлемо. А вот свел один человек все воедино, да еще облачил в агрессивно-наступательную форму (ох уж эта «борьба»!), и теперь его слова вызывают шоковую реакцию.
А между тем у того же «загибщика», «ультиматиста» черным по белому писано, что воевать надо лишь с теми явлениями природы, которые «делают бесплодным труд миллионов людей» (статья «Засуха будет уничтожена», т. 26, с. 151).
Нелепо думать, что для Горького природа некий враг вообще, которого, как утверждает Штильмарк, он, Горький, аж ненавидит. Чуть ли не тот, которого уничтожают напрочь, ежели он не сдается…
Да разве Горькому вовсе чуждо было изначальное чувство прекрасного, восхищение пейзажем – и не только неаполитанским? «Что бы мне ни говорили об Алексее Максимовиче, – пишет Федор Шаляпин, – я глубоко, твердо, без малейшей интонации сомнения знаю, что все его мысли, чувства, дела, заслуги, ошибки – все это имело один-единственный корень – Волгу, великую русскую реку, – и ее стоны…»
А как любил Горький птиц и сколько вдохновенных страниц посвятил им в рассказах и автобиографических повестях! А как писал о походах с бабушкой в лес…
И если уж еще раз вернуться к Волге – да разве бы одобрил он проект ее «поворота», родись он в голове какого-нибудь «генерала» из соответствующего ведомства!
Суть горьковских взглядов заметно искажает завеса эйфорического тумана, родившегося в головах энтузиастов 30-х годов, решивших переделать все и вся, та эйфория, которой не избежал и сам писатель и воцарению которой, увы, способствовал.
Критики Горького подчеркивают огромное, может быть, даже гипертрофированное значение антропологически-рационалистического начала в мировоззренческих взглядах Горького, культ Ratio, мысли. Но вот это преклонение перед мыслью и предостерегало его от приписываемых ему крайностей экстремистского толка, призывов не то чтобы покорить, победить природу как врага, но и чуть ли не «разбить этого врага наголову».
В изначальной активности же отношения человека к природе не только нет ничего зазорного, но она в самой, простите за тавтологию, природе человека. Правда, он не застрахован от волюнтаристских крайностей, особенно в обществе, в котором отсутствует подлинная гласность. Но опять же это другой вопрос.
Штильмарк критикует Горького за то, что тот породил целый легион писателей, прославлявших борьбу с природой (кто из людей моего поколения не помнит: «Человек сказал Днепру: я стеной тебя запру»). Но вспомним, к примеру, Д. Гранина, автора романа «Иду на грозу», и зададимся вопросом: «борется» ли с природой его герой Крылов? Он прежде всего познает механизм грозы, образования молний, стремясь подчинить его человеческому разуму. Но что в том плохого? И что плохого, даже когда «борьба с природой» приобретает иной раз характер воистину военных действий: в ход идут пушки, расстреливающие облака.
Конечно, «лирики» могут с негодованием осуждать действия агрессивных «физиков», нарушающих благостную тишину выстрелами, от которых пострадают «тучки небесные, вечные странники». Выходит, не надо обижать тучки и прерывать их вольный маршрут, если даже образовавшийся в них град побьет виноградники?
Не нелепо ли предписывать научно-техническому прогрессу движение вперед затылком, с взором, обращенным в прошлое, где царило благостное восхищение природой. Приводившихся выше примеров, наверное, достаточно, чтобы убедиться в чрезмерной категоричности утверждения классика, будто «нет безобразья в природе»…
А если мы приплюсуем к сказанному такие беды, как СПИД, эту чуму XX века? Разве это не порождение все той же и в самом деле великой и прекрасной природы, однако тех заключенных в ней же самой сторон, которые грозят гибелью человечеству?
Воззрения Горького на систему «человек – природа» стали формироваться задолго до того, как начались коренные преобразования в стране. Обратимся в заключение к уникальной в системе публицистического цикла «Несвоевременные мысли» статье «Свободная ассоциация наук», опубликованной в виде обращения к гражданам России 30 мая 1917 года (она не вошла впоследствии в сборник, составленный Горьким, возможно – в силу ее максималистского характера, не вполне соответствовавшего складывавшейся в стране ситуации).
Вначале Горький сообщает, что в Петрограде организовалась «Свободная Ассоциация для развития и распространения положительных наук», в которую вошли крупнейшие ученые. Предполагалось основать в России «Научный институт в память 27 февраля» – дня рождения «нашей политической свободы».
«Цель института, – пишет Горький, – расширение и углубление работ ученых по всем линиям интересов человека, общества, народа, человечества.
Первейший из этих интересов – борьба за жизнь, против тех болезнетворных начал, которые разрушают наше здоровье. Явление жизни изучает биология, бактериология исследует источники заразных болезней, медицина стремится уничтожить их, гигиена изучает и указывает те условия, при которых человек становится более стойким в сопротивлении болезням.
Биолог, медик, гигиенист должны знать химию, пользоваться услугами физики, точно так же, как должен знать эти науки ботаник, изучающий жизнь растений, и агроном, который, опираясь на работу ботаника и геолога-почвоведа, заботится о том, чтобы усилить плодородие земли, увеличить ее урожайность.
Все науки тесно связаны одна с другой, – завершает Горький вводную часть обращения, – и все они – стремление человеческого разума и воли к победе над горем, несчастьем, страданиями нашей жизни»[49]49
Горький М. Несвоевременные мысли. Статьи 1917–1918 гг. Составление, введение и примечание Г. Ермолаева. М., 1971, с. 58–59.
[Закрыть].
В последующих разделах статьи-обращения содержатся рассуждения об отдельных сферах социально-хозяйственной жизни страны, и всякий раз они оканчиваются конкретными предложениями. Население России, и прежде всего деревни, «живет в ужасных условиях, не имея правильно организованной медицинской помощи». В целях оздоровления нации нужен «Институт биологии».
Россия исключительно обильна естественными богатствами, но процветает каторжный и бестолковый труд. «Мы не умеем разбудить дремлющие силы природы … мы не умеем обрабатывать сырые продукты – нужно учредить „Институт химии“».
«Мы не умеем строить машины: нам необходимо иметь в России „Институт прикладной механики“».
Статья Горького воистину удивительна: перед нами словно обращение ученого, где-то в ранге президента Академии наук. А ведь написал его «самоучка», за спиной которого три класса Канавинского слободского училища.
В истории мировой литературы мы вряд ли найдем какого-либо еще писателя, который бы так ценил значение науки в жизни общества, как Горький. Это ему принадлежат слова: наука стала нервной системой XX столетия.
Горький пришел в мир в момент его коренного научно-технического переустройства. Мировоззрение писателя с поразительной чуткостью восприняло и вобрало в себя главные интеллектуальные импульсы эпохи. И когда в послеоктябрьские годы началось гигантское промышленно-техническое преобразование России, он расценил это не просто как вещественное воплощение планов правящей партии, но в первую очередь как воплощение своей собственной мечты. Он больше думал о материально ощутимых результатах человеческого труда в виде фабрик, заводов, электростанций, чем о тех усилиях, которые были затрачены на их сооружение. Так в сознании гуманиста общество, государство, созидающее все это во имя Человека, стали заслонять человека реального, того, кто держал в руках лопату или рукоятку тачки…
И когда подчеркивают, что в мировоззренческой концепции Горького слишком большое место занимало покорение природы, то не забудем, что писатель не рассматривал это как замкнуто-самоцельный процесс. В статье «Заметки читателя» (1927) Горький подчеркивал, что его занимает вопрос об отношении молодой советской литературы к «хозяину жизни – человеку, врагу природы, окружающей его…». И тут же мысль развивается дальше: «создателю „второй природы“ на основе познанных и порабощенных им сил первой, врагу и „ветхого Адама“ в себе самом».








