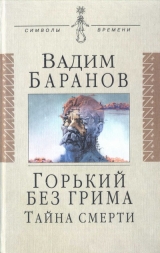
Текст книги "Горький без грима. Тайна смерти"
Автор книги: Вадим Баранов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
Ждановские построения свой упрощенческий характер в полной мере обнаружили позднее, но Горький не мог не чувствовать их жесткости, категоричности, малой ориентированности на конкретный материал литературы.
Доклад Бухарина о поэзии и речь сталинского ставленника Жданова имели прямо противоположную направленность. Но не равным зато было их официальное реноме. Как уже говорилось, еще в 1929 году Бухарина вывели из состава Политбюро, и на съезде он выступал скорее как литературный критик, партийный публицист. Жданова в 1934 году Сталин сделал секретарем ЦК ВКП(б). Именно речь Жданова выражала официальную точку зрения. Она устанавливала необходимые нормы творческого поведения. К руководству культурой приходил новый тип партийного функционера.
Возникало своего рода государственное искусство с целой системой обязательных, пусть и не всегда провозглашаемых официальных компонентов. Если государством руководит партия, то и герой в первую очередь должен быть коммунистом, ведущим за собой массу. Какое общество ожидает нас в недалеком будущем? Светлое! Вот и дайте, художники, побольше радостных тонов. А стиль? Можно ли терпеть модернистскую раздерганность 20-х годов с ее западными влияниями? Стиль должен быть понятен самым широким народным массам, любой кухарке, которая, оставив сковородку, ринулась управлять государством и теперь, уже как государственный человек, могла со сковородным металлом в голосе говорить: «А вот это массам непонятно!»
Как уже говорилось, сила искусства прежде всего в многообразии, которое выражается в бесконечном многообразии индивидуальных стилей. А теперь стили начали подгонять под каноны единого метода. Искусством признавалось лишь то, на что падала великая проекция Всесильного государства. То же, что каким-то образом оказывалось вне этой благостной зоны, становилось не нужно и даже опасно. И надо было вовремя указать на тех, кто становился чужд народу: Б. Пильняк, И. Бабель, А. Белый, А. Платонов, Вс. Мейерхольд, М. Зощенко, А. Ахматова, О. Мандельштам…
Во славу социалистического реализма послушная критика написала десятки книг и сотни, а может быть, и тысячи статей. В последние годы в связи с критикой сталинизма и вообще социалистических порядков в нашей стране появилось не так уж мало работ прямо противоположного, обличительного характера. Казалось бы – расставлены все точки над i. И все-таки некоторые дополнительные комментарии по этому поводу целесообразны.
Один из наших бывших коллег, А. Синявский, филолог высочайшего уровня, оказавшийся на Западе не по своей воле, а ранее, в бытность свою сотрудником советского академического института, писавший о соцреализме и о Горьком, вот теперь, уже в один из приездов «оттуда», не стал в запоздалой озлобленности, как некоторые, предавать метод остракизму, а нашел удивительную аналогию: социалистический реализм, провозглашаемый при помощи Горького, есть своего рода запоздалый аналог классицизма.
Да, Горький призывал писателей смотреть на вещи с позиций «третьей действительности», творимой ими, действительности будущего. Он всеми силами призывал поэтизировать труд. Опираться на традиции классики. Не забывались и традиции прогрессивного романтизма… Думается, в горьковских исходных предпосылках соцреализма не было в общем-то чего-либо изначально совершенно порочного, фатально обрекающего искусство на крах. В конце концов плох ли человек (его почему-то, к его же великому смущению, стали называть положительным героем), который хорошо трудится и любит свою работу? И как тут не вспомнить, чтоб не быть голословным, добрым словом из былых героев старого соцреализма, к примеру, хотя бы Ивана Журкина. Герой романа «Люди из захолустья» А. Малышкина, да это же поэт дерева! И как смущается он, когда его застают в цеху после работы, где он в тишине с наслаждением вдыхает запах свежей древесины (и задержался-то он вовсе не потому, что делал что-то лично для себя).
В книге Малышкина вообще многое написано психологически точно! Но все же, увы, вторгаются каноны того самого «железобетонного» соцреализма, согласно которым женщина-интеллигентка должна пересесть на трактор (что и происходит в том же романе).
В пору, когда критика, усердно наморщив лбы, пыталась осмыслить, что же такое соцреализм, один писатель выступил со статьей, остроумно названной: «Луна, которую заменили трактором».
Вот ведь в чем вся беда и была-то! Не нужны фантазия, эксперимент, дерзость стиля, жанровая новизна… Есть своего рода художественный госзаказ. Он должен помогать скорейшему выполнению госзаказа промышленного, сельскохозяйственного.
Критика в конце 40-х годов договорилась даже до того, что коль скоро есть в советской литературе эталонные произведения наподобие романа «Мать», то и новые сочинения должны становиться их аналогом, копируя сюжет, композицию и т. д. Этим критикам надо было немедленно раздать ордена, потому что ничего более нелепого, губящего искусство на корню придумать было невозможно.
Вообще один из драматических моментов реального развития литературы состоял в том, что существовало большое различие между тем, что могли вкладывать в понятие социалистического реализма, с одной стороны, талантливая творческая личность и, с другой стороны, тупой чиновник, крепко уставивший прокуренный палец в определенный крючок параграфа.
Уже не драма, а трагедия состояла в том, что все большую силу набирал чиновник… Между тем, строго говоря, государство вообще не должно предписывать литературе, о чем и как писать, дав художнику-гражданину полную свободу выбора темы, идеи, стиля. И пусть бы Булгаков писал «Мастера» – не в стол, а Платонов «Чевенгура» – тоже для журнала. Но это был бы идеал. Однако нам при разговоре о литературе 30-х приходится исходить из наличия жестких идеологических нормативов, и мы ведем речь лишь о том, можно ли было выдать нечто «съедобное» (выражение Твардовского) в предлагаемых обстоятельствах…
К сожалению, реальную сложность ситуации, складывавшейся вокруг формулы социалистического реализма, не учитывают даже авторы новейших исследований. Относится это и к некоторым статьям, опубликованным в фундаментальном каталоге выставки «Москва – Берлин», состоявшейся в российской столице весной 1996 года.
Да, Горький отстаивал лозунг социалистического реализма с его ориентацией на положительного героя, на торжество утверждающего начала. Но в сам этот термин и во все категории, им обусловленные, он вкладывал далеко не тот смысл, что сталинские официозы. Вот почему нельзя согласиться с утверждениями такого свойства: «В официальных речах А. Жданова и М. Горького была сформулирована художественная идеология тоталитарного искусства». Или: «…Сталин и Горький утвердили его (социалистический реализм. – В.Б.) в качестве единственно верного метода». И уж абсолютно неприемлемой является мысль о том, что в доктрине социалистического реализма, прокламируемой «при поддержке Горького» на I съезде писателей, можно «отчетливо обнаружить частичное заимствование фашистской стратегии».
Жданов и Горький… Сталин и Горький… Так, может быть, теперь – Гитлер и Горький?..
…В целом итогами съезда Сталин как будто мог быть доволен. В самом начале поэт Луговской зачитал приветствие писателей Ему, и последние слова утонули в шквале аплодисментов. Теперь создана иерархия, структура. Система подчинения. Рычаги, при помощи которых машину можно будет двигать в нужном направлении. Но один итог не мог удовлетворить. Бухарин критиковал Маяковского. Горький научился хитрить, но Сталина не проведешь. Сказал, что возразит Бухарину, а на деле добавил критики. Между тем именно Маяковский, как никто другой, помогает «строить и месть». То есть сначала, конечно, «месть», а потом – строить… Да, сначала – «месть»…
Разве этот небожитель Пастернак может быть лидером поэтов? Если несомненно талантлив, тем опаснее, тем более нужна ясность.
Надо будет сделать так, чтоб все поняли: именно Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
Необязательно произносить эти слова публично. Он знает, какой резонанс получают его письменные ответы писателям, даже телефонные разговоры с ними (например, с Булгаковым после самоубийства Маяковского).
И надо будет добавить, что забвение памяти Маяковского – преступление.
Пусть задумаются те, кто считает иначе.
Но сначала Сталин позвонил Бухарину.
– Николай, поздравляю тебя с хорошим докладом.
– Спасибо, Коба.
В заключение съезда Горький «расщедрился» и даже провозгласил здравицу в его, Сталина, честь. «Да здравствует партия Ленина – вождь пролетариата, да здравствует вождь партии Иосиф Сталин!» (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию.)
Если есть вождь, так сказать, вершина социальной пирамиды, значит, любое мероприятие на любом этаже пирамиды должно заканчиваться восславлением вождя. Этажей много, но вершина-то у пирамиды одна!
Вот только надо разобраться, сколько аплодисментов относится к нему, а сколько – к Горькому… Не многовато ли? Вообще не слишком ли большое внимание в стране привлекает к себе в последнее время Горький?
ГЛАВА XXIII
«Самгина»«необходимо переделать с начала до конца»
Несмотря на огромное количество дел организационного характера (подготовка съезда, редактирование журналов и книг), обширную переписку, Горький много и напряженно работал как художник. Написание в изобилии публицистических статей не мешало ему трудиться над произведениями более крупных жанров: очерками «По Союзу Советов», «Рассказы о героях», над пьесами «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие», «Сомов и другие».
Правда, последняя пьеса, как мы знаем, не получилась, и это – несмотря на то, что она «уже прямо опиралась на опыт борьбы партии и лично товарища Сталина против агентов фашизма – предателей и диверсантов»[62]62
Бялик Б. О Горьком. Статьи. М., 1947, с. 143.
[Закрыть]. А ведь товарищ Сталин так ждал эту пьесу! Так же, как и пьесу о кулаке. И тоже – тщетно!
С еще большим нетерпением ждал Сталин книгу о себе. В личном архиве Горького сохранилась папка с материалами о товарище Сталине, специально подобранными для писателя. Здесь документы жандармских управлений – агентурные донесения 1901–1916 годов, освещающие историю арестов, ссылок и побегов легендарного революционера, имя которого уже давно стало символом неустрашимости, как писал Б. Бялик в середине 40-х годов. Здесь – воспоминания учеников товарища Сталина, знавших его по революционной работе в Закавказье, воспоминания о нем, как о воспитателе нескольких поколений большевиков, как о великом теоретике и полководце революции. Здесь и более поздние материалы, относящиеся к 30-м годам и освещающие борьбу партии против вредителей и диверсантов. И все эти материалы хранят на себе следы горьковского чтения – подчеркивания, отметки на полях – знаки начавшегося творческого процесса…
Казалось бы, под рукой решительно все, что необходимо, и вот ведь на тебе – писатель с таким опытом не воспользовался этими материалами, или, как выражается тот же исследователь, творческому процессу «не суждено было осуществиться».
Какой бы могла получиться книга, если б Горький все-таки написал ее? Не могло быть никакого сомнения: автор, как говорится, был обречен на ошеломляющий успех. «Мы не знаем, что и как написал бы Горький, но одно совершенно ясно: этот литературный портрет явился бы, наряду с портретом Ленина, вершиной и достойным завершением всего горьковского творчества»[63]63
Бялик Б. О Горьком. Статьи. М., 1947, с. 143.
[Закрыть].
И вот, не оправдав ожиданий великого вождя, не использовав такие материалы (!), Горький предпочел карабкаться на совсем другую вершину, и успех восхождения тут был вовсе не гарантирован.
Он сосредоточил все свои силы на создании грандиозной панорамы жизни России за четыре десятилетия – романа-хроники «Жизнь Клима Самгина». Говорил: работы на сажень сверх головы. Трудился, как хорошо налаженный завод: с промежутками в два года выдавал по книге этого четырехтомного повествования (выходили: I – 1926, II – 1928, III – 1930). Четвертая осталась незавершенной, но отрывок из нее появился в 1933 году.
Горьковской эпопее посвящен с десяток обширных монографий, которые своим суммарным объемом далеко превзошли сам роман. Книги И. Вайнберга, Б. Вальбе, Н. Жегалова, И. Новича, А. Овчаренко, Я. Резникова, П. Строкова, родившиеся очень «кучно», в 60-е – начале 70-х годов, при определенном различии в авторских концепциях сходятся в одном: «Самгин» – вершина творчества Горького, его «художественное завещание» (И. Нович).
В 1976 году вышел завершающий, 25-й том академического Полного собрания сочинений М. Горького (серия художественных произведений), который содержит обширнейшие комментарии к роману, включая первые отклики критики, писателей и читателей на него. Право же, нельзя не подивиться, насколько и по содержанию, и по форме отличаются многие из этих откликов от последующих заключений литературоведов.
Одним из первых изложил автору свои впечатления Ф. Гладков, который романом был премного озадачен: «…Все эти „жизни“ Ваших людей, лишенные динамики… сплошная тоска и „неделание“». Отзыв Гладкова объясняют упрощенным подходом автора «Цемента» к Горькому, в котором он по традиции видел исключительно буревестника революции, а также влиянием рапповских схем. Но вот уже после ликвидации РАППа другой писатель, В. Зазубрин, произносит приговор: «Сплошная болтовня». «Гигантский, бесконечный, одурманивающий диспут», – это пишет уже критик в 1928 году. Ему вторит еще один, утверждая, что бесконечные диспуты утомительны для читателя. Третий называет книгу «энциклопедией мудрствований русской интеллигенции»… Как записал К. Чуковский в дневнике 1928 года: «Отдельные куски хороши, а все вместе ни к чему». Озадачивал и отзыв Воронского, сообщавшего, что «Клим» вызвал у читателей много недоумений. Но вряд ли меньше задел Горького вопрос Александра Константиновича о том, как он оценивает творчество Марселя Пруста. (Уж не намек ли на прямое влияние модернистской прозы, кою Горький благословлять был никак не склонен.)
Чем дальше, тем меньше, однако, становилось критических отзывов о романе, а причину этого явления с бескомпромиссной прямотой раскрыл В. Вересаев. «С переселением его (Горького. – В.Б.) в Россию отношения наши совершенно прекратились. Он стал полнейшим диктатором всей русской литературы. Цензура вычеркивала всякие сколько-нибудь отрицательные отзывы об его произведениях, даже таких плохих, как „Клим Самгин“, „Достигаев и другие“».
Вересаев был человеком исключительной порядочности и искренности, что нашло отражение в повести «В тупике», которую Горький встретил очень сочувственно. Так что цитированное мнение Вересаева вполне заслуживает доверия.
Конечно, наивно было бы, бросаясь из крайности в крайность, с присущей в последнее время многим из нас лихостью отказываться решительно от всего, к чему в итоге пришло литературоведение, и видеть именно в этих ранних критических суждениях истину в последней инстанции. В «Жизни Клима Самгина» много художественных находок, ярких сцен, метких наблюдений. Еще бы, ведь роман вбирает в себя гигантский опыт жизни человека, наделенного выдающимся художественным талантом! И все-таки, с моей точки зрения, следовало бы повнимательнее присмотреться к общей художественной концепции романа в контексте исторического и историко-литературного процесса. А главное – не только тщательно фиксировать все реалии того времени, которое отражено в книге, т. е. действительность дореволюционной России, но подумать, какое влияние на реализацию замысла оказало время написания, т. е. 20–30-е годы с их драматическими противоречиями, с тем, какое положение в то время занимала в обществе интеллигенция. В этой связи совершенно не могут устроить суждения о творческой истории романа (например, в 25-м томе академического Полного собрания сочинений), которые сводятся к наблюдениям, как менялся тот или иной образ в процессе создания книги, но при этом не принимается во внимание психологическое состояние автора в момент работы над образом, состояние, обусловленное событиями в стране и в мире.
Ну, к примеру, можно было бы вспомнить полемическое суждение самого Горького о том, что вся русская эмиграция состояла из Климов Самгиных. Вряд ли столь решительное заявление нуждается сегодня в подробных комментариях: достаточно вспомнить, сколько представителей лагеря эмиграции вполне достойно вели себя перед лицом тягчайших испытаний. Но стоит ли уноситься мыслью в такие дали, не лучше ли вернуться на родину, чтоб посмотреть, как складывалась политика властей по отношению к интеллигенции здесь, в России? Говорилось с презрением: «Так называемая интеллигенция», «Эта социальная группа отжила свой век». Но дальше всех в своем рвении пошел провокатор Рамзин, зарабатывавший на процессе Промпартии орден: «Я хотел, чтоб в результате теперешнего процесса Промпартии на темном и позорном прошлом всей интеллигенции… можно было поставить раз и навсегда крест».
Как любили в ту пору иные ретивые деятели «раз и навсегда» вколачивать кресты в выстраданное нацией богатейшее прошлое!
Вероятно, есть все-таки что-то привносное в Климе, идущее от времен и обстоятельств конца 20-х – начала 30-х годов. Не случайно свидетельство народного артиста РСФСР Н. Волкова, занятого в хорошем в общем-то спектакле: «Помню, растерялся, когда в театре им. Вл. Маяковского решили ввести меня на роль Клима Самгина. По-моему, сам Горький так и не определился до конца с интеллигентскими „завихрениями“ своего героя и как-то очень уж неубедительно норовил вписать его по ту сторону баррикад… Все сложнее».
Если вернуться к критическим оценкам первых читателей романа, то, думается, они нащупали нечто уязвимое в самой исходной позиции именитого автора. Как известно, Горький энергичнее, чем кто-либо из его коллег, утверждал идею непреходящего значения труда в жизни человека. Труда и физического, и интеллектуального. Но его герой, юрист по образованию, начисто выключен из своей профессии! Занят он только одним – «соглядатайством», раздумьями о себе, своем месте среди окружающих его людей. Не случайно американское издание «Клима» вышло под названием «Наблюдатель».
Есть что-то удивительное в том, с каким упорством, если не сказать деспотизмом, Горький уводит своего героя от дела всякий раз, как только тот пытается им заняться или хотя бы подумать о нем.
Вот Клим, «элегантный кандидат на судебные должности», попав домой, слушает делового отчима Варавку.
«Итак – адвокат? Прокурор? Не одобряю. Будущее принадлежит инженерам».
И сразу: «Его лицо, надутое, как воздушный пузырь, казалось освещенным изнутри красным огнем, а уши были лиловые, точно у пьяницы; глаза узенькие, как два тире, изучали Варвару» (жену Клима. – В.Б.) и т. д.
Обругав свой город, «махнул рукой и… обратился к Самгину:
– Я хочу дать тебе работу, Клим…»
Мы знаем, что Самгин не любил адвокатскую деятельность и вообще считал свой выбор профессии ошибкой. И все же как любой нормальный человек, он не мог не поинтересоваться, сколь выгодным является предложение. Первое предложение в жизни!
Но повествователь тотчас уводит разговор совсем в другое русло, продолжая: «Самгин слушал его и, наблюдая за Варварой, видел, что ей тяжело с матерью…»
«„Дико ей здесь“, – подумал Самгин (о жене. – В.Б.), на этот раз он чувствовал себя чужим в доме, как никогда раньше.
Варавка кричал ему в ухо:
– Заработаешь сотню-другую в месяц…»
Ни для кого в жизни вопрос о заработке не может быть безразличным. Но такое безразличие может позволить себе герой, находящийся на авторской дотации. Даже крик в ухо о заработке он не воспринимает!
«Вошел доктор Любомудров с часами в руках, посмотрел на стенные часы и заявил:
– Ваши отстали на восемь минут».
Если и вспоминает Самгин работу, то не как реальное дело, требующее внимания, а как способ прикрыться, прервать диалог с другими.
«Я нахожу, что пора спать, вот что, – сказал он. – У меня завтра куча работы…
Это уже не первый раз Самгин чувствовал и отталкивал желание жены затеять с ним какой-то философический разговор».
Диалога не получается. Часы героев двигаются с разной скоростью. Сознание Самгина не желает пересекаться с чьим-то другим сознанием, предпочитая двигаться параллельно, по формуле: «Он славился как человек очень деловой, любил кутнуть в „Стрельне“, у „Яра“»… Почти как у Гоголя: кто читал Карамзина, кто «Вестник Европы», а кто даже… ничего не читал.
Диалог обогащает. Если не духовно, то хотя бы информативно. Климу словно бы не нужно обогащения через активное общение. Он – наблюдатель. Он неизменно объединяет и уравнивает в своем сознании два неоднозначных процесса: наблюдение и оценку. Каждый наблюдает жизнь сам. Но оценку фактам и явлениям бытия он выносит уже не совсем «сам», так как ее корректируют прямые или косвенные оценки и свидетельства других. Начав диалог, Самгин стремится как можно скорее кончить его, чтобы заняться любимым делом – созерцанием. Впрочем, нет: слово «дело» совсем не подходит, когда мы сталкивается с Самгиным. А потому лучше сказать – предаться «любимому занятию…»
Разумеется, нелепо было бы предпринимать даже малейшую попытку навязывать автору какую-либо нормативность, идущую извне, от априорных представлений, в каком процентном соотношении должны быть представлены в произведении те или иные содержательные компоненты. И все же не удивительно ли, что на протяжении всех четырех томов Клим не ведет буквально ни одного дела, не думает всерьез о судьбе ни одного из подсудимых, коих призван защищать? А ведь какая благодатная почва была у него для сопоставлений различных человеческих судеб! Собственно, он только и делает, что сопоставляет индивидуальности и судьбы, но – совершенно «внепрофессионально». При всем уважении к Горькому и его таланту нельзя в этом не усмотреть определенной искусственности.
Когда Клим спрашивает Любашу про Суслова – «что делает этот человек?» и не получает ответа, – все совершенно закономерно, т. к. молчание обусловлено правилами конспирации, существующими между революционерами. Но закономерно ли, что читатель никак не может получить ответа на тот же самый вопрос относительно главного героя?
Будем, наконец, откровенны: «Жизнь Клима Самгина», увы, оказалась книгой довольно скучной. Нина Николаевна Берберова, человек из окружения Горького, приехав в Советский Союз в 1989 году, без обиняков заявила, что не могла дочитать «Клима» до конца, потому что это очень скучная книга. И, признаться, спорить с писательницей трудно.
Одна из причин скуки – бессюжетность повествования. Сюжет – всегда активное средство отбора тех или иных жизненных слагаемых, которые, оказавшись в рамках рождающейся художественной системы, начинают еще более активно взаимодействовать друг с другом. Так рождается напряженность повествования, обеспечивающая определенный тонус заинтересованности читательского восприятия. Грубо говоря, читателю не может быть безразлично, что дальше случится с героем. А тут на протяжении десятков и сотен страниц, в сущности, ничего не случается. И наоборот, как только – очень редко! – возникает просто мало-мальски конфликтная ситуация, читатель начинает сопереживать герою. (Исключение высветляет правило.) Вспомним эпизод поездки Клима в провинцию, когда произошла авария кибитки и пришлось идти пешком, повстречать мужиков, сразу же заприметивших в пришельце чужака. А мужики были злы… И мы уже ждем, что будет дальше. И уже опасаемся за Клима, сколь бы ни был он нам неприятен. Уже включилось напряжение. По каналам восприятия побежал ток, обеспечивающий нормальное сюжетное напряжение, как в городской электросети. Но он быстро спадает, и мы вновь двигаемся за героями Горького в сумраке, двигаемся медленно, как и он, пробующий почву под ногой, боясь оступиться. Смотрящим со стороны хочется крикнуть: «Шагайте смелее! Под ногами твердая почва!» Но идущий не слышит. Он не привык вести диалог. Пусть медленно, еле-еле, он будет тащиться сам. На то он и Самгин.
Самгинская ситуация осложняется еще и тем, что у героя был образ-«конкурент», которому принадлежит приоритет в использовании того же принципа всеподавляющей рефлексии. Сколько бы ни показалось странным на первый взгляд мое утверждение, но это – Петр Артамонов, представитель многочисленного купеческого рода, приковывающий основное внимание автора, персонаж романа, носящего название «Дело Артамоновых», но – напрочь выключенный из дела и занимающийся копанием в собственной душе. Мне уже приходилось отмечать отдельные фрагменты текста «Дела Артамоновых», поразительно напоминающие стилистику будущего «Клима».
Впрочем, категория будущего тут мало подходит по двум причинам. Окончательно замысел «Клима» оформился непосредственно во время работы над «Артамоновыми». Стоит напомнить, что истоки замыслов и того и другого произведений восходят примерно к рубежу веков, и параллельно, так или иначе взаимодействуя в сознании писателя, развивались они по крайней мере в течение двух десятилетий.
И опять мы возвращаемся к самому больному вопросу. Литературоведы бездну внимания уделили истории становления замысла эпопеи, и никто еще как будто не задумался, с каким внутренним багажом подходил Горький – автор «Жизни Клима Самгина» – к событиям и фактам, отраженным в ней. Все внимание уделяли времени действия. И забывали другое время – время написания.
Разумеется, не стоит при этом все сводить только к судебным процессам над интеллигенцией, которые начали развертываться на рубеже 20–30-х годов, в разгар работы над «Климом». Можно было бы привести множество и других фактов, свидетельствующих о гонениях, которым подвергалась интеллигенция как потенциальная носительница «крамолы», как «прослойка», которую надо было «перековывать» при помощи принудительного труда на том же Беломорканале. А ведь действия руководителей ОГПУ, возглавлявших стройки, как мы знаем, вызывали поддержку Горького, порой даже восхищение.
Как мог проделать подобную эволюцию автор «Несвоевременных мыслей», пламенный адвокат интеллигенции – над этой загадкой нам еще предстоит основательно задуматься. Задуматься и решить: не превратился ли адвокат в обвинителя? Во всяком случае, любопытен оборот, прозвучавший в одном из критических откликов, принадлежащих К. Зелинскому: в «Жизни Клима Самгина» запечатлен «внутренний процесс», который Горький вел «перед трибуналом своего классового сознания».
Но может быть, перед этим «трибуналом» представала лишь часть, определенная разновидность интеллигенции, и в самом деле вполне заслужившая суда над ней? В этом еще надобно разобраться, не сбрасывая, впрочем, со счетов следующего весьма показательного суждения бывшего наркома просвещения. А. Луначарский писал: «Эта бездушность Самгина, эта его выеденность внутренняя, эта пустота очень характерны для интеллигенции – промежуточного класса, который не может продолжить свой путь так, чтобы не подпасть под какое-то влияние».
Не могли не оказать деформирующего влияния на развитие замысла и те жесткие принципы, которые Горький все более настойчиво начинал внушать себе и пропагандировать среди других писателей: идеи о необходимости приподнимать действительность, романтизировать ее, избегать «излишнего» внимания к ее противоречиям. «Смысловое, историческое мировое значение факта этой победы (пролетариата. – В.Б.) совершенно исключает из обихода нашей страны темы безнадежности, бессмысленности личного бытия, тему страдания, освященную вреднейшей ложью христианства», – писал Горький.
Бессмысленность личного бытия… Ну, такого, как у Клима, – возможно. Но содержательность духовного бытия личности – разве не это главная гарантия духовного богатства общества?
При работе над «Жизнью Клима Самгина» в сознании Горького протекал мучительный процесс, который начался еще в пору, когда он писал «Дело Артамоновых». Точнее, как и тогда, боролись два непримиримых процесса. Один диктовался живыми, богатейшими наблюдениями над российской действительностью предреволюционных лет. Энциклопедическая начитанность Горького выступала при этом в качестве мощного катализатора. Но одновременно протекал процесс иной, обусловленный утверждением в стране идеологического монополизма, усиления роли партийной олигархии под лозунгом диктатуры пролетариата.
Весьма впечатляющими были, конечно, в стране и результаты созидательного труда масс, но весь вопрос в том, какой ценой…
С увлечением погружаясь в картины прошлого, Горький ориентировался на то, чего ждут от его книги современники. И он не хотел обманывать их надежд. Теперь уже всем было ясно, что большевизм победил. И книга о прошлом должна была быть созвучна устремлениям жизни к этой победе. Не то ли сам он утверждал в статьях о социалистическом реализме? И могли он пропагандировать истины нового метода для других, совсем не допуская необходимости опираться на них в собственном творчестве?
Никогда еще Горький не испытывал таких противоречий, внутренних терзаний, как при труде над «Климом». Ни одно произведение не доставляло ему столько сомнений и мучений. «Да, я устал, – признавался он, – но это не усталость возраста, а результат непрерывного длительного напряжения. „Самгин“ ест меня. Никогда я еще не чувствовал так глубоко ответственности своей перед действительностью, которую пытаюсь изобразить. Ее огромность и хаотичность таковы, что иногда кажется: схожу с ума».
В работе Горького над «Жизнью Клима Самгина» немало парадоксального. Как критик и наставник он отлично сознавал, что следует рекомендовать подопечным. Так в довольно резком и, видимо, потому не отправленном письме Леонову по поводу романа «Дорога на океан» читаем: «Вы показали, как умирает Курилов, а не как работает он».
Чуть ранее, в сентябре 1934 года, писал Макаренко, что вторая часть «Педагогической поэмы» значительно менее удалась, чем первая: «Над работой с людьми и землей преобладают „разговоры“. Эта часть поэмы значительно выиграет, если Вы сократите ее. Сокращать надо незначительное, чтобы ярче оттенить значительнейшее».
Сократить, чтоб оттенить значительнейшее… Призывая учиться у классиков, Горький отлично помнил главный завет, сформулированный Пушкиным: точность и краткость – первые достоинства прозы. А в «Климе», по выражению Чуковского, «на каждой странице узоры». То есть какие-то подробности, не являющиеся обязательными, нужными для характеристики человека.
«Берендеев бывал редко и вел себя, точно пьяный, который не понимает, как это он попал в компанию незнакомых людей и о чем говорят эти люди. Он растерянно улыбался, вскакивал, перебегал с места на место, как бы преследуя странную цель – посидеть на всех стульях».








