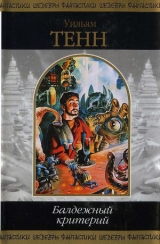
Текст книги "Балдежный критерий (сборник)"
Автор книги: Уильям Тенн
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 84 страниц)
– Понятно, – прервал его Морниел дрогнувшим голосом. (Мы оба вдруг сообразили, что мистер Глеску знает имя Морниела.) – А что же исследуете вы?
Мистер Глеску слегка поклонился:
– Искусство. Моя профессия – история искусства, а узкая специальность…
– Какая? – голос Морниела уже не дрожал, а, наоборот, стал пронзительно громким. – Какая же у вас узкая специальность?
Мистер Глеску опять слегка наклонил голову:
– Вы, мистер Метауэй. Без страха услышать опровержение смею сказать, что в наше время из всех здравствующих специалистов я считаюсь наиболее крупным авторитетом по творчеству Морниела Метауэя. Моя узкая специальность – это вы.
Морниел побелел. Он медленно добрел до кровати и рухнул на нее, ноги у него стали будто ватные. Несколько раз он открывал и закрывал рот, не в силах выдавить из себя ни единого звука. Затем глотнул, сжал кулаки и обрел контроль над собой.
– Хотите сказать, – прохрипел он, – что я знаменит? Насколько знаменит?
– Знамениты?.. Вы, дорогой сэр, выше славы. Вы один из бессмертных, гордость человечества. Как я выразился – смею думать, исчерпывающе – в своей последней книге «Морниел Метауэй – человек, сформировавший будущее»: «…сколь редко выпадает на долю отдельной личности…»
– До такой степени знаменит? – Борода Морниела дрожала, словно губы ребенка, который вот-вот заплачет. – До такой?
– Именно, – заверил его мистер Глеску. – А кто же, собственно, тот гений, с которого во всей славе только и начинается современная живопись? Чьи композиции и цветовая гамма доминируют в архитектуре последних пяти столетий, кому мы обязаны обликом наших городов, убранством наших жилищ и даже одеждой, которую носим?
– Мне? – осведомился Морниел слабым голосом.
– Кому же еще? История не знала творца, чье влияние распространилось бы на столь широкую область и действовало бы в течение столь долгого времени. С кем же я могу сравнить вас, сэр, в таком случае? Кого из художников поставить рядом?
– Может быть, Рембрандта, – намекнул Морниел, Чувствовалось, что он старается помочь. – Леонардо да Винчи?
Мистер Глеску презрительно усмехнулся:
– Рембрандт и да Винчи в одном ряду с вами? Нелепо! Разве могут они похвастать вашей универсальностью, вашим космическим размахом, чувством всеобъемлемости? Уж если искать равного, то надо выйти за пределы живописи и обратиться, пожалуй, к литературе. Возможно, Шекспир с его широтой, с органными нотами лирической поэзии, с огромным влиянием на позднейший английский язык мог бы… Впрочем, что Шекспир? – Он грустно покачал головой. – Боюсь, даже и Шекспир…
– О-о-о! – простонал Морниел Метауэй.
– Кстати, о Шекспире, – сказал я, воспользовавшись случаем, – Не приходилось ли вам слышать о поэте Давиде Данци-гере? Многие ли из его трудов дошли до вашего времени?
– Это вы?
– Да, – с энтузиазмом подтвердил я. – Давид Данцигер – это я.
Мистер Глеску наморщил лоб, раздумывая:
– Что-то не припоминаю… Какая школа?
– Тут несколько названий. Самое употребительное – антиимажинисты. Антиимажинисты, или постимажинисты.
– Нет, – сказал он после недолгого размышления. – Единственный известный мне поэт вашего времени и вашей части света – Питер Тедц.
– Питер Тедц? Слыхом не слыхал о таком.
– Значит, его пока еще не открыли. Но прошу вас не забывать, что моя область – история живописи. Не литература. Вполне вероятно, назови вы свое имя специалисту по второстепенным поэтам двадцатого века, он вспомнил бы вас без особого напряжения. Вполне вероятно.
Я глянул в сторону кровати, и Морниел осклабился. Теперь он полностью пришел в себя и наслаждался ситуацией. Каждой порой тела впитывал разницу между своим положением и моим. Я чувствовал, что ненавижу в нем все, от головы до пят. Отчего, действительно, фортуна решила улыбнуться именно такому типу, как Морниел? На свете столько художников, которые к тому же вполне порядочные люди, и надо же, чтобы это хвастливое ничтожество…
И вместе с тем какой-то участок моего мозга лихорадочно работал. Случившееся как раз доказывало, что лишь в исторической перспективе можно точно оценить роль того или иного явления искусства. Вспомните хотя бы тех, кто были шишками в свое время, а теперь совершенно забыты, – какие-нибудь современники Бетховена, например, при жизни считались куда более крупными фигурами, чем он, а сейчас их имена известны только музыковедам. Но тем не менее…
Мистер Глеску бросил взгляд на указательный палец своей правой руки, где беспрестанно сжималось и расширялось черное пятнышко.
– Мое время истекает, – сказал он. – И хотя для меня это огромное, невыразимое счастье, мистер Морниел, стоять вот так и просто смотреть на вас, я осмелюсь обратиться с маленькой просьбой.
– Конечно, – сказал Морниел, поднимаясь с постели. – Скажите только, что вам нужно. Чего бы вы хотели?
Мистер Глеску вздохнул, как если б он достиг наконец врат рая и намеревался теперь постучаться.
– Я подумал – если вы не возражаете, – нельзя ли мне посмотреть ту вещь, над которой вы сейчас работаете? Понимаете, увидеть картину Метауэя, еще незаконченную, с непросохшими красками… – Он закрыл глаза, как бы не веря, что такое желание может осуществиться.
Морниел сделал изысканный жест и гоголем зашагал к своему мольберту. Он приподнял материю.
– Я намерен назвать это, – голос его был маслянист, как нефтеносные слои в Техасе, – «Бесформенные формы 1-29».
Медленно предвкушая наслаждение, мистер Глеску открыл глаза и весь подался вперед.
– Но, – произнес он после долгого молчания, – это ведь не ваша работа, мистер Метауэй.
Морниел обернулся к нему, несколько удивленный, затем воззрился на полотно.
– Почему? Это именно моя работа. «Бесформенные формы 1-29». Разве вы ее не узнаете?
– Нет, – отрезал мистер Глеску. – Не узнаю и очень благодарен за это судьбе. Нельзя ли что-нибудь более позднее?
– Это самая поздняя, – сказал Морниел несколько неуверенно, – Все остальное написано раньше. – Он вытащил из стеллажа подрамник. – Ну хорошо, а вот такая? Как она вам покажется? Называется «Бесформенные формы 1-22». Бесспорно, лучшая вещь из раннего меня.
Мистер Глеску содрогнулся:
– Впечатление такое, будто счистки с палитры положили поверх таких же счисток.
– Точно. Это моя техника – «грязное на грязном». Но вы, пожалуй, все это знаете, раз уж вы такой специалист по мне. А вот «Бесформенные формы 1…»
– Давайте оставим эту бесформенность, мистер Метауэй, – взмолился Глеску, – Хотелось бы посмотреть вас в цвете. В цвете и форме.
Морниел почесал в затылке:
– Довольно давно не делал ничего в полном колорите… Хотя… постойте… – Его физиономия просияла, он полез за стеллаж и вынул оттуда холст со старым подрамником, – Одна из немногих вещей, сохранившихся от розово-крапчатого периода.
– Не могу представить себе тот путь… – начал было мистер Глеску, обращаясь скорее к себе самому, чем к нам. – Конечно, это не… – Он умолк и недоуменно пожал плечами, подняв их чуть ли не до ушей, – жест, знакомый всякому, кто видел художественного критика за работой. После такого жеста слова не нужны. Если вы живописец, чью работу сейчас смотрят, вам все сразу становится ясно.
К этому времени Морниел уже лихорадочно вытаскивал из-за стеллажа картину за картиной. Он показывал каждую мистеру Глеску – у того в горле булькало, как у человека, старающегося подавить рвоту, – и хватался за другую.
– Ничего не понимаю, – сказал Глеску, глядя на пол, заваленный полотнами. – Бесспорно, все это написано до того, как вы открыли себя и нашли собственную оригинальную технику. Но я ищу следа, хотя бы намека на гений, который готовится войти в мир. И… – он ошеломленно покачал головой.
– А что вы скажете насчет вот этой? – Морниел уже тяжело дышал.
– Уберите, – мистер Глеску оттолкнул картину обеими руками. Он снова взглянул на свой указательный палец, и я заметил, что черное пятно стало сжиматься и расширяться медленнее. – Остается мало времени, и я в полном недоумении. Джентльмены, разрешите вам кое-что показать.
Он вошел в пурпурный ящик, вышел оттуда с книгой в руках и поманил нас. Мы с Морниелом встали за его спиной, глядя ему через плечо. Странички книги чуть слышно звякали, когда он их переворачивал, и они были сделаны не из бумаги, уж это точно.
А на титульном листе…
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ КАРТИН
МОРНИЕЛА МЕТАУЭЯ
1928–1996
– Ты родился в двадцать восьмом? – спросил я.
Морниел кивнул:
– Двадцать третьего мая двадцать восьмого года.
И погрузился в молчание. Понятно было, о чем он думает, и я сделал быстрый расчет. Шестьдесят восемь лет. Не каждому дано точно знать, сколько еще осталось у него впереди. Но шестьдесят восемь – не так уж плохо.
Мистер Глеску открыл книгу там, где начинались репродукции.
Даже и сейчас, когда я вспоминаю свое впечатление от той первой вещи, коленки у меня слабеют и подгибаются. Это была абстракция в буйных красках, но такая, какой я никогда раньше себе и не представлял. Весь наш современный абстракционизм в сравнении с ней выглядел ученичеством на уровне детского сада.
Всякий человек, который не был лишен зрения, восхитился бы таким шедевром, даже если до сих пор он воспринимал одну лишь предметную живопись. Вещь восхищала даже в том случае, если вам вообще было плевать на живопись любого направления.
Не хочется показаться плаксой, но у меня действительно слезы навернулись на глаза. Каждый, у кого есть хоть малейшая тяга к прекрасному, реагировал бы точно так же.
Но не Морниел.
– Ах, в этом духе, – сказал он с облегчением, как человек, который понял в конце концов, чего от него требуют. – Но почему же вы сразу не сказали, что вам нужно именно в этом духе?
Мистер Глеску схватился за рукав его грязной рубашки:
– Вы хотите сказать, у вас есть и такие полотна?
– Не полотна, а полотно. Единственное. Написал на прошлой неделе в порядке эксперимента, но меня это не удовлетворило, и я отдал вещь одной девице внизу. Желаете взглянуть?
– О да! Очень.
– Прекрасно, – сказал Морниел. – Он потянулся за книгой, взял ее из рук Глеску и самым непринужденным жестом бросил на кровать. – Пошли, это у нас займет всего минуту или две.
Непривычная растерянность обуяла меня, пока мы спускались по лестнице. В одном только я был убежден так же твердо, как в том, что Джеффри Чосер жил раньше Алджернона Суин-берна, – ни одна вещь, которую написал или способен написать в будущем Морниел, не приблизится к репродукциям книги даже на миллион эстетических миль. И я знал, что он, несмотря на свое всегдашнее хвастовство и неисчерпаемую самонадеянность, тоже это понимает.
Двумя этажами ниже Морниел остановился перед дверью и постучал. Никакого ответа. Подождал две секунды и постучался еще раз. Опять ничего.
– Черт побери! Нет дома. А мне так хотелось показать вам эту вещь!
– Мне нужно ее увидеть, – очень серьезно сказал мистер Глеску, – Мне нужно увидеть хоть что-нибудь похожее на вашу зрелую работу. Но мое время подходит к концу, и…
– Знаете что? – Морниел щелкнул пальцами. – У Аниты там кошки, она просила подкармливать их в свое отсутствие и оставила мне ключ от квартиры… Если я сбегаю наверх и принесу?
– Превосходно, – радостно отозвался Глеску, глянув на свой палец. – Только, будьте добры, поскорее.
– Молниеносно. – Но затем, поворачиваясь к лестнице, Морниел перехватил мой взгляд и подал знак – тот, которым мы пользовались, совершая наши «покупки». Это означало: «Заговори ему зубы. Постарайся его заинтересовать».
Тут-то я и сообразил – книга! Слишком много раз я видел, как действует Морниел, и не мог не догадаться, что небрежный жест, каким он бросил книгу на кровать, таил в себе все что угодно, кроме небрежности. Морниел просто положил книгу так, чтоб при желании можно было сразу ее взять. Теперь он кинулся наверх прятать книгу, а когда время мистера Глеску истечет, ее просто не удастся найти.
Ловко! Чертовски ловко, я бы сказал. А потом Морниел Метауэй возьмется создавать произведения Морниела Метауэя. Только он не будет их создавать.
Он их скопирует.
Между тем поданный знак заставил меня открыть рот и автоматически начать болтовню.
– А сами вы рисуете, мистер Глеску? – Это было хорошее начало.
– О нет! Конечно, мальчишкой я собирался стать художником – по-моему, с этого начинает каждый искусствовед – и даже собственноручно испачкал несколько холстов. Но они были очень плохи, просто ужасны. Потом я понял, что писать о картинах много легче, чем создавать их. А когда взялся за чтение книг о жизни Морниела Метауэя, мне стало ясно, в чем мое призвание. Понимаете, я не только очень хорошо чувствовал суть его творчества, но и сам он всегда казался мне человеком, которого я мог бы понять и полюбить… Вот это меня тоже озадачивает сейчас. Он совсем… ну совсем не таков, каким мне представлялся.
– Уж это точно, – кивнул я.
– Естественно, историческая перспектива обладает способностью как-то возвеличивать, окружать ореолом романтики каждую выдающуюся личность. Признаться, в характере мистера Морниела я уже вижу черты, над которыми облагораживающему влиянию столетий придется как следует пора… Впрочем, не стану продолжать, мистер Данцигер. Вы его друг.
– Почти единственный в целом мире, – сказал я. – У него их не так уж много.
При всем том мысль моя работала, стараясь охватить происходящее. Однако чем глубже я вникал в ситуацию, тем больше в ней запутывался. Сплошные парадоксы. Каким образом Морниел Метауэй через пять веков прославится благодаря картинам, если сам впервые в жизни увидел их в книге, изданной через пять веков? Кто написал эти картины – Морниел Метауэй?.. Так говорится в книге, и, поскольку томик теперь у него, он действительно это сделает. Но он будет просто копировать. А кому же тогда принадлежат оригиналы?
Мистер Глеску озабоченно посмотрел на свой палец:
– Времени практически уже нет.
Он бросился вверх по лестнице, и я за ним. Мы ворвались в студию, и я приготовился скандалить насчет книги – без особого удовольствия, потому что Глеску мне нравился.
Книга исчезла, кровать была пуста. И еще кое-чего не хватало в комнате – машины времени и Морниела Метауэя.
– Он уехал! – задохнувшись, воскликнул мистер Глеску. – И оставил меня здесь! Видимо, прикинул, что, если войти в ящик и захлопнуть за собой дверь, машина сама вернется в нашу эпоху!
– Прикидывать-то он мастер, – сказал я с горечью. Насчет такого я не уговаривался и в таком предприятии не стал бы участвовать. – Пожалуй, он уже прикинул и насчет правдоподобной истории, чтоб объяснить людям вашего времени, как это все получилось. Да и в самом деле, зачем ему из кожи вон лезть в двадцатом веке, когда он может быть признанной, боготворимой знаменитостью в двадцать пятом?
– Но что будет, если они попросят его написать хотя бы одну картину?
– Он скажет, что труд его жизни окончен и он не чувствует себя в силах добавить к этому что-нибудь значительное. Не сомневаюсь, кончится тем, что он еще будет читать лекции о самом себе. Можете за него не беспокоиться, он не пропадет. Меня вот тревожит, что вы здесь увязли. Можно ли надеяться на спасательный отряд?
Мистер Глеску с убитым видом покачал головой:
– Каждый лауреат дает подписку, что он сам несет ответственность в том случае, если возвращение невозможно. Машину запускают раз в пятьдесят лет, а к тому времени какой-нибудь другой ученый будет требовать права посмотреть разрушение Бастилии, присутствовать при рождении Гаутамы Будды и чего-нибудь в таком роде. Я тут действительно увяз, как вы выразились. Скажите, это очень худо – жить в вашем времени?
Чувствуя себя виноватым, я хлопнул его по плечу:
– Ну не так уж и худо! Конечно, надо иметь удостоверение личности, – не представляю, как вы будете его получать в таком возрасте. И возможно – конечно, нельзя сказать наверняка. – ФБР либо Иммигрантское управление вызовут вас на допрос, поскольку вы все-таки что-то вроде иностранца, проникшего сюда нелегально.
Лицо его перекосилось.
– Боже мой! Ведь это ужасно.
Но в этот миг меня озарила идея.
– Не обязательно… Слушайте, у Морниела есть удостоверение личности – года два назад он поступал на работу. А свидетельство о рождении он держит в ящике стола вместе с другими документами. Почему бы вам не стать Морниелом? Он-то никогда не уличит вас в самозванстве.
– Ну а его друзья, родственники…
– Родители умерли. Ни одного родственника, о котором бы я слышал. И, кроме меня, как я вам уже говорил, никого, близкого к понятию «друг». – Я вдумчиво оглядел мистера Глеску с головы до ног. – По-моему, вы могли бы за него сойти. Может быть, отрастите бороду и покраситесь под блондина. То да се… Правда, серьезная проблема – чем зарабатывать на жизнь. В качестве специалиста по Метауэю и направлениям в искусстве, берущим от него начало, много вам не заработать.
Он вцепился в меня:
– Я мог бы писать картины. Всегда мечтал стать художником. Таланта у меня мало, но я знаю множество технических приемов живописи, всевозможные графические нововведения, которые неизвестны вашему времени. Думаю, что даже без способностей этого будет достаточно, чтобы перебиться на третьем-четвертом уровне.
И этого оказалось достаточно. Совершенно достаточно. Причем не на третьем-четвертом уровне, а на первом. Мистер Глеску, он же Морниел Метауэй, – лучший из живущих художников. И самый несчастный среди всех них.
– Послушайте, что происходит с публикой? – разозлился он после очередной выставки. – С ума они, что ли, посходили – так меня расхваливать? Во мне ведь ни унции таланта. Все мои работы не самостоятельны, все полотна до единого – подражания. Я пытался сделать хоть что-нибудь, что было бы полностью моим, но так погряз в Метауэе, что утратил собственную индивидуальность. Эти идиоты-критики продолжают неистовствовать, а вещи-то написаны не мною.
– Кем же они тогда написаны? – поинтересовался я.
– Метауэем, конечно, – ответил он с горечью. – У нас думали, что парадокса времени не существует, – хотелось бы мне, чтоб вы почитали ученые труды, которыми забиты библиотеки. Специалисты утверждали, что невозможно, например, скопировать картину с будущей репродукции, обойдясь, таким образом, без оригинала. А я-то что делаю – как раз и копирую по памяти!
Неплохо было бы сказать ему правду, он такой милый человек, особенно по сравнению с этим проходимцем Метауэем, и так мучается. Но нельзя.
Видите ли, он сознательно старается не копировать те картины. Он так упорствует в этом, что отказывается думать о книге и даже разговаривать о ней. Но мне все же удалось недавно выудить из него две-три фразы. И знаете что? Он ее не помнит – только в самых общих чертах.
Удивляться тут нечему – он и есть настоящий Морниел Метауэй, без всяких парадоксов. Но если я ему когда-нибудь открою, что он просто пишет эти картины, создает их сам, а не восстанавливает по памяти, его покинет даже та ничтожная доля уверенности в своих силах, которая в нем есть, и он совсем растеряется. Так что пусть уж считает себя обманщиком, хотя на самом деле все обстоит не так.
– Забудьте об этом, – твержу я ему. – Доллары все равно остаются долларами.
Семейный человек
Стюарт Рейли отыскал свое место в специальном стратоплане для пассажиров с сезонными билетами. Этим рейсом он каждый день возвращался из Центральной нью-йоркской торгово-промышленной зоны к себе в загородный дом в Северном Нью-Гемпшире. Ноги его буквально одеревенели, а глаза ничего не видели. Только по привычке – ведь Рейли многие годы проделывал одни и те же действия – он сел у окна, рядом с Эдом Грином. Опять-таки по привычке он тотчас же нажал кнопку в спинке переднего кресла и вперил взгляд в крошечный экран-шла вечерняя программа теленовостей, хотя ни одно из выпаливаемых скороговоркой сообщений не доходило до него.
Как сквозь сон, он услышал характерный для взлета свист, по привычке твердо уперся ногами в пол и привалился животом к предохранительному ремню. Однако он понял, что приближается ситуация, когда привычка не поможет, как не поможет ничто: с ним стряслась беда, самая страшная из всех бед, которые могут случиться с человеком в 2080 году нашей эры.
– Что, Стив, горячий денек выдался? – громко спросил его подвыпивший Эд Грин. – Ну и видик у тебя!
Рейли почувствовал, что его губы шевелятся, но лишь через некоторое время услышал звук собственного голоса.
– Да, – еле выговорил он, – у меня был горячий денек.
– А кто тебя просил лезть в «Минералы Солнечной системы»? – сразу завелся Эд. – Эти межпланетные корпорации все одинаковы: давай, давай и еще раз давай. Немедленно, сию минуту, сию секунду подготовь накладные: сейчас стартует товарный ракетоплан на Нептун, а другого не будет целых полгода, непременно продиктуй все письма на Меркурий… Что я, не знаю? Я пятнадцать лет назад работал на «Инопланетную формацию» и сыт по горло! Нет уж, лучше я буду торговать недвижимостью в Центральной нью-йоркской торгово-промышленной зоне. Спокойно. Надежно!
Рейли печально кивнул и потер лоб. Голова не болела, но пусть бы уж лучше болела. Все что угодно, только бы не думать.
– Конечно, здесь много не заработаешь, – громко продолжал Эд, переходя к другой стороне вопроса. – Состояния не наживешь, но и язвы тоже. Пусть я всю жизнь проторчу во второй группе, зато это будет долгая жизнь. В моей конторе работают не спеша и не слишком себя утруждают. Мы знаем, что старина Нью-Йорк стоит на своем месте много лет и еще будет стоять.
– Да, это верно, – согласился Рейли, по-прежнему глядя на экран застывшим взором. – Нью-Йорк еще долго будет стоять.
– Слушай, старик, чего ты ноешь? Ганимед пока не распался на атомы. Ничего с ним не случится!
К ним наклонился сидевший сзади Фрэнк Тайлер:
– Перекинемся в картишки, парни? Убьем полчасика.
Рейли никогда не любил карт, но признательность не позволила ему отказаться. Фрэнк, его сослуживец по «Минералам», все время прислушивался к словам Грина, как и остальные в стратоплане, но он один понимал, какие мучения неумышленно причинял Стюарту этот агент по продаже недвижимости! Он чувствовал себя все более и более неловко и решил отвлечься от грустных мыслей во что бы то ни стало.
Фрэнк поступает благородно, подумал Рейли, когда они с Эдом повернулись на креслах лицом друг к другу. В конце концов, Рейли сделали управляющим Ганимедского отделения через голову Фрэнка; другой бы с удовольствием слушал, как Эд бьет по больному месту, но Фрэнк был не таков.
Началась обычная игра, как всегда, четыре партнера. Сидевший слева от Фрэнка Тайлера Брус Робертсон, художник, иллюстрировавший книги, поднял с пола свой огромный портфель и положил на колени вместо стола. Фрэнк распечатал новую колоду, и каждый вытащил карту. Начинать выпало Эду Грину.
– Ставки как всегда? – спросил он, тасуя карты. – Десять, двадцать, тридцать?
Они кивнули, и Эд стал раздавать. Он буквально не закрывал рта.
– Я и говорю Стиву, – он объяснял так громко, что, наверное, и пилоту в его герметической кабине было слышно, – что торговля недвижимостью очень благотворно влияет на кровяное давление, да и на все остальное тоже. Моя жена без конца пристает, чтобы я занялся чем-нибудь поприбыльнее. «Какой позор, – твердит она, – в мои годы – и только двое детей! Стюарт Рейли на десять лет моложе тебя, а Мэриан родила уже четвертого. И тебе не стыдно? Мужчина! Да если б ты хоть чуточку был мужчиной, ты бы сделал что-нибудь». Знаете, что я ей отвечаю? «Шейла, – говорю я, – скажи, пожалуйста, а у тебя все в порядке с 36-А?»
Брус Робертсон недоуменно взглянул на него:
– 36-А?
Эд Грин загоготал:
– Эх ты, беспечный холостяк! Погоди, вот женишься, тогда узнаешь, что такое 36-А. Будешь есть, пить и спать по 36-А.
– Форму 36-А заполняют, – спокойно объяснил Брусу Фрэнк Тайлер, собирая ставки, – когда обращаются в БПС за разрешением иметь еще одного ребенка.
– Ах да, конечно. Я просто не знал названия. Но ведь благосостояние – только одно из условий. Бюро планирования семьи принимает во внимание также здоровье родителей, наследственность, домашнюю обстановку…
– Ну, что я говорю?! Бездетный холостяк, сопляк, молокосос! – завопил Эд.
Брус Робертсон побледнел.
– Ты прав, благосостояние – только одно из условий, – поспешно вмешался миротворец Фрэнк Тайлер. – Но зато самое важное. Если в семье уже есть двое детей и с ними все в порядке, то, принимая решение, БПС рассматривает главным образом ваш достаток.
– Верно! – Эд хлопнул по портфелю, и карты на нем заплясали. – Взять хоть моего шурина, Пола. С утра до ночи слышу: Пол то, Пол се, – неудивительно, что я знаю о нем больше, чем о себе самом. Полу принадлежит половина Грузового синдиката «Марс – Земля», конечно, он в восемнадцатой группе. Его жена лентяйка, ее не интересует, что о них подумают, поэтому у них только десять детей, но…
– Они живут в Нью-Гемпшире? – спросил Фрэнк. Стюарт Рейли заметил, что перед этим Фрэнк бросил на него сочувственный взгляд: ясно было, что он пытается изменить тему разговора, понимая, как она угнетает Рейли. Наверное, это было написано у него на лице.
С лицом нужно что-то сделать: через несколько минут он встретит Мэриан. Если он не будет все время начеку, она тотчас же догадается.
– В Нью-Гемпшире? – презрительно переспросил Эд. – Мой шурин Пол, с его деньгами? Нет, сэр, эта дыра не для него! Уж он живет действительно в фешенебельном месте; в Канаде, западнее Гудзонова залива. Но я уже говорил, что Пол и его жена не очень ладят друг с другом и домашняя обстановка у его ребятишек не самая лучшая в мире – ну, вы понимаете, что я хочу сказать. И что ж вы думаете, у них когда-нибудь возникают затруднения с формой 36-А? Ничего подобного! Она возвращается на другое утро после того, как они ее заполнили, и наверху красуется большой синий штамп «одобрено». Там, в БПС, небось, считают: какого черта тут раздумывать, с их деньгами они наймут первоклассных воспитательниц и психологов! А если все-таки возникнут какие-нибудь неприятности, когда ребятишки подрастут, они пройдут самый лучший курс психотерапии, какой только можно получить за деньги.
Брус Робертсон покачал головой:
– Сомневаюсь… Ведь каждый день очень многие весьма перспективные родители получают отказы из-за плохой наследственности.
– Наследственность – одно, – заметил Эд, – а условия – другое. Наследственность нельзя изменить, а условия можно. И скажи-ка мне, милый друг, что может лучше всего изменить условия, как не деньги? Есть деньги – и БПС считает, что вашему ребенку обеспечен хороший старт, особенно когда он с детства у них под наблюдением. Тебе сдавать, Стив! Эй, Стив? Ты что, оплакиваешь свой проигрыш? Молчишь, словно воды в рот набрал! Что-нибудь случилось? Слушай, может, тебя уволили?
Рейли попытался взять себя в руки.
– Да нет, – хрипло выдавил он, собирая карты. – Не уволили.
* * *
Мэриан ждала его в семейном ракетоплане на аэродроме. К счастью, ее настолько переполняли последние сплетни, что ей было не до него. Лишь когда он поцеловал ее, она подозрительно вскинула глаза:
– Ты прямо бесчувственное бревно! Раньше это получалось у тебя гораздо лучше.
Он до боли сжал руки и попытался сострить:
– Это было еще до того, как я превратился в бесчувственное бревно. Сегодня у меня был горячий денек. Будь со мной поласковей, детка, и не требуй от меня слишком многого.
Она понимающе кивнула, и они забрались в небольшую машину. Лиза, их старшая дочь, которой было двенадцать лет, сидела на заднем сиденье с младшеньким Майком. Она громко чмокнула отца и поднесла к нему малыша для такой же церемонии.
Он почувствовал, что поцеловать ребенка стоило ему немалых усилий.
Они поднялись в воздух. С аэродрома во все стороны разлетались ракетопланы. Стюарт Рейли не сводил глаз с мелькавших внизу крыш и все думал, думал, когда же лучше сказать жене. Пожалуй, после ужина. Нет, лучше подождать, пока лягут дети. Вот они с Мэриан останутся вдвоем… Он почувствовал в желудке холодный ком, точь-в-точь как днем после завтрака. Интересно, соберется ли он с духом и расскажет ей обо всем? Придется. Никуда не денешься. И надо это сделать не позднее сегодняшнего вечера.
– …если бы я когда-нибудь верила хоть одному слову Шейлы, – говорила Мэриан. – Я ей так и сказала: Конни Тайлер не из таких, и хватит об этом. Ты помнишь, милый, в прошлом месяце Конни пришла в больницу навестить меня? Конечно, я знала, что она думает, глядя на Майка: если бы не ты, а Фрэнк стал управляющим Ганимедского отделения и получал бы на две тысячи территов больше, это она бы сейчас родила четвертого, а я бы пришла ее навестить. Я знала, о чем она думает, потому что на ее месте думала бы точно так же. Но она искренне заявила, что Майк – самый крепкий и развитый малыш из всех, что ей приходилось видеть. И когда она пожелала мне в следующем году родить пятого ребенка, это было сказано от всей души.
«Пятый ребенок! – с горечью подумал Стюарт Рейли. – Пятый!»
– …смотри сам: что мне делать с Шейлой, если она придет завтра и начнет все сначала?
– Шейла? – тупо повторил он. – Какая Шейла?
Склонившись над панелью управления, Мэриан нетерпеливо тряхнула головой:
– Ты что, не помнишь Шейлу Грин, жену Эда? Стюарт, да ты слышал хоть слово из того, что я говорила?
– Разумеется, милая. О… больнице и о Конни. И о Майке. Я слышал все, что ты говорила. Но куда должна прийти Шейла?
Она обернулась и впилась в него взглядом. Большие зеленые кошачьи глаза (однажды на танцах его так и потянуло через весь зал к ним, к незнакомой девушке) были очень серьезны. Щелкнув переключателем, она включила автопилот, который повел ракетоплан по заданному курсу.
– Стюарт, что-то случилось. У тебя не просто горячий денек на работе, а что-то серьезное, я ведь вижу. В чем дело?
– Потом, – сказал он. – Я тебе все расскажу потом.
– Нет, сейчас. Расскажи немедленно. Я не вынесу ни единой секунды, если ты будешь сидеть с таким видом.
Не отрывая глаз от домов, которые бесконечной вереницей проносились под ними, он глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду.
– Химическая корпорация Юпитера сегодня купила шахту Кеохула…
– Ну и что из этого?
– Кеохула – единственная шахта на Ганимеде, которая работает на полную мощность, – с трудом выдавил он.
– Я все равно… боюсь, что я все равно не понимаю. Стюарт, объясни мне в двух словах, что это значит?
Подняв голову, он заметил, что она испугалась. Она не понимала, о чем он говорит, но у нее всегда была изумительная интуиция. Почти телепатическая.
– Кеохула продана, и за хорошую цену. Теперь «Минералам» невыгодно иметь отделение на Ганимеде. Вот оно и закрывается, сразу же.
Мэриан в ужасе поднесла руки ко рту:
– И это значит… значит…
– Это значит, что им больше не нужны ни Ганимедское отделение, ни его управляющий.








