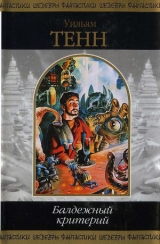
Текст книги "Балдежный критерий (сборник)"
Автор книги: Уильям Тенн
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 84 страниц)
И даже в таком случае нам бы пришлось искать его часами – под «нами» я подразумеваю себя и всех роботов в моем подчинении, – если бы я не прибегал к помощи антропометра. Это чудо техники очень быстро указывает на его убежище; так что, извлекая его из казенной части космической гаубицы в Оружейном зале, я возвращаю его в детский манеж. И уже потом, если отважусь и ему не пора есть, я могу вернуться на Тибетское нагорье, и то лишь на короткое время.
Сейчас я сооружаю для него что-то вроде огромной клетки с автоподогревом и туалетом, а также устройствами, которые отгоняют нежелательных животных, насекомых и всяких ползучих тварей. И хотя времени на это уходит невероятно много, думаю, что я только выиграю.
Ума не приложу, как мне кормить его. Единственное, что предлагает мне литература по интересующему меня вопросу, – это дать ребенку поголодать, если он отказывается принимать пищу обычным путем. Но, попробовав раз последовать этому совету, мне пришлось сдаться – ребенка, безропотно смирившегося с голодовкой, она, похоже, вполне устраивала. Так что теперь я кормлю его сам.
Вот только не знаю, кого винить. Из-за того, что я стал Хранителем сразу, как вошел в возраст, мне не довелось испытать потребности в воспроизводстве себе подобных. Дети меня никогда не интересовали. Ни в малейшей степени. Я ничего о них не знаю да и знать не хочу.
Я всегда считал, что мое отношение к этому вопросу прекрасно выражено Сократом в его комментариях к «Симпозиуму»: «Кто, размышляя над Гомером и Гесиодом и другими великими поэтами, подобными им, не предпочел бы иметь их детей, нежели обыкновенных людей? Кто не захотел бы посоперничать с ними, рожая детей, какие были у них, сохранившими о них память и обессмертившими их имя?.. Множество храмов, воздвигнутых в их честь ради таких детей, как у них, никогда не воздвигались в честь кого-то ради его заурядных детей».
К сожалению, мы – единственные живые люди на Земле, этот ребенок и я. Мы вместе двигаемся к неотвратимой гибели; мы едем на казнь в одной круглой повозке. И все сокровища мира, которые всего несколько дней назад принадлежали мне одному, являются теперь хотя бы частично его собственностью. Мне бы очень хотелось пообсуждать с ним какие-нибудь вопросы, не только затем, чтобы менее пристрастно расставить все по полочкам, но и просто ради удовольствия от дискуссии. Я пришел к выводу, что дневник я начал из неосознанного страха, когда после отлета последних Утверждателей обнаружил, что остался совсем один.
Оказывается, я начинаю тосковать по беседам, по мыслям, отличающимся от моих, по мнениям, которым я мог бы противопоставить свои. Однако из всех книг о детях мне стало ясно, что, хотя этот ребенок может начать говорить сейчас в любой день, нас поглотит катаклизм задолго до того, как он выучится спорить со мной. Все это очень печально, но, увы, неизбежно.
Я просто вне себя! Дело в том, что я снова не могу позволить себе изучать искусство, как бы мне этого ни хотелось. Я уже старый человек и заслужил право жить без всяких обязательств. Я, можно сказать, жизнь положил за привилегию изучать. Я раздосадован как нельзя больше.
И беседа. Могу себе представить, как бы мы сейчас беседовали с каким-нибудь Утверждателем, окажись он сейчас здесь со мной, на планете, покинутой всеми. Какое безразличие, какое целенаправленное врожденное слабоумие! Какой категорический отказ смотреть на красоту – не говоря уже о том, чтобы ее признать, – которую создавали представители его рода в течение семидесяти тысячелетий! В его голове, если он, скажем, европеец, лишь крохи сведений о признанных художниках его культуры. Где ему знать, например, о китайской живописи или наскальных рисунках! Где ему разобраться, что в каждой культуре были свои периоды примитивизма, сменяемые эпохами расцвета чувственности, в свою очередь сменяемые союзом эстетических завоеваний и возрастанием формализма, и все это завершалось эпохой декадентства и поисков самовыражения, которая почти прямиком вела в еще один период примитивизма и чувственности! Что в основных культурах эти эпохи и периоды происходят снова и снова, так что в другом полном цикле наверняка повторится даже величайший гений Микеланджело, Шекспира, Бетховена – только называться они будут по-другому! Что в нескольких различных периодах расцвета в древнеегипетском искусстве был и свой Микеланджело, и Шекспир, и Бетховен!
Как Утверждателю разобраться в подобных понятиях, если ему недостает начальных знаний, без которых ему ничего не понять? Если их корабли покинули обреченную Солнечную систему, загруженные лишь удобными в употреблении художественными подделками? Если из страха, что их дети станут сентиментальны, они отказались разрешить им взять с собой свои ребячьи ценности и поэтому, когда они долетят до Проциона-XII, чтобы его колонизовать, они не проронят ни единой слезинки ни по миру, который погиб, ни по оставленному там щенку?
Но история иногда играет с Человеком такие невероятные шутки! Сбежавшие от своих музеев и не сохранившие у себя ничего, кроме равнодушных микрофильмов с записями того, что лежало в их хранилищах культуры, они рано или поздно поймут, что разрушать человеческую сентиментальность нельзя. Холодные, прекрасно оснащенные звездолеты, которые доставили их в чужие миры, станут музеями прошлого, пока ржавчина не съест на чужбине их остовы. Их жесткие строгие линии вдохновят людей на строительство храмов и станут источником пьяных слез.
Да что же это со мной, в конце концов! Все пишу да пишу! Я ведь просто хотел объяснить, почему раздражен.
29 мая 2190 г.
Сегодня я принял кое-какие решения. Не знаю, смогу ли я выполнить хотя бы самые важные, но буду стараться. Однако для этого мне как воздух нужно время, так что буду писать в дневник как можно меньше – если вообще буду писать. Попробую быть кратким.
Начну с самого незначащего решения: я назвал ребенка Леонардо. Не знаю, почему мне захотелось назвать его именем человека, которого, несмотря на все его таланты – а вернее, из-за его талантов, – я считаю самым потрясающим неудачником в истории искусства. Но Леонардо был всесторонне образованным человеком, какими никогда не были Утверждатели и каким, как я начинаю подозревать, не являюсь я сам.
Кстати, ребенок уже откликается на свое имя. Мальчику еще трудно выговаривать его, но он так чудно откликается. Он подражает мне, и довольно успешно. К тому же я бы сказал…
Ну да хватит об этом.
Я решил попытаться сбежать с Земли вместе с Леонардо. Причин на это много, и они очень непростые. Я даже не уверен, что понимаю их все, но я знаю одно: я почувствовал ответственность за другую жизнь и уклоняться от нее дольше не могу.
Это не запоздалое прорастание в учение Утверждателей, но мои мысли поистине становятся здравыми. Поскольку я верю в реальность красоты, особенно красоты, сотворенной умом и руками человека, я не мог выбрать другого решения.
Я уже стар и мало чего добьюсь на исходе своей жизни. Леонардо – совсем еще дитя и представляет собой сырой материал с заложенными в нем возможностями, из которого может что-то получиться. Песня, прекраснее песен Шекспира. Мысль, обогнавшая мысль Ньютона, Эйнштейна. Или порок, ужаснее пороков Жиля де Реца; злоба, чудовищнее злобы Гитлера.
Но возможности должны быть реализованы. Думаю, что, учась у меня, он навряд ли станет порочным, а я смогу таким образом реализовать свои возможности.
Во всяком случае, даже если Леонардо как таковой представляет собой полное ничтожество, он может оказаться носителем зародышевой плазмы Будды, Еврипида, Фрейда. И я просто обязан реализовать эти его возможности.
Корабль есть. Он называется «Надежда человечества», и он был первым кораблем, достигшим звезд около века назад, когда только-только обнаружилось, что наше Солнце вспыхнет и менее чем через сто лет станет новой звездой. Это был корабль, который принес человечеству ошеломляющую весть о том, что у других звезд тоже есть планеты и что многие из тех планет пригодны для проживания человека.
Давно, очень давно привел свой звездолет капитан Карма на родную Землю с известием о том, что можно спастись. Это произошло задолго до моего рождения; задолго до того, как человечество разделилось на две неравные части – Хранителей и Утверждателей; и уж вовсе задолго до того, как обе группировки стали пять лет назад объединять бдительных фанатиков.
Корабль находится в Музее Современной Астронавтики. Мне известно, что о его состоянии всегда пеклись, так что он должен бьггь в идеальном порядке. Мне также известно, что двадцать лет назад, еще до того как Утверждатели заявили, что из музеев ровно ничего выносить нельзя, корабль оснастили новейшей приводной системой. Объяснялось это тем, что, если бы корабль понадобился в День Исхода, его перелет к звезде занял бы лишь месяцы, а не годы, как предусматривалось без этой новой системы.
Однако я не уверен, сумею ли я, Фиятил, Хранитель Хранителей и нештатный художественный критик, управлять им, когда мы с Леонардо полетим.
Но, как заметил один из моих любимых актеров-комиков о видах на будущее человека, отрубающего собственную голову, «человеку все возможно…»
Мне на ум приходят разные высказывания, даже в какой-то степени более интересные, но это пришло первым. В эти дни я подолгу смотрю на Солнце. И очень внимательно. Очень.
11 ноября 2190 г.
Я сумею. Для этой цели я переделаю двух роботов, и они помогут мне управлять кораблем. Мы с Леонардо можем лететь хоть сейчас. Но мне еще надо кое-что сделать.
А задумал я вот что. Я собираюсь использовать все свободное пространство на корабле. Раньше он предназначался для разных двигателей и многочисленного экипажа, а я собираюсь использовать внутренность звездолета в качестве ящика стола. Тот ящик Я хочу набить памятными вещицами человечества, сокровищами его детства и юности – сколько смогу втиснуть.
Целыми неделями я только и делал, что собирал сокровища со всего мира. Немыслимой красоты керамика, поразительные фризы, изумительная скульптура, полотна знаменитых живописцев в несметном количестве устилали пол в коридорах музея. Брейгель свален на Босха, Босх – на Дюрера. Я хочу привезти на ту звезду, к которой направлю корабль, всего понемногу, чтобы люди имели представление, на что похожи истинные шедевры. Я включаю в свой список такие шедевры, как «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, Девятую симфонию Бетховена, «Мертвые души» Гоголя, «Гекльберри Финна» Марка Твена, голограммы писем Диккенса и речей Линкольна. Есть еще много другого, но я не могу взять с собой все. Чтобы не выйти за рамки допустимого, буду выбирать по своему вкусу.
Поэтому я ничего не беру с потолка Сикстинской капеллы. Вместо этого я вырезал два кусочка из «Страшного суда». Мне они нравятся больше всего: душа, которая неожиданно осознает, что осуждена, и содранная кожа, на которой Микеланджело нарисовал свой портрет.
Беда лишь в том, что та фреска уж слишком увесиста! Вес, вес, вес – я только об этом сейчас и думаю. Даже Леонардо и тот ходит за мной по пятам и говорит: «Вес, вес, вес!» У него это здорово получается.
И все же, что мне взять от Пикассо? Горсточку картин, конечно, но ведь надо прихватить и «Гернику». А это еще больше веса.
Я взял немного чудесной русской утвари из меди и кое-какие бронзовые чаши времен династии Мин. Я взял лопаточку из Восточной Новой Гвинеи, сделанную из промасленного лаймового дерева и с восхитительной резной ручкой (лопаточку использовали при жевании плодов бетелевой пальмы и лайма). Я взял чудесную алебастровую фигурку коровы из древнего Шумера. Я взял удивительного серебряного Будду из Северной Индии. Я взял немного дагомейских латунных фигурок, своим изяществом способных посрамить Египет и Грецию. Я взял резной сосуд пятнадцатого века из слоновой кости, изготовленный в Бенине, Западная Африка, с изображением настоящего европейского Христа на кресте. Я взял «Венеру» Виллендорфскую, Австрия, – фигуру, вырезанную в ориньякскую эпоху палеолита, которая является частью традиционного «венерианского» искусства доисторического человечества.
Я взял миниатюры Гильярда и Гольбейна, сатирические гравюры Хоггарта; прекрасный рисунок маслом на бумаге, восемнадцатый век, выполненный в традициях индийской школы Кангра, в котором на удивление мало чувствуется влияние моголов; японские гравюры Такамару и Хиросиге – на чем же мне остановиться? Как мне выбрать?
Я взял листы из «Евангелия из Келса», старинной рукописи, украшенной цветными рисунками и по красоте почти не имеющей себе равных. И еще я взял листы из Библии Гуттенберга, составленной на ранней заре печатного дела, страницы которой тоже расцвечены рисунками, чтобы придать книге подобие старинной рукописи – печатники не хотели, чтобы об их изобретении узнали. Я взял тугру Сулеймана Великолепного – каллиграфический вензель, которым султан украшал заголовки своих имперских указов. Я также взял древнееврейский свиток с Законом, чья каллиграфия затмевает блеск драгоценных камней, какими инкрустированы шесты, на которые он намотан.
Я взял коптские текстили шестого века и алансонские кружева шестнадцатого. Я взял великолепную красную вазу с широким горлом из одной из афинских морских колоний и деревянную фигуру с носа новоанглийского фрегата. Я взял «Обнаженную» Рубенса и «Одалиску» Матисса.
Из архитектуры я беру с собой китайское «Краткое наставление по архитектуре», с которым как с учебным пособием, по-моему, ничто не сравнится, и макет дома Ле Корбюзье, построенного им самим. Мне бы очень хотелось взять все здание Тадж-Махала, но я беру жемчужину, которую Могол подарил ей, той женщине, для которой он выстроил этот неописуемой красоты мавзолей. Красноватого оттенка жемчужина имеет форму груши длиной около трех с половиной дюймов. Вскоре после того как драгоценный камень был погребен вместе с ней, он оказался во владении китайского императора, который поместил его в розетку золотых листьев в обрамлении нефрита и изумрудов. На пороге девятнадцатого столетия жемчужина была продана на Ближнем Востоке за низкую, смехотворную сумму и осела в Лувре.
И еще орудие труда: небольшой каменный топор – первая известная вещь, которую смастерили человеческие руки.
Все это я перенес к звездолету. Я ничего не сортировал. И вдруг вспоминаю, что ничего не выбрал из мебели, из художественного оружия, из гравированного стекла…
Надо спешить, спешить!
Ноябрь 2190 г.
Вскоре после того как я закончил с последним экспонатом из моего списка, я взглянул на небо. Солнце было испещрено зелеными пятнами, и со всех точек сферы исходили, завихряясь, странные оранжевые струйки. Ясно, что это был еще не конец. Это были симптомы смерти, которую предсказали астрономы.
Но конец пришел моим сборам, и в течение дня я рассортировал все собранные экспонаты. Правда, когда внезапно выяснилось, что детали фресок Микеланджело будут слишком тяжелыми, мне снова пришлось заняться плафоном Сикстинской капеллы. На этот раз я вырезал относительно крошечную часть – палец Создателя, которым Он пробуждает Адама к жизни. И еще я решил взять «Джоконду» Да Винчи, хотя его «Беатриче д'Эсте» мне больше по вкусу, – ведь улыбка Моны Лизы принадлежит миру.
Все афиши представлены одним Тулуз-Лотреком. Я оставил «Гернику»: вместо нее Пикассо представлен одной его картиной «голубого периода» и единственной керамической тарелкой, поистине замечательной. Я оставил «Вечное осуждение» Гарольда Париса из-за его величины, из него я взял только гравюру из «Бухенвальда» «Куда идем?». Так или иначе, но в спешке последних минут я, помнится, прихватил множество бутылей из Ирана эпохи Сефевидов шестнадцатого-семнадцатого веков. И пусть будущие историки и психологи ломают голову над причинами моего выбора – теперь уже поздно что-либо менять.
Мы сейчас летим к Альфе Центавра и будем там через пять месяцев. Интересно, как воспримут нас и наши сокровища? И вдруг чувствую безумную радость. Не думаю, что она как-то связана с моим довольно запоздалым осознанием того, что я, У кого недостало таланта и который в искусстве оказался жалким неудачником, занял как никто важное место в истории искусствa – в своем роде, Ной – эстет.
Нет, все дело в том, что я везу на встречу прошлое и будущее, где им все еще будет возможно прийти к соглашению. Минуту назад Леонардо бросил мячом в видеоэкран, и, глядя в него, я смотрел, как пухнет дряхлое Солнце, наливаясь краснотой перед апоплексическим ударом. И тогда я проговорил ему: «К своему великому удивлению, я вижу, что посреди смерти я нахожусь – наконец-то! – поистине в жизни».
Огненная вода
Самый волосатый, грязный и старый из трех аризонских визитеров потерся спиной о пенопластовое кресло.
– Вкрадчивость напоминает лаванду, – заметил он, как бы начиная беседу.
Два его спутника – тощий юноша с бегающими глазами и женщина, чью красоту безнадежно портили чудовищно гнилые зубы, – захихикали и расслабились.
Тощий молодой человек сказал шепотом:
– Гы-гы-гы! – и двое других одобрительно закивали.
Грета Сейденхайм посмотрела на гостей, оторвав взгляд от маленькой стенографической машинки, лежавшей у нее на коленях – самых очаровательных коленях, которые только мог разыскать в Нью-Йорке ее начальник. Она повернула к боссу свою прекрасную белокурую голову:
– Это тоже, мистер Хебстер?
Президент компании «Хебстер секьюритиз, инкорпорэйтед» подождал, когда эхо ее голоса кончит переливаться у него в ушах; ему необходимо было спокойно подумать о многих вещах. Затем он отчетливо произнес:
– Да, тоже, мисс Сейденхайм. Подыщите наиболее близкий фонетический эквивалент для этого гоготания и не забудьте обозначить, когда оно звучит вопросительно, а когда – как восклицание.
Он провел наманикюренными ногтями по ящику письменного стола, где лежал «парабеллум» с полной обоймой. Проверяй. Дюймах в восьми от другой его руки находились кнопки связи, с помощью которых он мог вызвать любое число сотрудников «Хебстер секьюритиз» – до девятисот человек, работавших в данный момент в здании «Башня Хебстер». Проверяй. Еще были двери – там и вон там; за ними стояли телохранители в униформе готовые ворваться в кабинет по сигналу, который раздастся как только шеф уберет правую ногу с крохотной пружинки, вделанной в пол. И еще раз проверяй.
Алгернон Хебстер умел говорить о делах – даже с Первачами.
Он вежливо кивнул каждому гостю из Аризоны и с грустью улыбнулся, увидев, что сделали грязные бесформенные обмотки, в которые были обуты посетители, с мягким глубоким ковром, специально вытканным для его личного кабинета.
– Давайте-ка быстренько представимся друг другу. Меня вы знаете. Я – Хебстер, Алгернон Хебстер. Именно обо мне вы спрашивали у вахтера в вестибюле. Если это существенно для нашей беседы, то моего секретаря зовут Грета Сейденхайм. А как ваше имя, сэр?
Он обращался к старику, однако тощий юноша подался вперед в своем кресле и вытянул худую, почти что прозрачную руку.
– Имена? – с живым интересом спросил он. – Имена округлы, если не раскрыты. Рассматривай имена. Сколько имен? Рассматривай имена, пересматривай имена!
Женщина тоже наклонилась вперед, и запах из ее почти беззубого рта достиг Хебстера, несмотря на огромные размеры кабинета.
– Толпа и досягаемость, и все это – верхнее бряцание, – заныла она, разводя руками, словно соглашаясь с очевидным заявлением. – Пустота унижается до бесконечности…
– До протяженности, – поправил ее старик.
– До бесконечности, – стояла на своем женщина.
– Га-га-га, гы? – с горечью в голосе осведомился молодой человек.
– Послушайте! – прорычал Хебстер. – Когда я спросил о…
На столе загудел переговорник, и Хебстер, сделав глубокий Вдох, нажал кнопку. Раздался торопливый и испуганный голос вахтера:
– Я помню ваши приказания, мистер Хебстер, но эти два парня из Специальной следственной комиссии ОЧ снова здесь и, похоже, настроены очень серьезно. Я хочу сказать, что от них можно ждать неприятностей.
– Йост и Фунатти?
– Так точно, сэр. Мне показалось, будто им известно, что У вас там три Первача. Они спрашивают меня, чего вы добиваетесь: умышленно хотите раздразнить Преждевсегошников? Они говорят, что намерены вызвать спецчасти и занять здание, если № не…
– Задержи их.
– Но, мистер Хебстер, Специальная следственная коми…
– Задержи их, я сказал! Ты вахтер или распахнутая калитка? Придумай что-нибудь. В твоем распоряжении девятьсот служащих и корпорация с десятимиллионным оборотом. Ты можешь разыграть в приемной любой фарс, какой придет в голову, – вплоть до спектакля, где актер, похожий на меня, выходит и падает замертво к их ногам. Задержи их, и я выпишу тебе премию. – Хебстер дал отбой и поднял глаза.
Его посетители, по крайней мере, пребывали в хорошем расположении духа. Они повернулись друг к другу, образовав зловонный треугольник невнятной тарабарщины, и то повышали, то понижали голоса, споря, умоляя и убеждая в чем-то друг друга; однако Алгернон Хебстер из всего их разговора мог ясно различить лишь звуки «га-га-га» да иногда категорическое «гы!».
Его губы презрительно вытянулись. Цвет человечества! Первые среди людей! Вот эти грязнули? Он закурил сигарету и пожал плечами. Ну да ладно. Первые среди людей. А бизнес есть бизнес.
«Только не забывай, что они не сверхлюди, – сказал себе Хебстер. – Они могут быть опасны, но они не сверхлюди. Отнюдь нет. Вспомнить хотя бы ту эпидемию гриппа, которая почти всех их выкосила, или как ты сам надул двух других Первачей в прошлом месяце. Они не сверхлюди, однако и к человечеству не принадлежат. Просто они другие».
Хебстер одобрительно посмотрел на свою секретаршу. Грета Сейденхайм стучала по клавишам машинки, словно записывала самые что ни на есть заурядные деловые письма. Он с любопытством подумал, какой системой она пользуется, чтобы отразить интонационные особенности этой беседы. Впрочем, он верил в Грету – она уж что-нибудь придумает.
– Га-га-га, гы! Га-га-га, га-га-га, га-га-га, гы, гы. Га-га-га, гы, га-га-га, га-га-га, гы? Гы.
С чего вдруг столь бурное обсуждение? Он всего-навсего спросил, как их зовут. Разве в Аризоне не пользуются именами? Наверняка они знают, что здесь это вполне обычно. Сами ведь заявили, что о подобных вещах осведомлены, по крайней мере, не хуже, чем он сам.
Может быть, на этот раз их привело в Нью-Йорк что-то другое? Возможно, что-нибудь, связанное с Пришельцами?.. Хебстер почувствовал, что у него мурашки поползли по шее, и, дабы успокоиться, пригладил ладонью волосы.
Беда заключалась в том, что выучить их язык было так просто. Суметь понять их вот в такие моменты разговорчивости было сущим пустяком. Почти так же легко, как оступиться, балансируя на бревне, или как сигануть со скалы в пропасть.
Ладнo, времени у него в обрез. Кто знает, как долго вахтер сумеет лродержать следователей ОЧ в приемной? Необходимо снова перехватить инициативу, причем так, чтобы не обидеть похитителей каким-нибудь непредсказуемым и в высшей степени опасным образом, как оскорбить можно лишь Первачей.
Хебстер постучал по столу – очень осторожно. Гоготанье тут же резко оборвалось. Женщина медленно встала.
– Что касается имен, – гнул свое Хебстер, не сводя взгляда с женщины, – то поскольку вы, парни, утверждаете…
Женщина на миг скорчилась, словно от боли, и села на пол. Улыбнулась Хебстеру. Ее гнилозубая улыбка была ослепительна как погасшая звезда.
Хебстер прочистил горло и приготовился сделать еще одну попытку.
– Если вас интересуют имена, – вдруг сказал старик, – то вы можете называть меня Ларри.
Президент «Хебстер секьюритиз» вздрогнул и заставил себя сказать «спасибо» хотя и слабым, но не слишком удивленным голосом. Он поглядел на щуплого юношу.
– Меня можно называть Тезей, – грустно представился молодой человек.
– Тезей? Чудесно! – Одно было хорошо в Первачах: уж если нашел с ними общий язык, то быстро продвигаешься вперед. Но подумать только – Тезей!.. Теперь женщина – и можно приступать к делу.
Bce смотрели на нее, даже на безупречно-красивом лице Греты проступило любопытство.
– Имя, – сама себе прошептала женщина, – Имя имени. «Только не это, – простонал про себя Хебстер. – Как бы нам здесь не увязнуть».
Ларри, по всей видимости, решил, что потеряно уже достаточно много времени, и обратился к женщине с предложением:
– Почему бы тебе не назваться Мэу?
Молодой человек – Тезей, как выяснилось, – вроде бы тоже заинтересовался этой проблемой.
– Очень хорошее имя Ровер, – подсказал он.
– А как насчет Глории? – безнадежно спросил Хебстер. Женщина размышляла.
– Мэу, Ровер, Глория, – бормотала она. – Ларри, Тезей, Сейденхайм, Хебстер, я. – Она как будто подводила итог.
Хебстер знал, что произойти может все, что угодно. Но, по крайней мере, они больше не вели себя, как снобы: говорили с ним на его языке. Не только перестали гоготать, но и оставили эти глумливые двусмысленности, которые были еще хуже. Во всяком случае, в их словах сквозил смысл – своего рода.
– Для данной встречи, – проговорила наконец женщина, – подходящим именем для меня было бы… Будет… Меня зовут Лузитания [6]6
В мае 1917 г. германская подводная лодка потопила английский лайнер «Лузитания», на борту которого погибло 128 американцев, что и подтолкнуло США к вступлению в войну. (Примеч. пер.)
[Закрыть].
– Превосходно! – выкрикнул Хебстер давно вертевшееся у него на языке слово. – Какое прекрасное имя. Ларри, Тезей и… э-э… Лузитания. Отличная компания. Замечательная. Итак, давайте перейдем к делу. Вы ведь пришли по делу, насколько я понимаю?
– Точно, – кивнул Ларри, – Мы слышали о вас от тех двоих, которые месяц назад ушли из дома в Нью-Йорк. Они рассказывали про вас, когда вернулись в Аризону.
– Правда? Я так и думал.
Тезей соскользнул с кресла и плюхнулся на пол рядом с женщиной, которая что-то выщипывала из воздуха.
– Да, рассказывали про вас, – повторил он. – Говорили, что вы приняли их очень хорошо, что вы оказали им такое уважение, на какое только способно подобное вам существо. Еще они сказали, что вы их обжулили.
– Ну что вам ответить, Тезей? – Хебстер развел холеными руками. – Я ведь бизнесмен.
– Вы бизнесмен, – согласилась Лузитания, тихонько поднявшись на ноги и с силой ударив обеими руками что-то невидимое перед собой. – Здесь, в данной точке, в данный момент – мы тоже. Вы можете получить то, что мы принесли, но вам придется за это заплатить. И не воображайте, будто вам удастся обдурить нас.
Она опустила сложенные пригоршней ладони, внезапно раскрыла их, и оттуда выпорхнул крохотный орел. Он полетел к флюоресцентным панелям, сияющим на потолке. Подниматься ему было трудно, поскольку на груди у него висел тяжелый полосатый щит, в одной лапе он сжимал пучок стрел, а в другой – оливковую ветвь. Орел повернул свою миниатюрную лысую головку и зашипел на Алгернона Хебстера – при этом из клюва выпала лента с надписью «Е Pluribus Unum» [7]7
«В многообразии едины» (лат.) – девиз на гербе США.
[Закрыть],– а потом начал быстро снижаться. Не успев коснуться пола, он исчез.
Хебстер зажмурился, вспомнив о необходимости проявлять полнейшее равнодушие по отношению ко всему происшедшему, оставаться столь же спокойным, как и Первачи. Профессор Клеймбохер утверждал, что Первачи – духовные алкоголики. Но тогда почему от общения с ними у всех остальных начиналась белая горячка?
Он открыл глаза.
– Итак, – промолвил Хебстер, – что вы продаете?
На несколько секунд воцарилось молчание. Тезей, казалось, позабыл, о чем хотел сказать. Лузитания уставилась на Ларри.
Ларри, закутанный в кусок грубой вонючей материи, почесал правый бок:
– Вот: наивернейший способ победить любого, кто пытается применить reductio ad absurdum [8]8
Приведение к абсурду (лат.).
[Закрыть]к разумным предложениям, с которыми вы выступаете. – Он самодовольно улыбнулся и принялся чесать левый бок.
Хебстер усмехнулся, поскольку чувствовал себя прекрасно:
– Нет. Не могу это использовать.
– Не можете использовать? – Старик изо всех сил старался изобразить удивление, украдкой покосившись на Лузитанию.
Женщина снова улыбнулась и села на пол.
– Ларри по-прежнему не говорит на том языке, который вы в состоянии понимать, мистер Хебстер, – ворковала она, напоминая внешним видом дружелюбную фабрику удобрений. – У нас есть то, что, как нам известно, вам очень нужно. Очень сильно нужно.
– Да? – «Они похожи на тех двоих Первачей, которые были месяц назад, – ликовал Хебстер. – Они не знают, что годится, а что нет. Интересно, а их хозяева знают? А даже если и знают – разве кто-нибудь ведет дела с Пришельцами?»
– У нас… есть, – она говорила с расстановкой, изо всех сил стараясь произвести глубокое впечатление, – новый оттенок красного цвета. Но не только это. О нет! Новый оттенок красного, а также полная цветовая гамма, производная от него! Полная гамма, производная от этого одного оттенка красного Цвета, мистер Хебстер! Вы только представьте себе, что может сотворить художник не-объективист с такой…
– Мадам, меня это не интересует. Тезей, не хотите ли теперь вы что-нибудь предложить?
Тезей хмурился, созерцая зеленую подставку письменного стола. Потом с довольным видом откинулся назад.
Хебстер вдруг понял, что давление на его правую ступню внезапно исчезло. Каким-то образом Тезей распознал пружинку-выключатель, спрятанную в полу, и неизвестным способом уничтожил ее.
Дезинтегрировал ее, не включив сигнализацию, к которой она была подсоединена.
Трое Первачей захихикали и быстро обменялись своими «га-га-га-гы». Все они знали, что сделал Тезей и как Хебстер пытался защищаться. Тем не менее они не разозлились и даже, видимо, не испытывали торжества. Вот и пойми поведение Первачей!
Однако не стоит тревожиться раньше времени. Измотанные нервы – вот цена, которую приходится платить, когда имеешь дело с этими типами. Но, с другой стороны, вознаграждение…
Гости вдруг опять приняли деловой вид.
Тезей выпалил свое предложение, словно базарный торговец, называющий последнюю, абсолютно последнюю цену:
– Комплект демографических справочников, которые могут быть скоррелированы с…
– Не пойдет, Тезей, – мягко возразил ему Хебстер.
Он откинулся в кресле и наслаждался, временно позабыв об отсутствии выключателя под ногой, а посетители лихорадочно, отчаянно, перебивая друг друга, выплескивали все новые предложения:
– Портативный нейтронный стабилизатор для исключительно разъя…
– Более пятидесяти способов сказать «однако» без того, чтобы…
– …и таким образом каждая домохозяйка сможет делать entrechat [9]9
Антраша (фр.) – в классическом балете – прыжок, во время которого вытянутые ноги танцовщика скрещиваются в воздухе несколько раз.
[Закрыть]в процессе приготовления обе…
– …синтетическая ткань, обладающая фактурой шелка и производя…
– …Декоративные орнаменты для лысых с использованием фолликул в качестве…
– …Полное и окончательное опровержение всех пирамидологов со стороны…
– Хорошо! – завопил Хебстер. – Хорошо! Этого достаточно!
Грета Сейденхайм уже почти не помнила себя и вздохнула с облегчением. Ее стенографическая машинка жужжала, как центрифуга.








