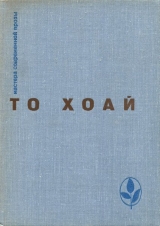
Текст книги "Западный край. Рассказы. Сказки"
Автор книги: То Хоай
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
VIII
Едва рассвело, председатель Тоа отправился в Комитет. Нынче утром – такой был уговор – народ из окрестных деревень сойдется сюда строить медпункт и склад.
У него не шел из ума доклад Тхао Кхая на вчерашнем партсобрании. Значит, снова ползут лживые слухи из Лаоса. Этот подонок Нгу со своими молодчиками опять запугивает людей. Услыхав про трудности, с которыми столкнулся староста Панг, председатель не мог уснуть всю ночь.
И сейчас, завидя Кхая, он сказал:
– Опять эти сволочи повадились к нам из Лаоса сеять смуту! Уж я-то хлебнул там горя. Если кому охота послушать про «расчудесную жизнь» за границей, могу рассказать…
И тихо пробормотал:
– Небось он! Снова он? Черт подери!…
Ворча что-то себе под нос, он прошел в дверь.
Собирались люди из ближних деревень. Тоа присел у очага и протянул к огню руки – крупные, жилистые руки кузнеца, все в мозолях и ссадинах, похожие на комель бамбука. На левой руке не хватало двух пальцев.
– Знаешь, – повернулся он к Нгиа, – многие думают, будто это тэй обкарнали мне пальцы…
И впрямь земляки, особенно те, что помоложе, вроде Кхая, считали, что председатель был ранен в бою. Впрочем, кое-кто думал, что председатель саданул невзначай топором себе по руке, когда рубил дрова. Самого Тоа никто об этом не спрашивал.
Растопырив пальцы, Тоа поднял левую руку и покачал головой.
– Нет, было все по-другому. Черное было дело… Я тэй отродясь и в глаза-то не видел. Они ведь больше прятались по своим норам. А этот подонок, что всю жизнь просидел на нашей шее, остался и продолжал калечить людей…
Кхай весь обратился в слух. Он рано потерял отца и даже в лицо его не помнил. «Кто знает, – подумал Кхай, – не был ли мой отец похож на председателя Тоа. Может, и он вот так же потерял пальцы и так же страдал и ненавидел». Кхай слушал, боясь упустить хоть слово…
* * *
Было это давным-давно. Тоа, едва он подрос, узнал, что вся их семья и вся деревня до единого человека – в услужении у начальника. Говорили, будто их отдали ему в собственность – в наказанье за то, что здешние старцы посмели восстать против тэй. Стариков этих, само собой, бросили в тюрьму. А все, кого не упрятали за решетку, до конца дней должны были служить в начальничьем доме, все равно что в рабстве – и дети, и внуки их, и правнуки.
Деревня поставляла начальнику умельцев и слуг. Они исполняли всю работу в его доме: шили, красили, расшивали одежду, варили сахар, делали бумагу, отливали шейные обручи и сережки. Мужчины поздоровее таскали паланкин господина начальника, запасали хворост, пахали землю, собирали урожай, ходили на охоту, выколачивали для начальника рыночные налоги, выжигали уголь, работали на кухне, пасли лошадей и скот…
Семью Тоа еще при его отце начальник заставил сменить имя их рода By на свое родовое имя Муа, чтоб уж навеки закрепить их за своим домом. Он перевез их ближе к поместью и определил в кузнецы – мастерить лемехи для плугов.
Тоа сызмальства учился у отца ремеслу, с той поры еще, когда голопузым мальчонкой приноравливался к тяжу кузнечных мехов. Сперва он жег уголь для горна, раздувал мехи, потом, как подрос, носил вместе со взрослыми белый камень с горы Финхо и помогал отцу готовить изложницы для литья. Добрый десяток лет простояв у горна да протаскав формовочный камень, перешел он к ковке. Для начала ему доверили ножи и мотыги. Так уж принято было: сперва освой дело, которое полегче, а там приноси жертвы духам – проси дозволенья выучиться литью да ковке лемехов. И здесь он начал с малого: заливал металл в изложницы, потом разбивал их, стучал по железу, очищая его от окалины, и тащил охлаждать раскаленные докрасна заготовки.
Вот так и передавалось в роду By, от отца к сыну, кузнечное ремесло.
Когда ему перевалило за тридцать, Шоа Тоа умел готовить литейные формы не хуже первейших мастеров. Лемехи, выходившие из них, радовали глаз – широкие, надежные, без изъянов и раковин, гладкие, как кукурузный корж, и острые, с двумя крепкими поперечными крыльями, подрезавшими при пахоте стерню.
Слух о кузнице, открытой уездным начальником, обошел всю округу. Люди горой складывали у его дверей птицу и белое серебро, падали перед начальником на колени, прося дозволения приобрести ножи и плуги. Шоа Тоа выходил принять благовонные палочки и, вернувшись назад, в кузницу, возжигал их подле литейных форм, чтобы поклониться духам вместе с угольщиками, воздуходувами, молотобойцами и формовщиками. На том все и кончалось. Никому из мастеров не довелось отведать курятины с клейким рисом[61]61
Клейкий рис – сорт риса, зерна которого содержат клейкий сок; он ценится выше обычного, часто употребляется для приготовления пирогов.
[Закрыть], и никто из них в глаза не видывал доставленного покупщиками белого серебра.
В положенный срок Тоа женился, и родилась у него дочь Кхуа Ли. Она и сейчас с ним…
Однажды, в веселый праздник Тет, отправился он на пирушку к друзьям, что жили в деревне, по ту сторону горы, да, видно, хватил лишку и захмелел. Помнил вроде, как уходил к себе домой, а проснулся поутру в подземелье, в темнице. Там всегда хватало заключенных, провинившихся перед начальником.
Каждому узнику туго перевязывали веревкой два сустава на пальце. Со временем палец немел и отваливался. Тогда приходил стражник и перевязывал другой палец. Отпадал этот – перетягивали следующий… Это делалось с умыслом: чтобы близкие, жалея сородича, не медлили с выкупом и спешили поднести начальнику опий и деньги. Запоздает выкуп – и человек останется без единого перста. Одних заточили сюда за неуплату долга, других – за буйство и драку, но оставались в темнице подолгу лишь те, кто не догадался сразу подмазать кого следует. Узников набивалось в тюрьму – не продохнуть, и, случалось, начальник повелевал застрелить одного-двоих, дабы число их поубавилось. По таким черным дням изо всех деревень сбегались сюда люди, трепеща и заливаясь слезами, несли опий и белое серебро, без счета, к начальничьей двери.
Шоа Тоа томился в темнице, так и не зная своей вины. Поговаривали, будто он учинил драку с кровопролитием. Он старался вспомнить, как было дело, да только забыл напрочь, за что бился и с кем: хмель все затуманил и спутал! Оставалось каяться. Коль угодил сюда, значит, виновен.
Впрочем, думай не думай, ему все равно бы не догадаться, откуда пришла беда.
А причиной всему была красота его жены. Вот сыновья начальника и решили ее похитить. И стало быть, даже если б кузнец, возвращавшийся домой хмельным, никого и пальцем не тронул, все равно угодил бы в темницу и томился бы там, дожидаясь казни.
Каждый день жена приносила ему еду и плакала возле тюремной двери: горько ей было оттого, что из-за нее муж принял такую муку. А он, ни о чем не ведая, утешал ее.
– Я ведь из дома самого начальника, – говорил он ей. – Никто не посмеет меня тронуть!
И она, слушая эти слова, терзалась и плакала пуще прежнего, не смея открыть ему правду.
– Я ведь у начальника первейший кузнец, – твердил Тоа, – на меня никто руки не поднимет!
Но вот явился страдник с веревкой перевязать и ему палец.
– Как смеешь ты портить руку мне, мастеру, отливающему плуги для начальника?! – спросил Тоа.
– Начальник велел.
– Да ведь ты, поди, и сам работаешь в поле, и тебе потребны мои плуги. Пожалей мою руку, как же я буду отливать для вас лемехи? Ладно, вяжи, но только левую да, гляди, начинай с мизинца!
Стражник, жалея мастера, так и сделал.
Мизинец омертвел и отвалился, а начальник все не звал для дознания лучшего своего кузнеца.
Вскоре жена перестала носить еду.
Кто-то сказал ему: «Жена твоя съела дурные листья и померла!» А когда он спросил, почему она это сделала, человек ответил: «Ей надоело жить среди людей, и она умерла!»
Потом снова пришел стражник, кузнецу перевязали еще один палец на левой руке, и он тоже отпал.
Вконец обессилев от голода, Тоа совсем уже приготовился было последовать за женой, но тут его вдруг отпустили… Начальник даже милостиво освободил его от «очищения двери»[62]62
По обычаю мео, человек, приходя к начальнику с просьбой, должен был поднести дары или деньги; это называлось «очищением двери». – Прим. автора.
[Закрыть]. Вскоре рука у кузнеца зажила и он снова взялся за старое ремесло: дробил камень, лепил формы и заливал в них металл на господской кузнице.
Пришла Революция, солдаты освободили весь округ Финша. Уездный начальник и его семья вместе со стражниками, слугами и мастеровыми бежали за границу.
Да только Тоа недолго там прожил и вскоре тайком ушел из Лаоса вместе с дочерью и возвратился домой.
– Так-то, товарищ Нгиа! – Председатель поднял левую руку, на которой недоставало двух пальцев.
Кхаю рука эта показалась теперь чем-то чудовищным, не укладывавшимся в сознании – вроде человека, что, стоя на солнце, не отбрасывает тени.
– Да-a, товарищ Нгиа, – помолчав, продолжал председатель, – не был я тогда, конечно, ни глух, ни слеп! Я знал, что им полюбилась моя жена. Знал, но не смел никому открыться. И она, жалея меня, не сказала о том ни слова. Потому и решила принять смерть. Мог ли я оставаться с ее убийцами?! Ведь жребий мео теперь уже не сходен с дорогой, упершейся вдруг с разбегу в отвесный обрыв или с кукурузным зерном, упавшим в расщелину между камнями. Правительство разорвало наши путы и вывело нас на правильный путь…
Искалеченные пальцы его дрогнули. Парни, сидевшие рядом с председателем, глядели на его руку, не отрываясь, словно видели воочию каждый отпавший сустав и живую, излившуюся из них кровь.
А может, все это просто почудилось Кхаю… Он знал: вот так же, как Шоа Тоа, мучились и страдали и его собственный отец, и дед, и прадед – весь народ мео…
– И теперь эта мразь опять тянет сюда свои лапы? Опять он?! – Председатель никак не мог успокоиться. – Если кому в Наданге придется по душе брехня, что заносят сюда молодчики из Лаоса, пусть заглянет ко мне! Я ему открою глаза. Все расскажу, как есть, про это злое дело…
Тут подоспел и староста Панг с односельчанами.
– Какое такое дело, а, председатель? – спросил Панг.
– О-о, староста Панг! – обрадовался Тоа.
И снова начал рассказ:
– Черное было дело…
* * *
Бывало, и раньше люди спускались на заработки в Иен, где сейчас строили дорогу. Но многих отпугивали звенящие удары ломов и кирок и тяжкий громовой гул взрывов, рушивших скалы. Да вдобавок еще злоумышленники распускали черные слухи, так что со временем никто, кроме самых отчаянных смельчаков, уже не решался идти на стройку. Зато те, кто побывали там, убедились: рабочим на стройке живется неплохо – им прилично платят и прямо на строительство приезжает передвижной магазин, доставляет всякие товары. Стоило кому-нибудь из строителей вернуться домой, к нему тотчас набивалась вся деревня – взглянуть, чего он накупил в магазине, да расспросить про дорогу. И хозяин выкладывал для всеобщего обозрения приве-зеннные обновки. Были тут и катушки ниток, и большие чашки с ложками. Каждый мог видеть «выставку» своими глазами, и теперь, если кто и запугивал людей, отговаривал их идти на стройку, ему не было веры. Всякому хотелось спуститься в город – хоть разок.
А возвращаясь, люди рассказывали про расчудесное тамошнее житье. На речке Намиен поставлена водяная электростанция, и электрические лампочки горят у мео в деревне Тхенпа. И даже в пору туманов слышно, как бегают, рокоча, тракторы по землям госхоза. Автомобили свозят народ отовсюду и, подъезжая к Окружному комитету, громко гудят, оглашая базары и улицы.
Посреди базара стоят магазины и лавки, народ туда целый день валом валит. Одно слово – веселье! Кого только там не встретишь: перед глазами пестрят хвостатые пояса красных мео и расшитые сине-черным по вороту и рукавам одежды белых мео, темно-синие головные платки, душегреи с двойною желтою оторочкой и красные юбки миловидных девушек тхай. А уж под Новый год, когда все стараются приодеться, базары и вовсе похожи на лужайки, усеянные яркими весенними цветами.
Потом в Иен зачастили специалисты, приехавшие изучать здешние земли: где лучше поднять целину и какие здесь, в горах, развивать отрасли хозяйства. Город стал еще оживленнее, народу на улицах видимо-невидимо… Теперь Иен и не узнать: не то, что в старину. Тогда даже присказку такую сложили: «В Иене лишь желтые мухи, блохи да ветер». Случалось, целыми днями не увидишь тут лица человеческого – одни чины, да стражники или вьючные караваны Тонга и Део – понурые лошади да усталые до смерти, взопревшие, разгоряченные носильщики.
Нет, Иен сегодня совсем не тот, что прежде.
А вслед за ним менялся и Финша.
* * *
Народ из деревень – ближних и дальних – стекался в Финша строить склад, магазин и медпункт.
Нынче, казалось, даже утро поднимается сюда, в горы, позднее обычного, поджидая шагавших по дорогам людей. А они еще до света с шумом и гомоном отправлялись в путь – точь-в-точь как во время жатвы, когда всей деревней спозаранку уходили в поле. Никто не хотел дожидаться, покуда староста отрядит его на стройку, шли сами – целыми семьями.
Цокая копытами по камням, прошла лошадь, за нею – другая, третья, четвертая… Они идут вереницей, позвякивая колокольчиками. На спинах у них навьючены мешки с кукурузной мукой, котлы, тесаки, бамбуковые бочонки с водой. Вода выплескивается из бочонков, и лошадиные спины лоснятся от влаги. А на последней лошади едет в клетке багряноперый петух. Его взяли с собой, чтобы криком своим отмечал он наступление утра. Багряный петух с черными ногами и круглыми красными глазами то и дело заливисто кукарекает. И долгое эхо оглашает ущелье.
Неторопливо выступает лошадь без вьюка. На ней восседает парень, колени его касаются лохматой лошадиной гривы, склоненная голова раскачивается из стороны в сторону, руки крепко сжимают кхен.
Клубы тумана, улегшегося было на ночь по склонам гор, проснулись и поплыли наперерез веренице коней.
Шагавшая впереди молодка, разомлев от пьянящих запахов утра, подвернула повыше юбку – словно возвращалась домой с поля.
За спиной у другой женщины болтался притянутый поясом мешок. В нем были уложены кукурузные початки, дыня, персики и поздние сливы, обметанные белым налетом. Сверху лежала наполненная водкой фляга из тыквы.
Следом шла ее малолетняя дочь: ноги девочки до колен были старательно обмотаны матерчатыми лентами, ворот платья обшит красной тесьмой, волосы на висках выбриты; за спиной висела корзина, край ее упирался в затылок – совсем как у взрослых. Лицо девочки было строгим и серьезным – точь-в-точь как у матери.
У третьей женщины, постарше, в заплечном мешке сидел ребенок. Он то озирался, тараща глазенки, то дремал, раскачиваясь в такт ее шагам.
Лохматые псы с выпученными глазами деловито сновали у всех под ногами.
Женщины, играя с шагавшими рядом детьми, старались обогнать друг дружку и ухватиться за лошадиный хвост, чтобы легче было взбираться по крутизне. А собаки, не понимая, в чем дело, яростно лаяли, словно споря, кому из них помочь малышу, сидевшему в мешке: он требовал, чтобы его спустили на землю и тоже дали подержаться за конский хвост.
Из всех горных деревень шли люди.
Говор и смех сливались с негромкими переливами свирели. Брехали собаки. Ехавший в клетке петух, заслышав где-то вдали голоса своих дружков, возвещавших полдень, вдруг тоже громко закукарекал – словно для того, чтобы люди не сбились с пути, ослепленные полуденным солнцем.
Вдали, до самого края лощины, виднелись закругленные уступы полей: заполненные водой, они, словно сверкающие зеркала, поднимались к самым вершинам.
Тхао Кхай, стоявший в дверях Комитета, увидел свою мать и сестру: они как раз начали подниматься по склону. Рядом семенил малорослый конек, навьюченный двумя торбами с поджаренной кукурузной мукой, вязкою льна и – как у всех – бамбуковым бочонком, в котором плескалась вода.
– Вот здорово! – крикнул он и побежал им навстречу.
Но председатель Тоа остановил его:
– Погоди-ка, ты ведь еще не дослушал мой рассказ. Нынешним-то ребятишкам да и вам, молодым, невдомек, что когда-то и мы, старики, вот так же собирались всем миром поработать на общее благо. Был у нас в старину обычай поднимать целину. Мео и са сообща расчищали землю и пахали новь. Мы, старики, любим вспоминать прошлое…
Люди в краю мео, едва родившись на свет, знакомились с нуждой, и она вечно гнала их с одной горы на другую. И не упомнишь, когда все это началось. Старики и теперь еще рассказывают, как скитались они когда-то в поисках земли, что могла бы прокормить человека.
С той поры и повелось в горном краю сообща поднимать целину: люди вырубали тростник, корчевали кустарник и расчищали общее поле. Распаханную новь обсаживали персиками, грушами и сливами, чтоб видно было: у земли этой есть хозяин.
Там сходились и жили вместе лоло и хани, что умели, срезая крутизну, разбивать уступами поля. Земля и вода притягивали людей – так вырастали селенья. В Финша – в какую деревню ни загляни – любая начиналась с распаханной в старину целины.
Но сколько бы ни было возделанных полей мео и пашен са – все в конце концов становились владениями начальника, и сколько бы ни пролилось на эту землю пота людей са и мео – весь он оборачивался прибылью да богатством в начальничьем доме. И под конец народу стало невмоготу. Никто больше и не мечтал о достатке и не стремился в другие края поднимать целину. Люди бедствовали, каждый расчистил себе у подножия скал клочок земли под кукурузу, где едва уместилась бы ступня. Даже слуги начальника, проходя мимо, не прельщались жалкими этими полями.
Когда-то, еще при жизни отца Шоа Тоа, семья их жила за горами, в лощине, они возделывали поля на склонах гор и мастерили плуги на продажу; со всей округи шел к ним народ за лемехами. Но потом объявился уездный начальник и сказал: «Дед твой, старейшина рода By и твой отец – бунтовщики и воры и за это брошены в темницу. Ну а сам ты с детьми тоже должен нести наказание за тяжкую эту вину. Хочешь остаться в живых – ступай к нам в имение, будешь делать для нас плуги». Так семья Шоа Тоа сменила исконное имя своего рода By на родовое имя начальника Муа и перебралась в имение поближе к господскому дому. Круглый год, изо дня в день, мастерили они плуги, а начальник продавал их и выручку забирал себе. С той поры никто уже не слыхал про знаменитые «лемехи кузнецов By»…
Тут председателева рука привычно, словно за рукоятью кузнечного меха, поднялась повыше, и голос его зазвучал громче прежнего:
– Мы, мео, мастера на все руки. Испокон веку корчуем лес, пашем поля, собираем навоз и бережем влагу; и земля у нас круглый год не пустует. Мы разводим тучных коров и быков. А свиней откармливаем, покуда, ожирев, не слягут без движения, тут-то самое время забивать их на мясо да вытапливать сало, чтобы на весь год хватило заправлять светильники. Знаем мы, как отыскивать мед горных пчел – дивного вкуса и сладости. Мы и чай выращиваем, и горечавку, и тамтхат – на продажу. Мео искусны в литье и ковке, умеют обжигать известь и делать черепицу. Нету ремесел, что были бы нам не под силу; ни к кому и ни за чем не ходим мы на поклон. Как встарь мы сообща поднимали целину, так и нынче – всем миром пошли в трудовые бригады. Вместе мы одолеем все тяготы и невзгоды.
Тхао Кхай и Панг улыбнулись. Председатель Тоа, Кхай и партиец Нгиа со старостой Пангом пошли к воротам Комитета, где шумел и толпился народ.
Старая Зианг Шуа вместе с дочерью тоже была здесь. Никто не звал ее на работу, она сама решила прийти на стройку.
Зианг Шуа поторапливала дочь. Ей не терпелось взглянуть, как земляки из окрестных деревень станут помогать Правительству.
Тхао Кхай с медицинским своим ранцем и винтовкой на ремне, улыбаясь, подошел к матери.
А она, и сама не сознавая смысла своих слов, пробормотала:
– Что, если б сегодня и Ниа был с нами…
Вновь пробудились в ее душе опасения и тревоги. Но Зианг Шуа больше не опускала голову. По дороге сюда она, не таясь, говорила о прежнем своем житье-бытье. (Правда, Ми слушала ее рассеянно, увлеченная открывшимся ей зрелищем.)
Недавно Зианг Шуа передали известие о старшем сыне: «Правительство не казнило его». Выходит, его помиловали. С той минуты она повела счет дням. И все ждала, когда сын вернется. Небось Правительство выдаст ему новую одежду. Ясное дело, ему не дадут такого мундира, как у Тхао Кхая, но все равно оденут поприличней – не придется ему больше натягивать на себя прежнюю пятнистую бесовскую шкуру.
Она тешилась этой своей радостью. И чем больше народу проходило мимо Зианг Шуа, тем отраднее становилось у нее на душе.
В прежние тягостные дни Зианг Шуа не смела и помышлять о том, чтобы вырваться из тисков отчаяния и бед. Удел человеческий – представлялось ей – должен день ото дня становиться все тяжелей и горше, и жизнь, на первых порах подобная вспыхнувшей хворостине, тлеет угольями, а под конец рассыпается золою и прахом. Однако довелось и ей увидать светлое небо над Финша. Угли опять заалели: давай только подбрасывай хворост, и огонь никогда не угаснет.
Выходит, пришло и к старикам облегчение и покой. Так, едва подойдет время сажать рис, возвращаются парами ласточки, улетевшие прошлой зимой, и, твердо помня счастливый дом, снова вьют – не бывает лучше приметы – гнездо под его крышею.
Распластав трепещущие свои хвосты и негромко щебеча, ласточки скользят вдоль стен и порхают меж кусков солонины, что свисают со стропил над очагом. Могла ли старая Зианг Шуа прежде помыслить – нет, даже не о припасах, заготовленных впрок, а о том лишь, чтоб всякий день есть досыта?.. Вот и дети ее здоровы и полны сил, может, и ей суждено дожить до того дня, когда поставят они новый деревянный дом. Когда кончалась полевая страда, они привозили на коне черепицу для крыши и складывали ее на дворе – пока не возведут бревенчатые стены.
Могла ли она мечтать когда-то о собственном доме с высоким крыльцом, с рисорушкою и очагом на помосте, о доме, где вокруг очага стоят скамейки, лоснящиеся от кухонного чада? Могла ль помышлять о собственном стане для тканья и свертках льняного полотна, о том, чтобы на дворе горою, чуть не до крыши, громоздился конский навоз, сохраняемый, пока не приспеет срок удобрять пашню? Ей и во сне не снилось, чтобы в дождливую пору, когда все сидят в доме, свободные от полевых работ, на стене у нее висел горшок, доверху полный яркой синей краской, которой красят полотно. Поставит она на огонь медный котелок с воском, развернет полотно и примется выводить на нем растопленным воском узоры, какими принято украшать кайму юбок[63]63
Перед крашением ткани мео наносят рисунок воском; покрытые коском участки ткани не впитывают краску, и таким образом фиксируется узор. После просушки воск удаляется.
[Закрыть].
Для чего ей огромные ворота, такие, как высились перед домом начальника? Ни к чему ей лихие кони, не нужны ни кабальные слуги, ни молодки да вдовы, суетящиеся по дому и мелющие на жерновах кукурузу. Ей было бы тошно глядеть на всю эту челядь, что теснилась на длинном господском крыльце! Не собиралась она обзаводиться ни длинной до пят юбкой из двадцати четырех клиньев дорогой ткани, ни душегреей, расшитой цветами на груди, по вороту и обшлагам, – нарядом, в котором хаживала мать уездного начальника.
Ей хватало двух простых юбок; пока одну носишь, другую успеешь и постирать и высушить.
Но, думая о Ми, она понимала: дочь заживет по-другому, лучше, счастливее. С той поры, как пришла Революция, в жизни у женщин что ни день – перемены. И всякий раз, как уберут, бывало, лен и кукурузу, Зианг Шуа настаивала, чтобы дочь купила себе обновки: шелковое платье или туфли, ожерелье или расшитый кушак, а то и головной убор с длинными лентами. Ведь Ми, ее дочка, считала мать, – самая красивая среди девушек мео.
Нет теперь ни тэй, ни начальников. Жизнь у мео пошла совсем по-другому: вон даже старший сын ее, проблуждав на чужбине более десяти лет, воротился домой. Не сегодня-завтра сыновья женятся, и внуков у нее будет, что цыплят на дворе.
Но этими мыслями она ни с кем пока не делилась. Как знать, не взял ли Ниа и впрямь себе жену из Намнгу? А может, и Кхай просватал себе кого там, на равнине? Да и кто знает, в чей еще дом войдет Ми?.. Похоже, ей приглянулся товарищ Нгиа. Придет время – уедет и она с мужем вниз, на равнину. Ну а невестки да внуки, что поселятся в ее доме, как знать: хороши они будут иль плохи? В старину считалось так: если у матери у самой лихая судьба – ей и невестка попадется дурная. Зря только выкуп заплатишь за молодую. На то и присловье было: «Лучше уж выбросить в пропасть монеты – можно хоть звон услыхать…» А может, нынче и здесь все по-иному? Нет, хоть все и клонится вроде бы к лучшему, а волнений и забот не оберешься.
Сомнения и радости не отставали от Зианг Шуа ни на шаг.
Люди, направлявшиеся на стройку, остановились передохнуть у ручья. Каждый старался держаться поближе к родным или друзьям.
А народ все подходил и подходил. Где-то позади слышался нестройный звук кхена. Са из Наданга столпились вокруг бамбукового кувшина с водой. Чуть поодаль уселись женщины лы, и каменные бока валуна совсем не видны были из-под их широких красных юбок. Проголодавшаяся детвора развязала торбы с кукурузной мукой и уплетала ее за обе щеки.
Зианг Шуа поглядела на ближний склон горы и сказала Кхаю и Ми:
– Когда мы сходились поднимать новь, я была как раз в твоих годах, доченька…
* * *
И вспомнила старая Зианг Шуа девичьи свои годы.
Они собирались по весне всем миром, вырубали и выжигали лес, чтобы распахать новь. Потом мужчины ставили хижины с клетушками для хранения початков – по одной на каждой делянке. А закончив сев, уходили восвояси, оставив сторожей караулить, чтоб зверье не потравило посевы.
На исходе года собирались снова – убирать кукурузу: наломают початков да снесут их в клетушки. Многие селились во времянках надолго. Ведь дней, когда наконец-то поешь досыта, дожидались целый год. Над каждой времянкой клубился дым очага: повсюду варили, пекли, жарили с утра до ночи.
Парни и девушки из дальних деревень, сходившиеся сюда на уборку кукурузы, здесь впервые видели друг друга.
Вот так и Зианг Шуа познакомилась с будущим своим мужем.
Председатель Тоа тоже встретил тут свою суженую, они и свадьбу сыграли на новом поле. Всю ночь распевали тогда свирели:
Все знали: сюда, на спрятанные за горами поля, не доберутся под Новый год чины или стражники, что обычно рыскали по деревням, отнимая у играющих пао, приставали к пригожим девушкам и затевали драки. Тет на целине праздновали веселее, чем в деревнях.
Парни играли на кхенах, вокруг них люди толпились с рассвета и дотемна, а потом, не желая прерывать веселье, плясали при свете факелов до поздней ночи, так что дрожала земля. Пряный сосновый дым плыл над полями…
* * *
– Сегодня небось народу собралось не меньше? – спросила Ми.
Мать прошептала чуть слышно, словно отвечая кому-то из прошлого:
– Да-а…
Кхай обвел взглядом уходившую под уклон дорогу. Над красными пятнами платьев пестрели черные и белые кружки зонтов. В людском потоке, медленно поднимавшемся меж двумя зелеными склонами, мелькали лошадиные гривы.
– Нет уж, народу сегодня будет побольше! – сказал Кхай. – Все равно что на митинге в городе!
Зианг Шуа молчала. Прошлое вдруг привиделось ей так ясно, словно все это было только вчера, но ей не хотелось говорить о нем. Былые беды и горести она схоронила в своем сердце, пусть они там и останутся. Вон молодежь как веселится. К чему им все эти истории? И Зианг Шуа не проронила ни слова.
…А ведь весело было на целинных полях, право слово, весело! Иной раз уж петухи поют, а они все пляшут при факелах да играют на кхенах.
Жаль только, конец этому веселью вышел печальный. Явились и на целину уездный начальник и волостной со свитой. На то и пословица: «Встретишься с тигром – жизнь потеряешь, начальника встретишь – лишишься всего добра». И каждый, завидя начальство, понял: труд его теперь обернется добром у господ в закромах.
А начальник объявил: леса и земли повсюду – достояние государя и поставленных им чинов; ежели кто на охоте добудет кабана, должен преподнести начальнику лучшие части; добудет медведя – обязан отдать желчный пузырь, а подстрелит козла или тигра, пусть выдаст стражникам костяк – его положено предъявить на досмотр – целы ли все четыре коленных сустава. Ну а случись, уцелеет кусок мяса – непременно попадет в глотку к шаману.
К нему уплывало все: свиные головы и ножки, куры, и водка, и белое серебро. Ведь, по увереньям шамана, только тот, за кого он замолвит словечко духам, может рубить лес под пашню, не опасаясь диких зверей. Но даже если медведи, кабаны или дикобразы и не потравят поля, шаман со стражниками первым накинется на урожай.
Люди ушли с целины. На другой год поля снова заросли кустами да травами. И только те, чьи делянки лежали подальше от дома, спускаясь за водой к роднику, видели: ото всех положенных здесь трудов сохранились одни лишь чахлые амаранты[65]65
Амарант (бархатник) – растение, молодые побеги которого употребляются в пищу.
[Закрыть], заостренные красные листья которых тянулись к небу, как языки пламени…
Зианг Шуа молчала.
Нет, никогда не узнать дочери, о чем она думает. А та все смотрела на дорогу, усеянную людьми.








