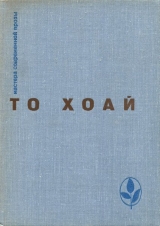
Текст книги "Западный край. Рассказы. Сказки"
Автор книги: То Хоай
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
IX
Финша гудел, будто в праздничный день. Народ заполнил даже ближние деревушки.
Председатель Тоа по привычке зычно, будто выкликая лозунги, говорил:
– Пока не достроим склад – не уйдем отсюда! Будем работать не покладая рук!..
Впрочем, полевая страда с ее трудами и хлопотами уже миновала. Даже самые рачительные хозяева только собирались пропалывать кукурузу. Те же, кто поленивее, лишь недавно закончили пахоту и едва успели унести домой плуги. А теперь, в ожидании жатвы, соседи уговаривались идти строить склад и магазин товарищу Нгиа и медпункт Тхао Кхаю, а там, глядишь, можно и погулять денек-другой.
На том месте, где стояла когда-то крепость и дом начальника, кусты да травы вымахали выше головы. Теперь люди расчищали здесь площадку для стройки.
Всюду громоздились лопаты, заступы и толстоствольный, приготовленный для строительства бамбук.
Из дальнего леса показались буйволы, волочившие огромные бревна.
Женщины, молодые и постарше, с утра расходились по ближним склонам резать сухую траву и тростник. К вечеру они возвращались на стройку; их почти не было видно под огромными тяжелыми вязанками, и казалось, будто это движутся – сами по себе – скирды тростника и соломы.
Нгиа составил план работ. Магазин постепенно обретал зримые черты.
Старики са и зао, искусные мастера, раздевшись донага и отбросив на спину концы обмотанных вокруг головы повязок, ловко обтесывали топорами бревна. «Магазин должен стоять на прямых без изъяна столбах, – говорили они Нгиа, – тогда будет он крепок и долговечен, как наше Правительство. Здесь не годятся кривые ненадежные стояки».
Парни помоложе спустились вниз по ручью, отыскали подходящие валуны и, перетащив их поближе к стройке, сидели весь день у воды, обтесывая камни, которые намертво лягут в опоры столбов.
Явились и старики мео, известные умельцы-столяры. У каждого при себе был один лишь прямой топорик. Прошло три-четыре дня – и на месте доставленных буйволами огромных бревен высились прилавки, столы, скамейки, короба, ящички для лекарств, крючья, на каких развешивают товар, стремянки для склада – и все это было вырублено и вытесано топором… Деревянных гвоздей не брали, в дело шли только железные, «чтоб все было крепко и нерушимо, как наше Правительство». Старые плотники, веселые и довольные, готовились ладить стропила.
Председатель Тоа, старый кузнец, прямо под открытым небом поставил горн с мехами и плавильную печь, притащил откуда-то сломанные лемехи и дырявые котлы и с утра до ночи ковал гвозди для стройки – прямые и длинные.
Бабки и женщины постарше, усевшись в тени, сучили лен и расшивали душегреи. А детишки, примчавшись сюда следом за взрослыми, сбились вокруг костров, где жарилась на огне кукуруза.
Снизу, от ручья, и с площадки, где недавно был заложен новый дом, – отовсюду слышен был перестук молотков и топоров, рубивших, тесавших дерево и камень. Из кузницы председателя Тоа весь день доносилось тяжкое дыхание мехов. Буйволы без конца волокли вверх от ручья скрипучие бревна и толстоствольный бамбук. С горы, где резали траву, слышались трели свернутой из листа дудочки – на таких обычно играют женщины, – негромкие и прерывистые, звуки эти словно повисали в полуденном небе.
С первых лучей рассвета и до той поры, покуда закатное солнце не затопляло лощины, все вокруг было полно движения и шума. Потом горы – гряда за грядою – засыпали и очертания их таяли во мгле: первыми засыпали ближние горы, затем – те, что подальше. Парни, окончив работу, брали в руки свои свирели и выводили протяжные напевы.
Издавна было заведено здесь, в горах: садилось ли солнце или вставало – парни выносили из дому свои свирели и кхены, и тотчас все тяготы и огорчения уносились прочь, и возвращались к людям утехи да радости – так говорили старики.
Неподалеку от Комитета разожгли большой костер. Собралось много народу. Здесь были и председатель Тоа, и дочка его, Кхуа Ли.
Председатель затянул песню. Голос у него был не очень выразительный, но громкий. Напев то тягучий и плавный, то прерывистый, словно дыхание поднимающегося на кручу человека, звучал все выше и выше:
Сколько вершин мы прошли,
Сколько добра потеряли —
не счесть…
За что? По какому праву
Французы-захватчики
грабят наш край?
В земле нашей
золота много,
В земле нашей
много железа[66]66
Песня народности мео. Во время войны Сопротивления (1946–1954 гг.) она была распространена во многих партизанских районах Лайтяу. – Прим. автора.
[Закрыть]…
И как всегда, едва он допел свою песню, парни и девушки начали громко смеяться и хлопать в ладоши.
Председатель молча курил; но потом, видно вспомнив о чем-то, быстро поднялся и ушел. Ох, и непоседливый же у него нрав – вечно дела да заботы!
– Мех!.. Кузнечный мех!.. – бормотал он на ходу. – Совсем позабыл про него…
И Тоа припустил бегом.
А костер возле Комитета горел ярче прежнего.
Зианг Шуа, вернувшись домой, долго сидела одна, и мысли ее блуждали где-то далеко-далеко.
Ночь стояла лунная, было светло, как днем. Всякий раз, когда тот, кого она помнила еще бедным узником, томившимся прежде в начальничьем доме, скрипучим своим голосом заводил, раздувая мехи в кузнице, песню, звуки ее снова возвращали Зианг Шуа к тревогам и радостям отошедшего дня.
Горы Финша – то островерхие, то округлые – были такие же, как раньше. И приграничный перевал, через который шел путь вниз, на равнину, весь год окутанный туманом, высился по-прежнему, закрывая край неба. В ту сторону злая судьба увела ее мужа. Уездные чины и француз, заправлявший фортом, тоже бежали туда. Оттуда из-за перевала ползет нынче смутная молва про государя да злых духов. Что там? Уж не обитель ли мертвых, откуда приходят к нам одни лишь горести да печали?..
Но тут издалека донеслись переливы кхена. Огоньки в деревнях, что стояли по склонам гор, мерцали, перемешавшись с синими звездами. И вновь возвратились к старой Зианг Шуа нехитрые ее радости. Она стала думать о Ниа, о скором его возвращении…
Прохладная пелена тумана, обычного в эту пору, подползала к кострам из сосновых веток, полыхавшим вокруг шумной, веселой толпы.
Какой-то парень самозабвенно дудел на кхене, отплясывая у костра; всякий раз, как он выделывал замысловатое коленце, зрители разражались криками одобрения. Гулянье было в разгаре.
И лишь немногие, оставшиеся сидеть в темноте за пределами светлого круга, тихонько играли на кхенах для собственного удовольствия. Иногда музыка вдруг умолкала, и тогда становился слышен печальный, трепещущий напев девушки лоло.
Три подружки: мео, лоло и зао, примостившись рядышком у огня, поджаривали кукурузу. Сидевшая поодаль девушка хани вдруг опустила платок, который прикрывал ее лицо, и оборвала свою песню. Но тут из-под рукава, заслонявшего лицо другой подружки, полились напевы рожка – заунывные, точно жалобы сердца.
Нгиа только что вернулся из лежавшей ниже по склону деревушки и решил было идти спать, но его окликнули девушки, которые шли поглядеть на танцы:
– Неужто, товарищ Нгиа, вам и погулять с нами неохота? – спросила одна.
А другая добавила с усмешкой:
– Товарищ Нгиа небось ни за что не возьмет жену из мео.
Тут уж, хочешь не хочешь, пришлось завернуть к Комитету. Обычно занозистые шутки эти он оставлял без внимания. Но ему не хотелось, чтоб девушки и парни подумали, будто он их сторонится.
Ми решила, что он пришел сюда ради нее. А Нгиа был увлечен собственными мыслями. Строительство близится к концу. Народ не жалеет сил. Кто б мог подумать, что все пойдет так гладко и споро.
И все же, ловя на себе взгляды Ми, Нгиа ощущал какое-то смутное беспокойство. Он знал, что девушка влюблена в него. А ведь тот, кого любят – бьется ли в нем самом ответное чувство или нет, – все одно волнуется и даже грустит. У Нгиа грусть эта была безотчетной и едва уловимой. Он и сам не понимал себя до конца; да и не хотел понять. Но одно ему было ясно: все, даже самая малость сейчас имеет значение и потому нельзя быть безответственным даже в любви. И он был осторожен…
– Товарищ Нгиа вовсе и не собирается жить у нас, в Финша, – сказала Ми.
– Но ведь я же работаю здесь.
– Работать и жить – не одно и то же. А жить вам у нас не хочется.
Туманный разговор этот, который каждый из них понимал по-своему, сопровождался многозначительными взглядами.
– Неправда это.
– Нет, правда.
Ми усмехнулась:
– Вы ведь нездешний, вы родом с равнины.
– Я давно следую за Революцией, не помню, когда уж и был дома.
– Погодите-ка, женитесь – жена вас никуда из дому не отпустит.
– Ну, это еще не известно, – покачал он головой.
– Нет уж, Нгиа, откуда просватаете жену, там и останетесь.
– И вовсе-то вы неправы…
Над ними трепетали и плыли звуки данмоя. Нгиа, прислушиваясь к переливам музыки, словно видел губы девушки, выводящей эту мелодию. И в лад с песней затрепетали сокровенные струны в его душе. Снова послышались ему уклончивые, полные потаенного смысла слова. А ведь и прежде не раз бывало: хотелось ему заглянуть в лицо Ми, заговорить с нею, да духу не хватало…
Где-то вдали чуть слышно запела свирель. Прислушаешься к ней, и кажется, будто в сиянии лунной ночи открывается взору извилистая тропа, никогда не отдыхающая от тяжких усталых шагов, и перевалы, на которых никогда не умолкала свирель, исполненная любви и веры.
– Нгиа, – спросила Ми, – а вы понимаете, что говорит свирель?
Он промолчал.
– И не догадываетесь?
– Увы, – отвечал он, – нет.
– Она говорит про расставание и проводы:
Мглой дождевою заволокло лес,
Слышна одна лишь свирель —
Твоя, и она говорит,
Что ты не забудешь меня.
– Хорошая песня, – сказал Нгиа.
– Ничего хорошего, – возразила Ми, – больно она грустная.
Далекая свирель, казалось, пела о том, что было на сердце у Ми.
Она не промолвила больше ни слова. Боясь, как бы Ми не расстроилась вконец, Нгиа спросил:
– Кто ж это играет так здорово?
– Мой брат Кхай.
– Ну, тогда песня веселая.
– А по-моему, – заупрямилась Ми, – грустная.
Тут подоспел и сам Тхао Кхай. Присев у огня, он снова поднес к губам свирель. Озаренный отсветами пламени, он сидел, поджав одну ногу и сбив на затылок шапку, и самозабвенно выводил свои трели.
Было уже совсем поздно; почти все успели разойтись. Парни, плясавшие с кхенами, уселись затянуться из кальяна лаосским табаком. А один, прижав к себе кхен, и вовсе уснул, привалясь к стене и похрапывая.
Свирель Тхао Кхая все пела тягуче и нежно, словно хотела убаюкать всех и унести в затопленный луною лес. Она нашептывала сотни любовных слов, неведомых Нгиа. И он чувствовал, как под переливы свирели в сердце его возникал один-единственный образ, и это был образ Ми.
А она наклонила голову, так что видны были лишь уголки ее глаз. Нгиа почудилось, будто пред ним вовсе не та Ми, которую он встречал изо дня в день. Эта, другая, Ми, казалось ему, была из его деревни – оттуда, с равнины; на ней длинное белое платье с разрезами по бокам и широкие штаны из черного шелка; длинные волосы, схваченные заколкой, падают на спину[67]67
Здесь описаны традиционные костюм и прическа девушки кинь, живущей в деревне на равнине.
[Закрыть]. И даже в такую темень видны шпильки в ее волосах. Чьи же это глаза поглядывают искоса на Нгиа? Неужто и впрямь Ми родом из его деревни, из Футхо?
Футхо, родная земля… Холмы, поросшие пальмами ко, на которых что ни месяц распускаются опахала молодой листвы. Круглый год солнечные лучи играют в яркой зелени. А к лету заросли чэу[68]68
Чэу – высокое дерево, растущее на возвышенностях и равнинах. Обычно цветет дважды – в конце весны и в начале осени.
[Закрыть] белым-белы от цветов. И во всякое время щедро дарит прохладу вода из глубоких колодцев у подножия холмов. Да только девушки и парии, ровесники Нгиа и давние его друзья, теперь уже не те, что прежде. Когда в страну возвратился мир[69]69
Имеется в виду окончание войны против французских колонизаторов – 1954 г.
[Закрыть] и Нгиа приехал в родную деревню, приятели, узнав, что он еще не женат, решили: «Надо подыскать ему „половину“!»
Слова эти, шутливые и сердечные, взволновали его и обрадовали, и он смущался, точно малое дитя. Но ведь жену, какую ни есть, надо еще отыскать. Ровесницы Нгиа – и соседки, и те, что жили на другом конце деревни, – все уже были пристроены: и многие давно детишками обзавелись. Ну а из девушек, что жили подальше, ни с одной он не был знаком. Да и сам он, каждый раз приезжая домой, ни на что не мог решиться. Никуда не ходил и ни с кем не видался. Так что дело не двигалось.
И все-таки он хотел взять в жены девушку из своих мест и огорчался, потому что вот уж который год мечты и надежды его не сбывались. Рассчитывать было вроде уже не на что, и он казался самому себе неприкаянным, как сиротливая птица в небе, как одинокая рыба в море.
Но надежда, то возникая, то угасая снова, все еще жила в его душе…
Нгиа вздрогнул и огляделся. В розовых отсветах очага блестящие чистые глаза Ми смотрели прямо на него.
– Ми, – сказал он, – вам бы, наверно, пришелся к лицу наряд девушки с равнины.
– Это какой же?
– Белое платье, – сказал он негромко, словно отвечая самому себе, – с карманом вот здесь. Черные шелковые штаны… А в волосах по бокам две блестящие заколки…
– A-а, знаю-знаю! Я видела, девушки, что строят дорогу внизу, в Иене, так одеты. А волосы схвачены сбоку, вот так – блестящим зажимом, верно?
– Да…
– Ну, нет, если я так выряжусь, вся округа сбежится. Люди меня на смех поднимут.
– Почему?
– Скажут, мол, собралась замуж за кипя.
Они засмеялись, каждый – своим мыслям.
Нгиа умолк, а Ми начала одолевать его вопросами:
– Скажите, а в ваших краях любят гулять по лесу?..
Он ответил не сразу.
– Девушки у нас в ясные лунные ночи ходят купаться к подножию холмов. Знаете, Ми, там в колодцах вода прозрачная и чистая, как стекло.
– А вы не могли бы взять меня туда погулять да искупаться?
– Договорились…
Вопрос ее и его ответ произнесены были с нарочитой небрежностью, но девушки, сидевшие рядом, посмотрев на них, расхохотались.
Ми чувствовала, как счастье переполняет ее. Она медленно встала. Ей чудилось, будто они – прямо сейчас – выйдут вдвоем и пойдут гулять по лунному лесу. Горячий отсвет костра упал на ее лицо и затуманенные, будто хмельные, глаза.
Она позабыла о глядевших на нее подружках, обо всем на свете и стояла недвижно как изваяние.
Кхай опустил свою свирель и подошел к ним.
– Вы тут, видать, решили всю ночь просидеть?! – И по-военному скомандовал: – Разойдись!.. – Потом добавил: – А то завтра для работы силенок не хватит.
– Правильно! – подхватил Нгиа.
Но сам Тхао Кхай, отдав это распоряжение, вдруг опять уселся на пол, а Ми загадочно улыбалась и не двигалась с места.
Потом только Кхай опомнился и снова потребовал, чтобы все разошлись. На этот раз Ми с подружками подчинились.
Уходя, Ми обернулась. Нгиа глядел ей вслед. Там, в ночной темноте, ему снова виделись глубокие, манящие глаза девушки из его родных краев, домовитой и простосердечной девушки из Футхо, в широких шелковых штанах и белом – с разрезами по бокам – платье, длинные волосы свои она гладко зачесала назад, но лицо у нее было округлое, будто плод соана[70]70
Соан (мелия гималайская) – дерево с яйцевидными плодами. Во вьетнамском фольклоре и литературе издавна бытует сравнение красивого женского лица с округлым плодом соана.
[Закрыть], и взгляд пьянящий – точь-в-точь как у Ми.
Появился председатель Тоа с ружьем за спиной.
– Перетащил мехи под навес. Не ровен час, ночью хлынет дождь – все вымочит.
– Ну как, теперь все в порядке?
– Да, хорошо бы только и горн перенести.
– Что ж, пойдем.
В лунном свете, пробивавшемся сквозь туман, видны были могучие вершины; горы, обняв друг друга за плечи, глядели вниз на широкую ровную долину: скоро здесь вырастут медпункт, соляной склад и магазин. Финша, того и гляди, станет поселком городского типа. Вон там, подальше, будет школа, продовольственный склад, почта… А здесь, у ручья, откроем медпункт. Потом выстроим и больницу – уж больно место это удобное: вода под боком, тихо и спокойно, и от жилья и от учреждений далеко…
Так говорил Нгиа, указывая рукою то туда, то сюда. Председатель Тоа внимательно слушал его.
– Пожалуй, товарищ Нгиа, от кузницы моей уж больно много шуму. Надо бы перенести ее на новое место, за гору. Сразу станет спокойнее!
Потом они – все трое – отправились в Комитет.
Председатель Тоа снял с плеча ружье и на радостях сделал подряд добрых пять затяжек из своего кальяна. Кальян булькал и свиристел, распространяя вокруг крепчайший дух табака. И, вдруг оставив кальян, Тоа вскочил с места и выглянул наружу.
– Что это за факел там, внизу? – послышался его голос, самого Тоа почти не было видно за густыми клубами дыма.
Нгиа с Кхаем тоже выглянули за дверь и, подумав, решили:
– Кто-то идет в деревню.
– Верно, но кто?
– Не по тропе ли в Наданг он идет? – спросил Нгиа.
– Да нет.
– Чей же это тогда факел?
Тоа снова забросил ружье за спину.
– Пойду-ка взгляну, кого там несет в такую пору?
И он зашагал прочь. А ну как опять пожаловала какая-нибудь банда из Лаоса? Коли ты председатель, обязан все знать…
Тоа ушел, а Нгиа и Тхао Кхай стали мечтать – каждый о своем. Кхай, к примеру, прикидывал, на каком берегу ручья удобней поставить лазарет для тяжелобольных.
Потом он снова взял в руки свирель и заиграл.
Переливы свирели поплыли в ночи. Нгиа, задремавший у очага, почувствовал вдруг, что стало прохладно, и повернулся спиною к огню. Пригревшись, он опять задремал, но и сквозь сон слышал призывный голос свирели. Нгиа поднялся и закурил сигарету.
– Кхай, скажи, какой ты сейчас играл напев: веселый или печальный?
Тхао Кхай поднял на него глаза.
– Конечно, веселый! Я вспоминал недавний наш разговор. Помнишь: универмаг, больница, шоссейная дорога в Финша…
– Куда это запропастился наш председатель?
– Знаешь, Нгиа, я ведь играл сейчас для любимой. Свирель мою и в деревне слыхать. Я знаю, Кхуа Ли меня слышит…
Белая птица за речку перелетела,
В пору цветенья не вижу я цвета.
Милая три борозды пропахала
И воротилась…
О, погоди, не засыпай!
Тхао Кхай, наклонив голову, самозабвенно выводил:
В пору цветенья не вижу я цвета.
Ты воротилась…
О, погоди, не засыпай!
Вскоре вернулся председатель Тоа. Сняв ружье, он прислонил его к плетеной стене и сразу потянулся за кальяном.
– Ну, что там? – спросил Нгиа.
Вошли еще двое мужчин.
– Знакомьтесь, – представил Тоа, – товарищи из госбезопасности, из окружного центра. Они привели домой этого поганца Ниа.
– А-а…
– Окружной комитет партии решил отпустить его и направил в родную деревню. Теперь за него будет в ответе наша партийная ячейка. Это – распоряжение Окружкома. Соберемся и все обсудим.
Один из гостей обратился к Кхаю:
– Товарищ Тхао Кхай, а для вас есть личное поручение от секретаря Окружкома. Хотелось бы сейчас его и передать.
Незнакомец с Кхаем вышли за дверь. Они пошептались о чем-то, потом Кхай вернулся в дом, взял винтовку и ушел.
Председатель Тоа притащил еще хворосту, подбросил его в огонь – очаг должен был сохранять тепло всю ночь – и снова ушел: кто знает, может, он вспомнил про какие-нибудь дела или решил поохотиться? В помещении Комитета остались ночевать Нгиа и товарищи из центра. А за стеной как ни в чем не бывало похрапывали двое парней с кхенами, уставшие после гулянья.
* * *
Все совпало: Тхао Ниа освободили как раз в ту пору, когда старая Зианг Шуа стала все чаще и чаще вспоминать старшего сына.
Взойдя на порог, Тхао Ниа увидел мать. Она только что поднялась и присела у очага, опершись спиною на плетеную стену.
В доме было темно, в очаге тлел один-единственный красный уголек. Чадный дух очага всегда отличишь от любого другого дымка. Жилища мео вроде глядят сиротливо и хмуро среди покрытых жухлой травою холмов; но пройдешь через сени, где стоит, оттопырив ушастые рукояти, мельница-рисорушка, ступишь в жилой покой, и на душе сразу полегчает; здесь царит тишина. Топят в домах мео по-черному. И дым очага поднимается, курясь, меж большими кувшинами из тыкв с семенным зерном, что стоят на высоких кухонных полках рядом со всевозможными приправами и настоями в сосновых коробах и бочонках, так что все это коптится до черноты сажи. И гость с душевною радостью видит: здесь, под чужим кровом, все выглядит так же, как и у него в доме.
Тхао Ниа молча вошел и сел у очага, рядом с матерью.
Прошло пятнадцать долгих лет, но Ниа почудилось, будто сегодняшний вечер похож как две капли воды на тот давнишний вечер, когда он ушел из дому. И пятнадцать лет показались ему вдруг коротким мгновением. Усталый и растроганный, он едва не зарыдал, опустясь на циновки. Но следом за ним в дом вошли двое работников госбезопасности, доставившие его из города, и потому он сдержался и тихонько сел у огня.
– Матушка Зианг Шуа! – сказал один из провожатых. – Вот ваш сын, Тхао Ниа.
Она встала.
– Выходит, Правительство не казнило его? – громко спросила Зианг Шуа. – Правительство его помиловало?
– Да.
– Ты есть хочешь? – обратилась она к сыну.
– Хочу.
Ниа поднялся и прошел туда, где стояла жаровня для кукурузы, обеими руками поднял горшок с кукурузной мукой, потом достал бамбуковое ведерко со стручками перца и приготовил себе поесть.
Пришел председатель Тоа.
– Правительство, – сказал он прямо с порога, – отпустило вашего сына домой и препоручило его вам, соседка. Наставляйте его и сделайте из него человека. Вы теперь прежде других за него в ответе.
– Хорошо.
– А вас, товарищи, прошу в Комитет – отдохнуть с дороги.
– Пусть сперва у меня перекусят.
– Нет уж, вам в честь возвращения сына надо бы выставить угощение да выпивку! Тут закусками на скорую руку не отделаешься…
– Вы это всерьез? Что, мне и впрямь готовить угощение? – переспросила счастливая Зианг Шуа.
Председатель Тоа только засмеялся в ответ и увел товарищей из города.
По лицу Зианг Шуа текли счастливые слезы. Увидать, что сын твой, долго блуждавший в чужих краях, не позабыл свой дом, как уверенно протянул он руку за чашкой и отсыпал в нее кукурузной муки, как наклонился за деревянной ложкой, – возможна ли большая радость для материнского сердца? Вот и собрались наконец вокруг нее все ее дети. Ведь Ниа – ее первенец, кровное ее чадо. Надо же, как ловко управился с горшком, где хранилась кукурузная мука, с миской крупных бобов, именуемых «конским зубом», и стручками перца… Так, словно это Кхай воротился домой. Ясное дело – ведь он плоть от плоти нашей и кровь от крови…
Давным-давно – и не вспомнить, с каких пор, – не едал Тхао Ниа бобов. Бобы, тушенные на медленном огне и сдобренные перечной подливкой, – как сладок и неповторим их вкус! Ах, мама, стоило лишь отведать бобов, и почудилось мне, будто я только нынешним вечером отлучился ненадолго из дому… Будто снова я стал подростком, как в тот страшный день, и не было вовсе этих долгих и тяжких лет и мы, как прежде, сидим вдвоем: вы, мама, и я, ваш маленький Ниа. Сумеречный ветер все унес прочь: богатого купца Цина, неспокойный город Корат, мрачную католическую школу на берегу Удона… Мама, прошлое кануло в небытие, от него ничего не осталось. Здесь только мы двое – вы и я.
Но вдруг его кольнуло непрошеное воспоминание. Святой отец наставлял его: «Нет, не мать она тебе, и они – не братья и сестры, а порождения дьявола… Сын мой! Проникнув туда, склони главу свою и храни молчание, словно ты мертв. В смутные времена сынам божьим всегда приходилось таиться и молчать. Но пусть глаза твои остаются открытыми и видят, пусть уши твои будут отверсты и слышат… Знай, отныне в сей жизни лишь двое нас: ты, мое чадо, и я, твой отец. А я помогу тебе узреть истинную твою мать и единокровных твоих сестер и братьев…»
Злые слова искушения снова вторглись в его память. Но ведь сегодня, переступив порог, он увидел свою мать. Вот она – сидит рядом с ним у очага. Неужто она не мать ему?
– Мама, – тихонько позвал Ниа.
– Что тебе? – спросила Зианг Шуа.
Конечно же, это она – его мать…
– Мама, я хотел бы вам рассказать обо всем, что случилось со мной за эти годы…
Зианг Шуа молча слушала его рассказ: как ушел он с богатым купцом Цином, как потом следовал во всем наставлениям святого отца… Но куда бы ни заносило его, в какие бы ни попадал он края, матери чудилось, будто ей давно известно все наперед, и, сколько бы ни длился его путь, по каким бы ни пролегал горам, она знала: под конец он приведет сына к берегу Намнгу и в водах ее человек обернется тигром.
Но больше всего тревожилась и сокрушалась Зианг Шуа из-за святого отца. Кем он был: наставником истины, тигром или женщиной, волочившей дохлого тигра к яме с навозом? Нет, скорее всего, он – тигр! А Ниа был тогда околдован и ничего не помнит.
– Это святой отец привел тебя к речке Намнгу? – спросила она. – Он что, торговец, как купец Цин?
– Святой отец… святой отец, он… молится Христу…
Тхао Ниа и сам толком не понимал, чем же на самом деле занимается святой отец. Он, правда, помнил, как ездил со святым отцом в Шамбатсак закупать опий у владетельного Бун У, как они гостили там месяцами и возвращались с чемоданами, полными опия. Помнил, но не сказал ни слова. Не сказал оттого, что ему и в голову не приходило, будто святой отец похож на богатого купца Цина или на англичанина, что построил в Корате гостиницу и бар с машиной для взбивания мороженого. Святой отец носил обычно мундир цвета хаки и темные очки – так одеваются американские офицеры. Нет, не был он похож на прежних хозяев Ниа.
– А кто такой Христос, сынок? – снова спросила мать.
– Христос живет на небесах.
– На небесах вместе с покойниками?
– Да, достойные люди после смерти возносятся на небо.
– А тебе не довелось хоть разок вознестись со святым отцом на небо?
– Нет.
Ниа взглянул на мать. Так на чем же он остановился?.. Вроде он рассказал уже, как попал в Корат и взбивал мороженое у англичанина, а после вместе со святым отцом перебрался в Удон, в духовную школу… Что же дальше? Рассказывать все, начистоту?.. Как святой отец отвел его к американским офицерам, а после повез во Вьентьян… Откровенность, решил он, может ему повредить. Он ведь и в городе никому не говорил всего До конца. Лучше, пожалуй, на этом остановиться…
– А где же Кхай? – спросил он.
– На службе. Он теперь у нас фельдшер.
– Так, а Ми?
– Тоже на работе, она вместе с соседями строит склад.
Ниа не мог взять в толк, что это за служба да работа такая. Одно лишь он понял: здесь это, видно, дела обычные. Но ему они были не по душе. К чему это все его семье? Выдумки коммунистов! А ведь коммунисты могут его убить…
Вернулся домой Тхао Кхай.
Увидев брата, Ниа оробел и не проронил больше ни слова. Этот человек в синем мундире и фуражке был точь-в-точь как те чужаки из города. Что общего у него с Ниа? Маленьких несмышленых оборвышей Кхая и Ми, которых оставил он тогда в лесу, больше не было. Их теперь не узнать…
Ему стало не по себе, светлое чувство, охватившее его, когда они были вдвоем с матерью, погасло. Он замкнулся в себе и умолк. В памяти всплывало все, чему учили его за границей, прежде чем сбросить сюда с парашютом. Больше не стало брата и сына, вернувшегося под родной кров, – теперь это был диверсант и шпион.
– Ты что, недавно вернулся? – радушно спросил Кхай.
– Ага. – И, немного помедлив, Ниа спросил в свою очередь: – А здесь есть опий? Кто-нибудь курит опий, вот ты, к примеру?
– Да у нас, если уж кто одной ногой стоит в могиле, бывает, курит.
Ниа снова умолк. Он стал клевать носом и скоро уснул. Может, утомился после дальней дороги? Нет, он решил прикинуться спящим, чтобы избавиться от пытливых взглядов Кхая. А Зианг Шуа все сокрушалась да жалела сына, пристрастившегося к опию. Ведь опий нынче только и курят что в Лаосе, где заправляют американцы. А отвыкать от курения – дело нелегкое.
На другой день, улучив момент, когда они остались вдвоем, мать спросила Ниа:
– Ты что, к опию пристрастился?
Он пробурчал что-то себе под нос, а что именно – она и не разобрала.
Он лежал дома целыми днями, иногда по месяцу не выходя со двора. И ни в ком ему не было нужды – ни в друзьях, ни в соседях. Мать рядом, – чего же еще желать? Жаль только – она все про новые времена толкует. Ниа это было совсем не по сердцу.
А потом он повадился ходить в лес.








