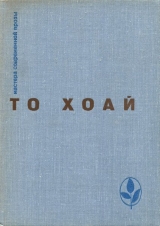
Текст книги "Западный край. Рассказы. Сказки"
Автор книги: То Хоай
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
Мы расселись по Ананасам. Снаружи ветер свистел и завывал всю ночь и весь день, но в наших домах было тепло и спокойно.
Когда все устроились на новых местах, я собрал своих подданных и сказал:
– В недавнем сражении мой брат, к несчастью, попал в плен, и Тяутяувои увели его неведомо куда. Когда-то мы с ним поклялись друг другу в верности до гробовой доски. Могу ли я после всего случившегося сидеть здесь сложа руки? Я должен искать брата. И я найду его, хотя бы для этого мне пришлось идти на край Света! А когда я отыщу его, мы оба, даю вам слово, вернемся сюда, к вам.
Они упрашивали и отговаривали меня, но я был непоколебим. Братские чувства и узы дружбы слишком много значили для меня. Да и мне, признаться, давно надоело сидеть на одном месте.
Поняв, что им меня не удержать, подданные мои огорчились и стали наперебой просить меня, чтобы я непременно вернулся, как только найду Чуи.
– Не волнуйтесь, о досточтимые, – сказал я, – мы с вами обязательно увидимся.
Прощаясь, они все никак не могли со мною расстаться. Я тоже был очень растроган. Нет, я не плакал, но сердце мое болезненно сжалось. Впрочем, так всегда бывает перед разлукой.
Итак, вещи, как говорится, увязаны и дует попутный ветер. Я снова пускаюсь в путь. Пора цветения Май давно отошла. На полях и лугах уныло серела солома и торчали корешки травы, оборванной ребятишками; они складывали из нее костры и грелись, выгоняя буйволов на пастбища. С земли поднимались столбы зеленоватого дыма и, тая на ветру, печально расплывались в небе. У Тяутяу и прочих от зимней стужи дрожали усы, но все они – кто шагом, кто скоком – проводили меня далеко за Ананасовые заросли. Они прошли два или три зама (а в каждом заме, да будет вам известно, более четырехсот метров!) и только тогда согласились повернуть обратно.
Я начал погоню за Тяутяувои. Я высматривал их следы, расспрашивал встречных, искал очевидцев.
Я шел на север, обшаривая все попадавшиеся мне на глаза заросли и рощи, оголенные зимними холодами. А время покуда шло и шло; и вот уже кончилась зима и наступила весна. А потом, шагая по дальним дорогам, я незаметно вступил в лето с его прозрачными синими ночами, озаренными яркой луною и множеством звезд. Ах, каким одиноким и бесприютным чувствовал я себя в эти прекрасные ночи! И, подняв лицо к небу, я громко взывал:
– О брат мой! Где же ты, братец?
ГЛАВА СЕДЬМАЯСердечные тайны разочарованного в жизни дядюшки Сиентаука. – Причины, побудившие меня снова отправиться в путь.
Времена года сменяли друг друга не помню уж сколько раз. Но о Чуи по-прежнему не было никаких вестей. Чем дальше я уходил, тем сложней и запутанней делались мои поиски и тем сильней становилась тревога.
Я прошел множество стран и встречал на дорогах множество путников, но никто ничего не знал про Тяутяувои. Они словно провалились сквозь землю.
Ах, даже Дальние Странствия приедаются, если странствуешь в одиночку! Когда вы вместе с другом, дорогим вашему сердцу, вам кажутся прекраснее красоты и загадочней чудеса! Все печали и радости вы делите с ним поровну, находя в нем опору, и без труда сохраняете твердость духа даже в самых тяжелых испытаниях. А счастье, если вы вместе, жарче греет сердца.
Увы, одинокий брожу я по долгим дорогам, и за мною плетется лишь моя сиротливая тень. О как безысходна моя тоска! Иногда я вспоминаю наш Плот, затерявшийся в безбрежных водах, и словно вижу воочию моего братца Чуи: он протягивает мне свою руку, просит съесть ее, желая спасти меня от голода… Слезы льются ручьем из моих глаз…
А время не стоит на месте. Подходит к концу еще одна зима. И вновь наступает весна. Птицы поют и щебечут на ветках. Солнце шелковым пологом ложится на зелень травы, земля из края в край одевается в зеленый цвет. Весенние травы сладки на вкус, словно сахарный леденец.
В один прекрасный день я остановился на берегу ручейка и залюбовался цветами дерева Зо, похожими на ароматные фонарики, развешанные по всему лесу. Вдруг я услышал какой-то неясный шум. Нет, это не было монотонное жужжание пчел, летающих от цветка к цветку в поисках нектара. В шуме этом ощущался свой лад и ритм, он звучал то ниже, то выше, то веселее, то заунывней. Я понял: где-то рядом поет хор.
Взобравшись на большой камень, я глянул через ручей. На другом берегу в свежей и мягкой мураве вели свой хоровод Бабочки. Здесь были Желтые Бабочки, Белые и Пестрые и Разноцветные Мотыльки. Они пели.
Я разобрал даже слова и – представьте себе мое удивление! – узнал отрывок из давным-давно сочиненной одним чужеземным поэтом песни «Четыре времени года». Оказывается, ее перевели на наш язык.
Вот что пели Бабочки, прославляя весну:
День так ясен и хорош —
Явь? Картина ль?
Не поймешь…
Тронул Персика уста Ветер шаловливый,
Вьется Бабочек чета,
Бровь согнула Ива.
Желтой Иволги летят
Над кустами трели,
Под стрехою звонко, в лад
Ласточки запели…
Чуть поодаль рядком стояли молодцы Цикады Шэу (их зовут «Шэу» что значит – «печальный», но я думаю, здесь больше подошло бы слово «занудный»). Пятнистые бородавчатые физиономии их неуклюже торчали из высоких воротников новеньких, сшитых на старинный манер платьев. Наклонив голову в сторону хоровода, они извлекали из спрятанных под крыльями барабанчиков протяжную заунывную дробь, сопровождавшую веселый хор.
Наверно, они устроили Пир На Весь Мир в честь прихода весны. Ведь начало весны всегда и повсюду отмечают радостным праздником. Я почувствовал, что и у меня в душе дрогнули какие-то струны. Я тотчас забрался повыше, чтобы лучше слышать песню.
Теперь я разглядел рядом с Бабочками и Цикадами Шэу еще один хоровод. Весенняя песня звучала прозрачно и звонко, словно переливы ручья, бегущего вдалеке под зеленым покровом леса.
Посреди этого второго хоровода восседал почтенный дородный Жук Сиентаук. Каждой из шести своих конечностей он обнимал молоденькую Белую Бабочку. Они дружно взмахивали крыльями в такт песне, словно подбрасывая в воздух лепестки цветов. А когда Сиентаук наклонил голову, чтобы извлечь из висевшего у него на шее музыкального инструмента долгий скрипучий звук, две другие Бабочки, хохоча и резвясь, взобрались на его крепкие длинные усы. И все они пели и веселились от души, как малые дети.
Я пригляделся к этому Жуку: каков он собою, стар или молод? С чего бы ему так ребячиться? Ведь все Сиентауки издавна славятся строгостью нравов, воздержанностью и скромностью.
И что же, вы думаете, я увидел? Нет, это – чудо!.. Передо мной был дядюшка Сиентаук. Ну, конечно, тот самый – мой давний знакомец и благодетель! Даже в нынешнем его обличье сохранилось еще что-то от прежней его строгости и глубокомыслия. Все так же грозно выглядели его черные острые челюсти. По-прежнему лысым и гладким было его темя – ни волоска, ни пушинки. (Да ведь и само родовое имя «Сиентаук» означает «безволосый»). Впрочем, лысина его казалась пристойной и даже привлекательной благодаря чудесным длинным усам. А мои-то отрезанные усы так и не выросли…
Но, честное слово, друзья, пускай операция, проделанная когда-то Сиентауком над моими усами, и повредила моей внешности, состарив меня и лишив великолепного украшения, но я не таил зла. Напротив, я почитал дядюшку Сиентаука, как мужа выдающегося и великодушного, взысканного Талантами и Силой, – говоря в двух словах – как Истинного Рыцаря.
И кто б мог подумать, что дядюшка Сиентаук, такой скромный, суровый и мудрый, вдруг за какие-то два-три года станет легкомысленным, праздным гулякой, прожигающим жизнь в обществе завзятых бездельников – Цикад Шэу и Бабочек. А уж они, судя по их виду, гуляли и бражничали напропалую день и ночь. Увы, и я когда-то предавался безрассудствам и излишествам! Но дядюшка Сиентаук… Нет, это уму непостижимо!
Покуда я размышлял: предстать ли пред очи Сиентаука или же потихоньку удалиться, оба хоровода вдруг распались, Бабочки в страхе разлетелись и забились под кусты. Воцарилась мертвая тишина.
Сиентаук поднял голову и, запинаясь, спросил:
– Эй, крошки!.. Кто… эт-то нап-пуг-гал… вас до смерти?..
Озираясь по сторонам, он заметил меня и воскликнул:
– Кто это? Да никак сам Кузнечик Мен! Откуда ты взялся? Иди-ка сюда, к нам!.. Да ты ли это, братец Мен?
Наверно, от разгульной жизни и ночных бдений зрение у Сиентаука ослабело, и он даже не признал меня сразу. Но память его не подвела: память теперь у него была лучше зрения.
Я подлетел к нему.
Бабочки, попрятавшиеся было в кустах на краю лужайки, рассмотрев меня, выбрались из своего убежища и подошли поближе. Сперва они, видимо, испугались меня и застыдились, а теперь осмелели, даже стали наперебой приглашать на танцы. Но от танцев я отказался, вежливо, конечно, чтобы никого не обидеть. И они снова закружились в хороводе и запели, жаль только, скрипучая музыка Цикад портила мне удовольствие.
А потом мы остались вдвоем, Сиентаук оглядел меня и спросил шутливо:
– Что, братец, усы так больше и не выросли?
Я засмеялся и покачав головой. Потом принялся расспрашивать Сиентаука о его нынешней жизни: отчего, мол, он стал таким беззаботным и праздным.
Дядюшка Сиентаук тяжело вздохнул, негромко пощелкал челюстями и задумался о чем-то своем. Немного погодя он заговорил, и голос его был тих и печален.
Вот его рассказ:
– Не правда ли, Мен, вы заметили, как сильно я переменился? (Ого, сам Сиентаук теперь со мной на «вы»! А впрочем… Но не будем, друзья, отвлекаться.) Да я и сам вижу, что стал совсем другим. Знаю, знаю, как низко пал я, проводя время в безделье и плотских утехах. Но, увы, дух мой сломлен, подорваны силы! Мне никогда не трудиться больше в поте лица, не выйти на поле брани. Я теперь ни на что не гожусь. Знайте, Мен, это сама жизнь, беспощадная, мрачная и тяжелая жизнь, согнула меня и придавила к земле. После нашей первой встречи я был очень доволен собой, потому что совершил тогда немало Полезных и Добрых Дел. И вот однажды я залетел в знакомую вам деревню. Откуда мне было знать, что именно там готовятся страшные, роковые события?! Ах, Мен, известно ли вам, что такое облава. Помните, как мальчишки «выливали» Кузнечиков? Ведь они и вас в свое время поймали, заставили драться всем на потеху, а потом сделали своим футбольным призом. Ну так вот, облаву, в которую я угодил, затеяли приехавшие из города дети. Им понадобились жуки, и не всякая там мелкота, а именно мы, Сиентауки. Я был схвачен на ветке Шелковицы.
Они увезли меня в город. Путь был неблизкий, но я точно не знаю, сколько дней мы находились в дороге, потому что меня вместе с пятью злосчастными моими сородичами заточили в какую-то коробку, и мы сидели там взаперти. Один умер в пути от удушья. Мы, Сиентауки, испокон веку питаемся древесной корой. Но эти малолетние невежды, представьте себе, не знали, чем нас кормить. То они набивали нашу темницу травой, то совали туда рис и даже обглоданные кости. Сами понимаете, Мен, мне кусок не лез в горло. Я голодал, наверно, месяца два или три, но им, нашим мучителям, как говорится, и горя было мало.
К счастью, мне удалось бежать. А дело было вот как: я обратил внимание на то, что стены нашей темницы сделаны из плотной бумаги. Выбрав подходящее место, я стал смачивать стенку слюной и скрести ее ногами. Постепенно она начала подаваться. Тогда я напряг остаток сил, ударил в стену всем телом и… вывалился наружу. Я расправил крылья и, не оглядываясь, полетел прочь. Мне повезло, ох как повезло, уважаемый Мен, я сохранил оба крыла. Ведь моим товарищам по заточению дети потехи ради оборвали крылья. Тщетно раскрывали они надкрылия, им не на чем было подняться в воздух, они не могли больше летать. Куда уползли они, что с ними сталось потом, не знаю.
Сам не пойму отчего, но за время болезни характер мой переменился. Я разочаровался в жизни, ничего больше не ждал для себя и ни о чем не мечтал. Клянусь вам честью: я до сих пор толком не знаю, что, собственно, со мной произошло. Возможно, причиной всему пережитый мною кошмар, а может быть, овладевшая мною безысходная тоска. Но мне ни до чего не было дела. Я даже перестал питаться корой и приучился есть простую траву, ее, благодарение небу, хватает повсюду. Я считал себя ушедшим от мира отшельником. День за днем, месяц за месяцем бродил я по пустынным тропам, и друзьями мне были одни летучие облака. Я никого не встречал, не знакомился ни с кем, уверенный, что отныне меня не коснется житейская суета. Я приноравливался лишь к смене времен года, напрочь отринув все свои старые привычки, меня больше не заботила моя наружность и платье. Я и думать забыл о мирской жизни, мне безразлично было, какие вокруг происходили события и перемены… И вот с тех пор…
Он замолчал.
Ах, как тяжко мне было его слушать! Наверно, многим, как и этому пожилому Жуку, подобные удары судьбы внушили бы отвращение к жизни и страх перед нею. Здесь, как говорится, все на ладони – причины и следствия.
Сиентаук покачал головой.
– Ну а вы, Мен? – спросил он, и голос его был по-прежнему грустен. – Куда завели вас житейские тропы?
Я стал рассказывать ему все с самого начала. Время от времени он вторил моим словам вздохами сожаления и досады. Но едва я заговорил о том, как покинул Ананасовые заросли и отправился в погоню за Тяутяувои, чтобы выручить Чуи, Сиентаук вдруг перебил меня.
Я летел без отдыха день и ночь. И немало прошло дней, пока удалось мне выбраться из этого мрачного безликого и бессердечного города. Когда я долетел наконец до Сада, где росла свежая зеленая трава, силы покинули меня. Я совершенно не мог двигаться и проболел несколько месяцев.
– Тяутяувои, говорите вы? Тяутяувои… Вроде припоминаю… Так и есть, это они проходили здесь месяца два или три назад. Да и Кузнечика Чуи я тоже видел…
– Чуи?! Не может быть!
– Отчего же? Я прекрасно его помню.
– Брат мой, дорогой братец!.. Эта банда… Горе мне, брат мой в плену…
– Да нет, Чуи у них вовсе не пленник. Он шел вместе с Тяутяувои как равный. Однако…
– Что «однако»?!
– Однако… Ай-ай-ай, что-то в последнее время с памятью у меня неладно, просто беда… Постойте-ка… A-а, вот наконец-то вспомнил! Тяутяувои вместе с Кузнечиком приходили сюда по делу: они уговаривали меня присоединиться к ним, к их Великому Делу. Ох уж эти мне Великие Дела! Бредовая идея! Вообразите, Мен, они намереваются обойти весь Свет, встретиться со всеми живыми тварями и между теми, кто проявит Добрую волю (а таких, они полагают, большинство), утвердить Всеобщее Братство. Послушать их – просто уши вянут!
– А по-моему, это прекрасно! – воскликнул я.
– Я отбивался руками и ногами от этих мечтателей, – медленно продолжал Сиентаук, словно не слышал моего возгласа. – Мне кажется, они еще глупее береговых крабов Зача́нг, которые возводят свои укрепления из песка у самой воды, позабыв о приливе. Я вообще избегаю мирских дел; но их затея, прямо скажу, повергла меня в ужас. Не для того надел я монашеский колпак и не подпускаю к себе житейские заботы ближе кончиков усов. Жизнь погасила огонь в моем сердце, мне ли ступать по багряному праху, как назвал Будда подъятую суетой пыль…
– Где же они теперь? – спросил я в волненье.
– Ничего от меня не добившись, они ушли, но…
– Куда ушли?
– Они хотели обойти все Поля и Луга на другом берегу Ручья, убеждая тамошних жителей примкнуть к их Великому Делу, а потом – вернуться в наши края и отправиться дальше на запад. По-моему, вам нет смысла уходить отсюда. Оставайтесь у нас, вы все равно их дождетесь. А за брата своего не тревожьтесь. Тяутяувои добры и великодушны, и Чуи, пока он с ними, ничего не грозит. Но если вы и впрямь одобряете их выдумки, мне вас жаль от души. Поверьте, все твари земные друг другу – враги, и каждый печется лишь о своем собственном благе. Мне ли этого не знать!
Ах, ему было невдомек, что Великое Дело, задуманное Тяутяувои, это – и моя давняя мечта. С того дня, когда я, прощаясь с матушкой, выслушал ее наказ, я понял: каждый, кто наделен способностью мыслить, должен, не зная устали, искать Истинный Смысл Жизни. Вот и мы с Чуи в свое время отправились в Дальние Странствия, чтоб отыскать этот таинственный смысл, но нам он, увы, так и не открылся. И сегодня я был поистине счастлив! Ведь именно этим неуловимым доселе смыслом проникнуто было Великое Дело Тяутяувои! И потому, хоть мне было известно об этом Деле не очень-то много, я сразу стал их верным сторонником.
Горько сожалел я теперь о нашей с ними войне. Не моя ль безрассудная запальчивость явилась всему виной? О, если б я попытался сперва встретиться с ними и вступить в переговоры, дело не дошло бы до кровопролития! Но с другой стороны, я почувствовал и известное облегчение: Чуи был в безопасности.
Что же делать? Оставаться мне здесь или идти дальше? Я колебался и еще раза два или три советовался с дядюшкой Сиен-тауком. Однако мозг его после всех потрясений стал, по-моему, совершенно гладким и никакая новая мысль в нем не задерживалась. Если я и останусь здесь, как предлагает Сиентаук, то все равно буду томиться в ожидании брата.
И все-таки я остался – отряхнул пыль дальних дорог у травяного шалаша, в котором укрылся от мира старый Сиентаук.
С утра до ночи в ушах у меня звенели песни Бабочек и Цикад Шэу. Ах, возможно ли сегодня, и завтра, и через неделю слушать одни и те же песни и сидеть сложа руки?! Но здесь и в помине не было ничего такого, что могло бы называться «Делом». Коротко говоря, дни, которые я провел здесь, были как две капли воды сходны с теми, когда я совсем еще юнцом начал самостоятельную жизнь в домике, куда привела меня Мама. Наверно, вы помните, друзья, как я тогда пел и плясал до упаду, бездумно растрачивая невозвратимое время.
Жизнь, заполненная лишь развлеченьями и утехами, скоро, как известно, приедается. Да и что было общего между мною и здешним веселым народцем? Я по натуре скиталец и непоседа, и мне невмоготу оставаться подолгу на одном месте. Образ жизни всех этих Бабочек и Цикад, закоренелых лодырей и дармоедов, был мне отвратителен. Даже Сиентаук сделался здесь лицемерным безвольным бездельником и повесой. Если бы не теплившаяся в сердце у меня надежда встретиться с Чуи, я давно бы ушел отсюда.
Само собой, друзья, неприглядность окружающей жизни вынуждала меня все чаще и чаще обращать свои помыслы к Великому Делу Тяутяувои. Как это прекрасно – Всеобщее Братство! В мечтах я уже видел себя шагающим рядом с ними и ощущал связавшую нас воедино решимость и волю. Когда же, когда мы выступим в дальний путь – завтра, через день, через неделю? Каждое утро, открывая глаза, я слышал в моем сердце этот властный неумолчный зов.
Но вот прошел день, другой и кончилась весна. А за нею отошло и лето. В прудах и озерах увяли Лотосы. Кроны деревьев из зеленых становились желто-багровыми. Солнце склонялось к осени.
Однажды утром Бабочки пришли пригласить меня в Лес – на состязание певцов. Я отказался, молча покачав головой, и отправился побродить в одиночестве по берегу Ручья. Я глянул на небо и почему-то с особенной грустью вспомнил о Чуи, о своих надеждах и чаяньях.
Вдруг откуда-то с запада донеслось громкое жужжание. Целый пчелиный рой прилетел и уселся на листьях Бамбука и кустистых побегах Канатника, который, как всегда в начале осени, украсился яркими желтыми цветами. Пчелы летали за Едой и на обратном пути решили устроить здесь привал. Все они были нагружены пыльцой. Жужжа, рассказывали они друг дружке разные веселые истории, и голоса их звучали, как бодрая и пленительная мелодия жизни, нарушившая вдруг дремотную тишину Леса.
Отдохнув немного, Пчелы полетели дальше. А следом за ними унеслось и мое растревоженное сердце.
Я проводил их взглядом. Пчелы эти, как я понял, летели издалека. Они кормились своим трудом, сами строили себе дома, переселялись из края в край. Они умели дружить и работать сообща. Лишь те, кто, странствуя, познают мир и трудятся, живут настоящей полнокровной жизнью. Я был весь во власти надежд и сомнений! В мозгу у меня проносились слова: «Работа»… «Дальние Странствия»… «Всеобщее Братство»… Ноги мои нетерпеливо переступали с места на место: «В путь! Скорее в путь!..» Призыв, брошенный гудевшими, словно рожки, пчелами, взмывшими в небесную синь, все еще звучал у меня в ушах. Ах, как мне все здесь наскучило и опостылело!
Задумавшись, я и не заметил сперва, что шагаю по редкому Лесу. Там увидал я Сиентаука. Он стоял у ствола Бамбука и глубокомысленно качал головой. Да, природа создала его для трудов, для действия – он был огромный и сильный с широкими угловатыми плечами… Потому-то, наверно, и показался мне смешным его томный, задумчивый вид. Но вот он качнулся, закатил глаза к небу и скрипучим сиплым голосом затянул куплет все из тех же «Четырех времен года», только на этот раз песня была об осени:
Ах, как приятно
среди Хризантем ароматных
Праздной рукою
созвучья исторгнуть из струн…
О земля! О небо!.. Вам повезло, друзья, что пение его ни разу не коснулось вашего слуха.
Какие разные картины предстали сейчас моему взору: Пчелы, трудолюбивые веселые и бодрые, и дядюшка Сиентаук, вконец обленившийся толстяк, сам не заметивший, как опустился и стал тунеядцем.
Я по натуре не склонен к прекраснодушию и мечтательности и не привык сложа руки плыть, как говорится, по воле воли. Я решил покинуть эту ораву бездельников, уйти отсюда сегодня, сейчас же, ни с кем не прощаясь и никому не показываясь на глаза. Так я и сделал…
Шел уже десятый день моего путешествия, когда дорогу мне вдруг преградила Плотина. Она была так высока, что я потратил полдня, покуда добрался до ее гребня.
Я стоял на Плотине и смотрел на Реку, быстро катившую свои темно-красные воды. Вдруг кто-то сердито прокричал «Куик-куик» прямо у меня над головой. Подняв глаза, я увидел подлетавшего Зимородка. Вот это да! Второго такого щеголя и красавца надо поискать!
Мы называем Зимородка «Ча», наверное, потому, что он питается рыбой, а самое знаменитое рыбное блюдо у людей зовется «ча» или «тя». (Это когда рыбу поджаривают кусками на вертеле или на противне.) Когда Зимородок собирается поймать рыбу, он хлопает крыльями, на мгновение замирает в воздухе, вглядываясь в воду, потом камнем падает вниз и тотчас взлетает с добычей в клюве. Он как бы видит невидимое, и потому есть у него и другое имя «Бойка» – «Провидец рыбы». А поскольку этой Птице суждено не раз еще появиться в моей повести, во избежание путаницы лучше называть ее каким-то одним именем, я выбрал имя «Ча».
Да, мой Ча, подлетавший к плотине, на вид был далеко не молод, довольно тощий и хилый. Но Ча тем-то как раз и славятся, что до старости корчат из себя сердцеедов и наряжаются пестро и кричаще – не по годам. У иного уже и щеки ввалились, а он все порхает этаким юнцом. Мой Ча раздобыл себе где-то крылья веселенькой расцветки, совершенно не сочетавшиеся с его темным и мрачным лицом. Живот у него был белый, спина синяя, затянутая в талии, а крылья… Про крылья я как будто уже говорил? Впрочем, нет, я не сказал, какого они были цвета, а были они фиолетовые с зеленым отливом. На ногах Ча носил красные сапожки. Не знаю, может, он бы еще и сошел за писаного красавца, будь у него другой клюв. Но, увы, клюв его был чересчур велик, да к тому же еще и черен. Клюв этот был длиннее самого Ча. Казалось, будто кто-то сыграл над ним злую шутку и воткнул в середину лица бамбуковый кол. Старик маялся и страдал, таская огромный этот клюв точь-в-точь как Улитка, всю жизнь обреченная волочить на себе свой каменный дом.
Я разглядывал это чудо природы и посмеивался втихомолку: как бы ни хорохорился старичок, с таким носом никуда не сунешься! Мог ли я знать, что именно он, черный нелепый клюв скоро решит мою судьбу?!
А случилось вот что:
Старый Ча, покружившись, вдруг сел на плетень прямо передо мной. Плетень шатался из стороны в сторону, и Ча раскачивался вместе с ним; не забывая посматривать на воду, он подстерегал рыбу. Но тут, наклонясь совсем низко, Ча заметил меня и закричал:
– Ну наконец-то! Наконец!
Словно встретил близкого и долгожданного друга. (Лишь потом мне стала ясна причина его ликованья.)
Зрачки его блеснули красноватым огнем, и, прочертив над моей головой наклонную линию, Ча приземлился рядом и тотчас выставил вперед свой огромный клюв. Вот тут-то я разглядел его язык – острый и красный, как кровь. Честно говоря, я слегка встревожился. Но у меня появилась одна черта, которая, на мой взгляд, делает мне честь. И я с гордостью расскажу вам об этом, дорогие мои читатели: я стал независим, ни перед кем не заискивал, не лебезил и не кланялся, пусть бы это мне даже грозило смертью. Когда-то давным-давно, валяясь в ногах у страшного и неумолимого Сиентаука, я ощутил всю горечь и боль унижения и поклялся, что впредь ничего подобного со мной не повторится.
И теперь перед лицом, точнее, перед клювом старого Ча, который был сильнее меня в тысячу раз, я помышлял лишь об одном – о борьбе. Я не собирался ценой раболепства купить себе жизнь, как это делают часто иные особы со слишком гибкой спиной.
Рыболовы Ча вообще славятся тем, что по жадности или злобе способны на любую грубость и даже на преступление. Но я все равно не испугался. Я весь напрягся, изогнулся, расправил крылья, угрожающе поднял руки и сделался похож на мохнатый цветок ползучего растения тхиенли.
Видя, что я изготовился к бою, старый Ча воскликнул:
– Ну-у, напугал!.. Ай да молодец! Сущий богатырь!..
II он стукнул меня клювом по голове. Никогда еще в жизни я не получал подобных ударов. Однако голова моя не напрасно прикрыта Рыцарским шлемом, она неуязвима, как каменный монолит. Боль, конечно, была страшная, но сознания я не потерял и удержался на ногах.
Изумленный, без сомнения, тем, что не сшиб Кузнечика первым же ударом, Ча задумался на мгновение, а потом ухватил меня клювом и взмыл в небеса. Страшное дело! Ветер жутко свистел, раздирая уши. С самого моего появления на свет мне не доводилось еще ни разу быть на такой высоте!








