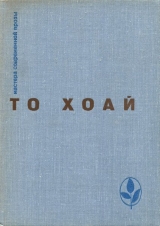
Текст книги "Западный край. Рассказы. Сказки"
Автор книги: То Хоай
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 37 страниц)
Ветер шевелил засохшие плети лотосов, круглые пластины листьев шуршали и шелестели, и запах их долетал до самых ворот храма.
Ха стояла на берегу. Она старалась разглядеть во тьме хижины общины Хо. Целых три года не видела она Западного озера. Неожиданно все закачалось и поплыло у нее перед глазами, и она прислонилась спиной к колонне храма. С другого берега, как и три года назад, донесся размеренный стук пестов. Сердце Ха вдруг наполнилось сладкой истомой, как в тот далекий вечер, когда она впервые смотрела представление тео. В тот вечер Ха охватило предчувствие какой-то радости, чего-то неизведанного и прекрасного, и оно не обмануло ее. Ха и сейчас еще помнила все жесты лицедеев, их пение, каждое их слово…
Ей казалось, будто она сама совсем не изменилась с тех пор, а этих трех лет, безрадостных и мрачных, будто и не было вовсе. Молча прислушивалась она к глухому стуку пестов. Ожидание встречи с любимым стерло из памяти все страдания и беды.
На небо вышла луна.
Ха глядела на утопавшую в туманном мареве деревню. Она узнавала каждую хижину, каждый навес у околицы под сенью бамбуков, где соседи толкли кору. Вон там стоят на земле плоские каменные ступы, в которых кору толкут пестами с бамбуковыми рукоятями. А вот и знакомый навес: Тьы в своей набедренной повязке толчет, как всегда, волокнистый луб; он нагибается, поправляет покосившуюся ступу, и спина его блестит от пота. Потом он распрямляется, и руки его снова – уверенно и крепко – ложатся на рукояти песта. Пест поднимается и падает в каменную ступу… Тум! Тум!.. Тум! Тум!.. Гул от его ударов несется далеко-далеко, к самому горизонту.
Ха наклоняется, раздувает соломенный трут. Солома вспыхивает. Распрямившись, Ха поднимает над головой ярко горящий трут и машет им в темноте. Огонь должен быть виден на другом берегу.
За озером вдруг умолкает один из пестов. Привычный слух Ха сразу улавливает эту перемену. Это Тьы, как всегда, заметил поданный ею знак.
Ха поправляет косынку. Сердце готово выпрыгнуить из груди. Она медленно опускается на землю у тройных ворот храма. Да, так и есть! Тьы увидел ее огонек и понял, что она вернулась. Вот он сбегает к лодке и плывет сюда, ей навстречу. У нее перехватило дыхание, и, откинув голову, она привалилась к колонне.
На озере зашуршали лотосы; казалось, там, в темноте, выпи преследуют свою добычу. Потом появилась лодка, она пересекла полосу чистой воды и причалила к берегу.
Лодочник прыгнул на берег и торопливо взбежал по откосу. Вот он уже во дворе перед храмом. Ха силилась разглядеть его в темноте. Он подошел к ней и громко спросил:
– Это вы, Ха? Значит, вернулись…
Человек этот был ей незнаком.
Лунный свет серебрил капли, сбегавшие по его широкой спине; не понятно, пот ли это был или туман, клубившийся над лотосами, оседал на коже.
И тут Ха узнала его: конечно же, это тот самый гонец из Нгиадо, что привез ей когда-то привет от Тьы и ружье для учителя До! Она вспомнила и этот голос, и необычный говор.
– Тьы велел мне, как вернетесь, передать вам это. Он сказал, что вы непременно обрадуетесь.
И лодочник протянул ей шелковый платок, в какие обычно заворачивают пожитки и одежду для дальней дороги. Это был ее подарок. Она дала платок Тьы, когда тот приезжал в деревню верхом на коне. Тьы сохранил его…
Она опустила голову. Сколько же бед и несчастий может вынести человек за отпущенный ему судьбою недолгий век?!
– А где же Тьы? – спросила она, глотая слезы. – Что с ним?
Парень показал рукою в сторону городской стены:
– Он пошел в город за ружьями. Денька через три вернется.
Ха снова понурилась и умолкла.
– Мы стараемся раздобыть побольше ружей, – сказал он. – Иногда каждый день прибавляется по ружью, а не то и по нескольку штук сразу. Мы решили больше не связываться с начальниками да с чиновниками, они только и знают что книжную свою премудрость, а до настоящего дела руки у них не доходят. Да и не поймешь, что у них там на уме. Наговорят с три короба, заварят кашу, а сами потом снова зовут тэй. Сволочи!.. Вся эта братия, что в столице, что у нас здесь, – одного поля ягоды. Не на кого нам теперь рассчитывать, только на самих себя. – Он вдруг засмеялся. – В прошлое полнолуние я тоже ходил в город. Вернулся с хорошей добычей. Этих тэй в юбках[134]134
Дважды захватывая Ханой (в 1872 и 1882 гг.), французы использовали североафриканских стрелков. Солдаты эти, арабы по национальности, закутывались в широкие полотнища черной ткани, и потому их называли тогда в Ханое «тэй в юбках». – Прим. автора.
[Закрыть], что караулят склады, прикончить проще простого.
Да, многое изменилось здесь. Ха слушала, как приятель Тьы рассказывал про ружья, патроны, про вражьих солдат, вельмож с чиновниками да про всякие смертоубийства – дела, прежде ей вовсе неведомые, – слушала и не удивлялась, будто речь шла о чем-то привычном.
Она знала: нрав у Тьы остался прежний – горячий и пылкий, а сердце – верное и неизменное.
И все-таки Тьы переменился, да оно и не мудрено: где только ни довелось ему побывать; чего только ни повидал, и знал теперь, что за околицей, где стоит его шалаш с пестом и ступой, простирается огромный мир и в этом мире есть множество дел поважнее былых его забот и трудов. Сколько перевидал он голодных и нищих деревень! И всюду народ говорил: хорошо бы одной веревкой связать начальников со стражниками и тэй, затянуть покрепче да и бросить в реку, чтоб унесло их куда подальше. Вот тогда народ заживет по-человечески.
Вернувшись домой, Тьы помог учителю До уйти из-под самого носа начальников уезда, которые нагнали солдат и окружили всю деревню, намереваясь схватить вольнодумца. Учитель переправился тогда через реку и стал предводителем повстанцев.
Тьы ездил в Донгчиеу закупать кору дерева кань. Из нее варят бумагу на запалы для шутих и хлопушек, которыми торгуют под Новый год по всему Парусному ряду. Но Тьы и учитель До не зря были выходцами из «бумажной» деревни – они придумали делать из этой коры, волокнистой и клейкой, фитили для ружей. Вместе с земляками Тьы доставлял кору в общину Быои, а здесь привычные руки умельцев делали из нее бумагу для фитилей. По ночам бумагу эту переправляли за реку в оружейные мастерские повстанцев…
– Знаете, Ха, – снова заговорил приятель Тьы, – войска наши сошлись отовсюду и заняли все деревни на том берегу. По ночам даже здесь, на пристани Тем, слышно, как за рекою кричат в рупор, собирая солдат. Отряд под командой Кыонга подошел уже к самому храму Гень, учитель До, мой земляк, со своими бойцами стоит у пристани Боде[135]135
Боде – старинная пристань на левом берегу Красной реки, откуда переправлялись обычно на правый берег, в Ханой.
[Закрыть]; оттуда видны даже шапки на головах у тэй, что заняли Донтхюи. Скоро мы заживем по-новому!
Ха глядела вниз, на Лотосовую заводь. Лунный свет играл на воде золотистыми бликами. И ей вдруг снова привиделся золотой храм. Во второй уже раз является к ней это виденье! Выходит, и ей суждено обрести счастье и радость!..
Она подумала: в тот самый день, когда возвратится любимый, сбудутся наконец ее мечты. А ведь он должен скоро вернуться!
Следующей ночью повстанцы опять собрались в Ханой добывать ружья, и Ха пошла вместе с ними, надеясь встретить Тьы…
Наступил второй месяц. Подошло время праздника в храме Бронзового барабана.
На этот раз уже не было «летающих» носилок – оказалось, что тащить их некому. Ученым-конфуцианцам да отрокам из богатых и чиновных семей не под силу было нести, как положено, носилки от Конгви до самого храма. А деревенские парни в набедренных повязках, таскавшие их прежде, ушли в войско учителя До. Теперь у них была другая ноша – ружья, похищенные у тэй, – и лежала она, эта новая ноша, не на раззолоченных носилках, а в плетеных коробах. И деревенские парни доставляли их повстанцам, установив на жердях, как носят с базара свиней.
Но древние старики из рода Ли, возжигая в храме благовонные палочки, не сетовали на то, что праздник утратил свое благолепие и торжественность. Покачивая головами, они говорили: «В смутное время место мужчины – на поле брани…»
СКАЗКИ
Редактор М. Финогенова

ЖИЗНЬ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ПОДВИГИ СЛАВНОГО КУЗНЕЧИКА МЕНА, ОПИСАННЫЕ ИМ САМИМ
ГЛАВА ПЕРВАЯЯ начинаю жить самостоятельно с самого раннего детства. – Проделки и проказы, в которых я раскаивался потом всю жизнь.
С самого раннего детства я живу самостоятельно. Так уж ведется издавна у нас, у Кузнечиков. И Мама всегда говорила нам: «Дети, вы должны с первых же дней приучаться к самостоятельной жизни. Очень плохо, когда Кузнечик долго сидит на шее у родителей. Значит, он всегда будет чьим-то нахлебником и не совершит ничего путного». И у нас в Роду матери, едва лишь дети появляются на свет, начинают сразу заботиться о том, чтобы устроить для каждого из детей свой отдельный дом.
Нас родилось трое братьев, и мы провели под родительским кровом всего два дня. На третий день Мама вывела нас из дому, и мы зашагали за нею – след в след, радуясь и в то же время печалясь. Она поместила каждого в отдельный домик у самой Межи, что по ту сторону Большой лужи.
Уж не знаю, когда и как умудрилась она выкопать, надстроить и изукрасить наши жилища!
Я был младшим из братьев, и, понятно, самым маленьким. Поэтому Мама, легонько втолкнув меня в домик, оставила у входа десяток сладких листочков, чтобы на первое время, покуда я не наберусь ума-разума, у меня была Еда.
Потом она спокойно ушла.
Сказать по правде, я не очень-то опечалился. Напротив, я даже обрадовался, что стал единственным владельцем такого дома, красивого и прохладного. Я тотчас отправился осматривать его; налюбовавшись вдоволь, вышел наружу, поднял голову и стал глядеть на небо, синевшее между высокими травинками. Душа моя переполнилась гордостью, я расправил свои крылья, увы, едва достигавшие мне до подмышек, и громко застрекотал.
Так начался мой Жизненный Путь. Откуда я мог тогда знать, буду ли счастлив в будущем, суждены мне удачи или, напротив, одни огорчения? Но я не очень-то ломал над этим голову. Сознание собственной Независимости доставляло мне величайшую радость.
Мой день начинался теперь с трудов и усовершенствований в доме. Я копал и утаптывал землю, чтобы сделать его просторнее и уютней, и, можно сказать, заново соорудил себе спальню с роскошным ложем посередине. Затем – с дальновидностью, свойственной обычно более зрелому возрасту, – я прорыл два Запасных Выхода, на случай опасности. И, решив, что дом мой отныне должен называться Дворцом, я объявил об этом всем соседям и родственникам.
Когда солнце начинало клониться к закату, я, отдохнув немного, выходил на прогулку. Я встречался с молодыми кузнечиками и кузнечихами, и мы играли на данах и пели вечерние песни, провожая заходящее солнце. Ну а едва ночь вступала в свои права, все, кто жил на Нашем Лугу – даже старички-кузнечики и ветераны-бакланы, – веселые и довольные, выходили из своих домов, сойдясь посреди Луга, ели сочные травы, запивая их прохладной росой. Наевшись, те, кто были наделены Талантами, бряцали на струнах, играли на свирелях, плясали и пели, покуда небеса на востоке не начинали серебриться. А едва поднималось солнце, оглядывая строгим оком пробуждавшуюся землю, мы расходились по домам.
И так изо дня в день, из ночи в ночь, каждое утро и вечер. Эта праздная жизнь, безусловно, достойна сожаления. Правда, она увлекла меня поначалу, но потом я в ней разочаровался.
Ел и пил я в меру – не много, но и не мало, трудился, сколько положено, и потому рос очень быстро и, не успев оглянуться, вымахал в плечистого и крепкого юношу. Длинные ноги мои округлились и налились упругой силой, а щетинки на них стали твердыми и острыми. Время от времени, желая испытать их смертоносную мощь, я поднимал ногу и что есть силы ударял по стеблям травы. Травинки падали наземь, словно подкошенные острием ножа. Крылья мои, прежде совсем короткие, теперь, подобно длинному одеянию, окутали все тело вплоть до хвоста. Раскрывая их, я всякий раз слышал приятный низкий гул. Когда же я шествовал по земле, тело мое, раскачиваясь из стороны в сторону, ласкало взгляд переливами оливкового цвета. Голова моя выросла, стала больше чуть ли не вдвое и сидела на плечах высоко и гордо. Черные блестящие челюсти без устали двигались взад-вперед, словно лезвия механической косилки. Длинные усы лихо загибались кверху. Я очень гордился ими перед соседями и соседками и при каждом удобном случае, как бы невзначай, расправлял и поглаживал то правый, то левый ус.
Походка у меня стала степенной и величавой. Я звонко печатал шаг, качая в такт усами. «Пускай, – думал я, – соседи с соседками видят, какова она, настоящая Рыцарская поступь!..» Упоенный собственной удалью и красотой, я что ни день затевал с соседями перебранки и свары. В конце концов, стоило мне застрекотать, пробуя голос, все тотчас же умолкали и на мои песни никто не откликался: меня уже знала вся округа. Пожалуй, соседи не разговаривали со мной и не подхватывали мои песни не из робости или страха – просто мои повадки были им не по душе. Но я-то вообразил, будто передо мной трепещут все и вся, и мнил себя молодцом – хоть куда. Ах, как часто спесивцы и сумасброды приписывают себе несуществующие Таланты и Подвиги!..
Я бранил и обижал юных саранчих Каокао, что жили на краю Нашего Луга, и, едва завидев меня, они прятали свои округлые, как плоды соана, личики за листьями травы, украдкой выглядывая из своих укрытий. Подкараулив у Пруда водяного жука Гаунгво, когда тот, весь вымазанный в иле и обалдевший от усталости, выбирался на берег, я пинал его и поносил последними словами. И конечно, воображал себя при этом могучим и славным героем, достойным в ближайшем будущем стать Первым среди всех живых тварей.
Откуда мне было знать, что подобные выходки и повадки доказывают лишь мое собственное невежество? Ах, как скоро мне пришлось убедиться в этом, заплатив за знания дорогой ценой! Теперь, когда все уже позади, я не устаю каяться и буду каяться вечно. Но, увы, исправить последствия злых дел, пускай совершенных по молодости и недомыслию, никому не дано!..
Вот моя первая выходка, достойная всяческого осуждения – воспоминания о ней терзают меня до сих пор.
Неподалеку от моего Дворца жил в норке кузнечик по имени Мозгляк. Собственно, это я сам прозвал его Мозгляком – в знак презрения. Был он, пожалуй, моим ровесником, но от рождения хил и слаб, и потому я его ни во что не ставил, а он боялся меня как огня. Тощий, голенастый и какой-то расхлябанный, на вид – точь-в-точь курильщик опия, худой, изможденный и хилый. И хоть он, как говорится, вошел уже в возраст, куцые крылышки его едва прикрывали ребра, поэтому издалека казалось, будто он, раздевшись донага, напялил на себя жилетку. На его ножки, коротенькие и толстые, как культяпки, противно было смотреть. Вместо усов у него болтались какие-то обрывки. А впрочем, к такой тупой роже другие усы не подошли бы. Пробавлялся он по мелочам – чем бог пошлет, да и жил в убогой норе – мелкой, чуть ли не вровень с землей, далеко ей было до моего глубокого и просторного Дворца с многочисленными входами и выходами. Сосед мой все время болел, и Настоящее Дело было ему не по силам; но тогда я этого не понимал.
Однажды я заглянул к нему и, глядя на царивший в его доме ужасный беспорядок, сказал:
– Что же ты, братец, так захламил свой дом? Да разве это жилище?! Всякий, кому не лень, заберется сюда в два счета, и тебе крышка! Сам погляди: вот ты залез в свою дыру, а спина, как ни пригибайся, торчит над землей. Даже оттуда, из-за травы, видно, улегся ли ты на покой или расхаживаешь по дому. А ну как тебя заметит Ястреб! С высоты-то он может на тебя и польстится, клюнет прямо в спину, и нет тебя! Жаль мне тебя, хоть плачь: вроде немало на свете прожил, а ума не нажил…
По правде говоря, я произнес эту речь без всякого умысла, лишь бы язык почесать. До сокрушенных вздохов Мозгляка мне не было никакого дела. И вообще в то время я больше слушал себя сам, мне этого было достаточно; и я не очень-то заботился, внемлет ли моим словам хоть кто-нибудь еще.
– О уважаемый Мен, – печально ответствовал мне Мозгляк, – хотел бы и я жить разумно и осмотрительно, да только ничего не выходит. Едва примусь за дело – сразу одышка и в глазах темно. Где уж мне копать или строить! Хорошо, если за ночь соберу себе поесть… Я ведь и сам понимаю: жить в таком доме очень опасно. Но где взять силы? Вот который месяц ломаю голову, а все напрасно. Есть у меня, правда, одна мыслишка, но… Если позволите, я… я скажу…
И он от волнения стал переминаться с ноги на ногу. Жалкое было зрелище! «Лучше уж пусть говорит», – подумал я и ответил:
– Ладно, выкладывай, братец, да поскорее.
– Раз вы мне так сочувствуете, – тут он поднял на меня глаза, – не выроете ли для меня подземный ход прямо к вашему Дворцу, чтобы я в случае чего…
Не дослушав его до конца, я щелкнул челюстями и возмущенно зашипел:
– Ишь ты, шваль! Подземный ход к Нашему Дворцу?! Больше ничего не хочешь?! Да ты, поганец, смердишь, как Сыч! Ведь Нас с тобой рядом просто тошнит. Смотри, как расчувствовался… Утри-ка сопли! Сам вырыл свою дыру – и подыхай в ней!
Повернулся и как ни в чем не бывало отправился восвояси.
Однажды под вечер я, по своему обыкновению, стоял у дверей, любуясь закатом солнца.
В последние дни было много дождей. Окрестные пруды и озера слились с большими лужами и образовали целое море. Оно блестело прямо передо мной. В высокой воде кишмя кишели рыбы, раки и крабы. Ну а за ними, само собою, пожаловали с оскудевших речных побережий голодные цапли и журавли, выпи и бакланы, чирки и птицы Шэмкэм, что клюют в северных чащах чудесный корень женьшень, пеликаны и разные утки. С утра до ночи они кричали, свистели и крякали, яростно споря из-за каждой крохотной креветки. Иные цапли, из тех, что помоложе, день-деньской топчутся в иле, буравят его клювом, да так ничего и не сыщут для своих отощавших желудков. Глянешь на всех этих птиц – прямо беда: худющие, еле ноги таскают! Хлопочут бедные, бьются, а живут впроголодь…
Так стоял я у двери, вызолоченной отражавшимися от воды бликами заката, и размышлял о превратностях жизни, чувствуя какое-то смутное беспокойство и тревогу.
Вдруг я увидел, как над водой поднялась пожилая Бакланиха и, подлетев к берегу, опустилась рядом с моим Дворцом, в двух шагах от меня. Судя по всему, ей перепал недурный кус: едва приземлившись, она отыскала местечко попрохладней и начала охорашиваться, чистить перышки, прочищать клюв.
Надо сказать, нрав у меня был в ту пору озорной и пакостный. И хоть Бакланиха эта ничем меня не задела, я решил устроить ей какую-нибудь каверзу и окликнул Мозгляка:
– Эй, братец! Не хочешь ли позабавиться вместе с Нами?
– Позабавиться, а как?.. У меня вообще приступ астмы… Кхе-кхе…
– Да забава-то пустяковая.
– Кхе-кхе… А в чем дело?
– Давай-ка подденем вон ту старуху Бакланиху.
Мозгляк выглянул из своей дыры, покосился на птицу и спросил:
– Эту почтенную пышнотелую Бакланиху, что стоит у моего дома?
– Ага.
– Нет уж… Кхе-кхе… Увольте. Припадаю к вашим стопам всеми шестью лапками… Кхе-кхе… Вы лучше ее не трогайте. Как бы она вас…
– Она Нас – что?.. – заорал я, выпучив глаза. – Да как ты смеешь? Мы – кузнечик Мен! Мы – самый главный! Мы никого не боимся!
– О дорогой Мен, вы… Кхе-кхе… Позвольте тогда мне бояться за двоих. А вы, пожалуйста, развлекайтесь без меня.
Я отчитал Мозгляка как следует.
– Эх ты, олух! – сказал я в заключение. – Смотри, как Мы сейчас допечем эту старую тушу.
Дождавшись, пока Бакланиха отвернулась от моего Дворца, я запел язвительно и звонко:
Тири-ри! Тири-ри!
Птиц у нас не две, не три!
Журавли, нырки, бакланы…
Нет, не сосчитать;
Все жирны. Кого, скажите,
Первым ощипать?
Мы Бакланиху поймаем,
Перья мигом ощипаем,
И отварим,
и зажарим,
и съедим!
Бакланиха решила, будто голос раздался прямо из-под земли, сперва растерялась, а потом взмахнула крыльями и чуть было не улетела, но через минуту пришла в себя, вылупила глазищи, угрожающе растопырила крылья и, раскачиваясь из стороны в сторону, двинулась к моему Дворцу.
– Что там за дрянь, – приговаривала она на ходу, – поносит Нас?.. Что за дрянь поносит Нас?..
Я тотчас юркнул во Дворец, прошествовал в спальню и улегся, скрестя руки и ноги на роскошном ложе. «Сердишься, старая туша, – думал я с удовольствием, – ну и сердись на здоровье! Хоть расплющи свою тупую башку, а во Дворец тебе не пролезть…»
Но тут случилась беда – себялюбец, каким я был тогда, конечно, не мог ее предвидеть.
Не заметив меня, Бакланиха углядела зато Мозгляка, торчавшего у своей норки.
– Ты что сказал, мерзавец? – заорала она.
– Полно вам, почтеннейшая, я ведь и рта не раскрыл.
С этими словами он кинулся в норку.
– Отпираешься, да? Вот тебе!.. Вот тебе!..
И после каждого «вот тебе!» Бакланиха клевала Мозгляка в спину. А клюв у нее был как железное шило – хоть землю насквозь протыкай. Она двумя ударами перебила Мозгляку кости, и он заверещал от нестерпимой боли. Даже я в подземной своей спальне съежился и не дышал от страха. Ну а Бакланиха, отведя душу, почистила перышки, взлетела и опустилась на воду, нимало не задумываясь о содеянном зле.
Когда она улетела, я осмелился выползти из Дворца. Увидав меня, Мозгляк заплакал навзрыд.
– Что случилось? – задал я нелепый вопрос. – В чем дело?
Мозгляк не в силах был даже подняться. Он лежал пластом. Я опустился на колени и приподнял его голову.
– Ах, – сетовал я, – кто же мог знать, к чему приведет невинная шутка? Я раскаиваюсь! Я от души сожалею! Неужели вы умрете из-за моего безрассудства?! О, как искупить мне ужасную эти вину?!
Ответ его, признаюсь, ошеломил меня.
– Чего уж там, – сказал он чуть слышно, – я все равно был больной и хилый, потеря невелика. Но прежде чем закрыть навеки глаза, я хочу предостеречь вас: знайте, бессердечность, невежество и себялюбие рано или поздно бывают наказаны. И вам…
Тут он испустил дух… Я очень жалел о нем. Жалел и раскаивался. Ведь не вздумай я задирать Бакланиху, с Мозгляком бы ничего не случилось. Да и меня самого, честно говоря, спасла лишь резвость ног; не скройся я вовремя во Дворце, мне бы несдобровать. Вот уж всем глупостям глупость!
Я похоронил Мозгляка на пышной зеленой лужайке. Насыпал над ним высокий могильный холм и долго еще стоял в молчании у его надгробья, размышляя над первым уроком, который дала мне жизнь.








