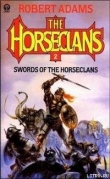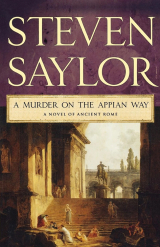
Текст книги "Убийство на Аппиевой дороге (ЛП)"
Автор книги: Стивен Сейлор
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Он налил себе полную чашу фалернского, не разбавляя. Интересно, с каких это пор Цицерон стал пить, как заурядные люди?
– А если ты думаешь, что я не могу этого сделать, – продолжал он, – погоди, пока не услышишь мою речь. Говорю тебе, Гордиан, это будет лучшая из всех речей, которые я когда-либо произносил. Скажи, Тирон, я хвастаюсь, или это действительно моя лучшая речь?
Тирон улыбнулся.
– Это замечательная речь.
– Говорю же, я никогда не писал лучшей! И произнесу я её так, как никогда не произносил ни одной из своих речей. С первых же слов она пленит судей. Я привлеку их к себе, точно возлюбленную, и не выпущу из своих объятий, пока не выскажу всего. А там посмотрим, решится ли кто-то сказать хоть слово против Милона.
Вино и любопытство охладили мой пыл. Вреда не будет, если я потяну время и выслушаю Цицерона. В конце концов, это наш последний разговор. После того, как я выскажу ему то, что собираюсь высказать, я в жизни больше не перекинусь с ним ни единым словом.
– Как же ты собираешься это сделать? Превратить судей своих союзников?
– Ну, зачитывать тебе мою речь целиком я не стану – времени нет. Кроме того, – он хитро улыбнулся, – ты можешь оказать шпионом. Кто тебя знает, Гордиан. Что если ты пришёл выведать мои намёки и двусмысленности? Мне, знаешь ли, совсем не улыбается, чтобы обвинители были предупреждены о моих метафорах и исторических аллюзиях и могли приготовить ответы! Но я обрисую тебе свою речь в общих чертах. Может, это подскажет тебе, чем ты можешь мне помочь.
– Помочь тебе?
– Именно. Вполне возможно, что в тактике обвинения есть некое уязвимое место, не замеченное мною; или же они намереваются сделать упор на что-то, чего я не предвидел. Ты разъезжал в носилках Клодии, делил хлеб и кров с Антонием – ты наверняка знаешь что-то такое, чего не смогли выведать даже мои осведомители. Нет, что ни говори, а бесценный ты человек, Гордиан! Я всегда так говорил. И никогда не отворачивался от тебя, как бы ты ни заблуждался порой. Не могу тебе выразить, как я обрадовался, когда привратник сказал, что ты пришёл. Нет никого, кого бы я хотел видеть сейчас больше, чем тебя. Гордиан Сыщик, которого не просчитаешь; Гордиан Сыщик, который всегда найдёт, чем тебя удивить. «Вот кто поможет мне отшлифовать мою речь, довести её до совершенства», – так я сказал. Верно, Тирон?
– Да. Сказал, – отозвался Тирон. Внезапно он показался мне очень усталым, прямо-таки измученным, и я подумал, что при его слабом здоровье такие ночные бдения ему явно не на пользу. Или же он сейчас вздохнул и отвёл глаза, потому что был в курсе с самого начала? От этой мысли мне сделалось гадко, но сбрасывать её со счетов ни в коем случае не следовало; для Тирона верность Цицерону всегда была превыше всего.
Цицерон же, ничего не замечая, увлечённо продолжал.
– Главный упор я сделаю на то, что это Клодий устроил засаду на Милона, и Милону ничего не осталось, кроме как защищаться. Это была самозащита, а не убийство!
– А факты, Цицерон? – спросил я. – Как же факты?
– О, я напомню судьям определённые факты – например, тот факт, что на совести Клодия немало кощунств против богов и преступлений против республики. И тот факт, что он пытался навязать нам законопроект об изменении системы голосования с целью дать своим прихвостням из вольноотпущенников власть над республикой. И уж точно я не позволю судьям забыть о том, что Клодий был одним из самых алчных и растленных негодяев, которые когда-либо были бичом нашего города.
– Но при всём при том Клодий не устраивал засаду на Милона. Слышишь? Клодий. Не устраивал. Засаду. На Милона.
Цицерон умолк, но лишь на миг.
– Видишь ли, кто кого поджидал в засаде, кто кого собирался убить – всё это вопросы отвлечённые, формальные. Словесность, так сказать. Мой молодой друг Марк Брут вообще говорит, что я должен исходить из того, что Милон убил Клодия преднамеренно, обдуманно и сознательно; и строить свою защиту на том основании, что Милон действовал с целью спасти республику. Но что сойдёт для Брута, не сойдёт для меня. Так недолго и напомнить судьям о том, как я сам управился заговорщиками Катилины. Милон ни в коем случае не должен пострадать из-за того, что я сам вынужден был действовать жёстко в своё консульство. Так что линия защиты мне ясна. С другой стороны, я мог бы упирать на то, что формально ни Милон, ни кто-либо из его людей не может считаться виновным в смерти Клодия. Уверен, что проведённое тобою расследование полностью это подтверждает.
– Ты это о чём?
– Ну же, Гордиан, не начинай скромничать; у нас нет на это времени. В любом случае, чтобы доказать полнейшую невиновность Милона, надо представить суду более убедительный мотив его действий. Так что аргументация Брута не годится: она не согласуется с моим утверждением, что Милон защищал свою жизнь. Нет; я буду настаивать на том, что была засада…
– Повторяю ещё раз: никакой засады не было. Никто ни на кого засаду не устраивал.
– Допустим; но как ты можешь с уверенностью это утверждать?
– Потому что я был там. Видел, где всё случилось. И разговаривал со свидетелями – с людьми, которые всё видели своими глазами.
– Ах, да – ты был, ты видел, ты разговаривал – но судьи-то услышат не это. Их мнение сформируется исключительно под влиянием моей защитительной речи.
– Но они же уже выслушали свидетелей.
– Да, к сожалению. Ух уж эти реформы Помпея! При нормальном положении дел сперва адвокат и обвинитель произносят свои речи, так что у судей создаётся определённое мнение задолго до того, как первый из свидетелей успеет произнести хоть слово. Ну да ничего. Неужели ты думаешь, что после моей трёхчасовой речи, полной убедительнейших доказательств невиновности Милона, хоть один из судей вспомнит об этой шлюхе под личиной жрицы, или об её напыщенном брате, или об этой вульгарной бабе из придорожной харчевни? Смею предположить, что судьи о них начисто забудут. – Вероятно, моё лицо выдало мою растерянность, потому что Цицерон улыбнулся. – Вижу, ты не понимаешь. Или думаешь, ни одна речь не может так повлиять на судей. Поверь, это моя лучшая речь. Ты даже не представляешь, сколько труда я в неё вложил.
– Сколько изворотливости, ты хотел сказать.
– Гордиан! – Цицерон покачал головой; не с раздражением – для этого он был в слишком хорошем расположении духа – но удручённо. – Хорошо, будь по-твоему. Изворотливость, хитрость, коварство, – называй, как хочешь. Откуда только в тебе это упрямство, это желание во что бы то ни стало добраться до голой правды? Если бы правда сам по себе могла бы посылать войска в битву, поколебать судей, повлиять на толпу и каждого человека в отдельности, разве стал бы я использовать иное оружие? Нет, одной правды не достаточно; а порой она просто гибельна. Затем-то и нужно красноречие. Красота слов, заключённая в них сила! Благодарение богам, даровавшим нам искусство красноречия; и благодарение богам за то, что находятся люди, у которых достаёт ума и мудрости, чтобы чуточку видоизменить правду во имя спасения республики от гибели. Главное не в том, чтобы выяснить, кто кого убил на Аппиевой дороге. Главное, жизненно важное для всех нас – это чтобы к исходу завтрашнего дня Милон был признан невиновным. Если же правда мешает этому – долой правду. Она не нужна и вредна. Как ты не понимаешь, Гордиан? Это же совершенно очевидно.
Я почувствовал, что с меня довольно.
– А то, что меня надо было схватить и засадить в яму, тоже «совершенно очевидно»?
У Цицерона сделалось непроницаемое лицо.
– О чём ты, Гордиан?
– Пока я сидел в той вонючей яме, кто-то послал моей жене записку, советуя ей не волноваться и обещая, что со временем я вернусь домой. Записка была без подписи. А сегодня я перечитывал одну старую книгу из своей домашней библиотеки, и мне бросилось в глаза, что дарственная надпись на ней сделана точно таким же почерком, что и в записке. Ту книгу подарил мне ты, и надпись тоже сделал ты; я сам видел. Получается, что и записку моей жене написал тоже ты. Или же я ошибаюсь?
Заложив руки за спину, Цицерон прошёлся по кабинету, затем бросил быстрый взгляд на Тирона, который следил за ним, напряжённо сдвинув брови.
– Ты не ошибаешься. Это я написал записку твоей жене.
– Значит, ты знал? С самого начала? Может, это вообще была твоя идея?
Цицерон скривился, как человек, вынужденный вступить во что-то вязкое и дурно пахнущее.
– Когда ты отправился в Бовиллы, Милон вбил себе в голову, что ты становишься опасен. Кто, мол, знает, на кого ты работаешь и что там откопаешь. День за днём только это и твердил. Я пытался отговорить его, но Милон человек упёртый. Наконец он решил, что тебя необходимо устранить…
– Убить, ты хочешь сказать?
– Не допустить, чтобы ты вернулся в Рим. Да, поначалу он собирался тебя убить. Я ему не позволил. Ты слышишь меня. Гордиан? Я не позволил Милону убить тебя и твоего сына. Я напомнил ему о тех, кого он держит взаперти на своей вилле в Ланувиуме – о тех, кого его рабы схватили в Бовиллах. Почему не поступить так же и с вами? Милон уступил и согласился просто подержать вас обоих в заточении, пока опасность для него не минует. Потом он бы вас отпустил, только и всего.
– Те, кто сбежали из Ланувиума, говорят, что Милон намеревался их убить.
– Это всего лишь слух. Но даже будь это правдой, к вам оно не имеет никакого отношения. Милон дал мне слово, что вам не причинят вреда.
– Надёжная гарантия, нечего сказать!
– А разве тебе причинили вред? Или жестоко обращались? Вот видишь, Милон сдержал обещание. Но у меня из головы не выходило, что твои родные тревожатся за тебя и не находят себе места. Эта мысль не давала мне покоя, и в конце концов я не выдержал и написал записку твоей жене, чтобы она не волновалась. Я написал её сам и передал через раба, не умеющего читать. Мне следовало знать, что ты всё равно меня вычислишь. От тебя ничего не скроешь. Но я не жалею о том, что сделал. Это было необходимо.
Он стоял передо мной, глядя мне прямо в лицо, расправив плечи и гордо вскинув голову, точно солдат, с честью исполнивший свой долг и получивший незаслуженное порицание.
– Чем ты так гордишься? Тем, что погрозил Милону пальцем, и он быстренько согласился не убивать меня, а всего лишь схватить и держать в заточении…
– Я спас тебе жизнь! И твоему сыну тоже!
– И тем, что чёркнул две строчки моей жене, вместо того, чтобы меня вызволить. Так?
Он тяжело вздохнул, огорчённый моим упрямством.
– Порою, Гордиан, ради защиты свободы приходится – необходимо – идти на меры, недопустимые в иных обстоятельствах.
Я покачал головой.
– Ты слышал это, Тирон? Запиши. Твоему патрону пригодится эта фраза – не завтра, так ещё когда.
Цицерон соединил кончики пальцев.
– Когда-нибудь, Гордиан, ты поймёшь, что тебе выпал высокий жребий – пострадать во имя спасения республики. Вполне возможно, что Милон и ошибся, полагая, что тебя необходимо на некоторое время вывести из игры. Тебе бы следовало чувствовать себя польщённым тем, что он счёл тебя столь опасным. Но подумай о главном. Смерть Клодия – благо для Рима; и если завтра наши враги сумеют добиться изгнания Милона, это поистине будет катастрофой.
– Катастрофой для Милона, ты хочешь сказать.
– Да! И для меня тоже. И для каждого, кто хочет спасти республику. Нам нужны такие люди, как Милон, как Катон – и да, такие как я, тоже. Мы не можем позволить себе потерять ни единого человека. Ты имел дело с Помпеем, Гордиан. Ты говорил с Цезарем. Хотел бы ты, чтобы судьба республики оказалась в их руках? Если все достойные люди будут уничтожены один за другим, и власть сената превратится в пустой звук, и не будет никакой силы, кроме Цезаря и Помпея – как ты думаешь, надолго они останутся союзниками? Представь себе новую гражданскую войну. Ты же не забыл, что творилось при Марии и Сулле. Только в этот раз будет ещё ужаснее, потому что запылает не только Рим и даже не только Италия. Останется ли после всего хоть кто-нибудь, чтобы собрать осколки?
Плечи его поникли, как под непосильным бременем.
– Всё, что я делаю, я делаю, чтобы не допустить этого, Гордиан. Подумай об этом и сравни с той мелкой, незначительной несправедливостью, которую причинил тебе Милон, продержав некоторое время взаперти. Ты желаешь возмещения ущерба? За этим ты пришёл? Или же ты способен охватить взглядом общую картину и выделить главное? Завтрашний суд решит нечто большее, нежели судьба Милона. Завтрашний суд решит судьбу республики. И если для спасения республики необходимо скрыть правду – значит, правду надо скрыть. И если для спасения республики должны слегка пострадать ты и твои близкие – значит, ты и твои близкие должны слегка пострадать.
Он снова поднял голову и открыто взглянул мне в лицо.
– О, красота слов, заключённая в них сила! – передразнил я. – Будь прокляты боги, даровавшие нам искусство красноречия; и будь прокляты люди вроде тебя – умники, у которых хватает изворотливости извращать такие понятия, как свобода и справедливость! Увидим, кто из нас прав, Марк Цицерон. Что до незначительной, как ты выразился, несправедливости, которую причинил мне Милон, то всёму свой черёд. После того, как суд завтра вынесет Милону приговор, дойдёт и до этого.
Я повернулся, собираясь уходить, но тут мой взгляд упал на Тирона, который за всё время ни разу не поднял на меня глаз.
– А ты знал, Тирон?
За Тирона ответил Цицерон.
– Нет. Мы с Милоном никогда не говорили об этом в его присутствии. Тирон слишком хорошо к тебе относится и мог бы всё погубить. Даже я не удержался и написал ту записку твоей жене. А Тирон наверняка наделал бы ещё больших глупостей.
Я смотрел на Тирона, который по-прежнему упорно избегал моего взгляда.
– Значит, ты и его обманул. Охотно верю. Тирон, в отличие от тебя, не умеет притворяться. Его изумление и радость, когда он увидел нас, ковыляющих по Фламиниевой дороге, были искренни. Но посмотри на меня, Тирон! Ты же наверняка что-то заподозрил. Кому, кроме Милона, было выгодно наше исчезновение? Как мог Цицерон ни о чём не знать?
Тирон наконец-то поднял на меня глаза. Он закусил губу и вид имел довольно жалкий.
– Раз или два мне приходило такое в голову, но я никогда не спрашивал. Думаю, я просто не хотел знать. Да и без того было о чём думать.
– Скажи мне одну вещь, Тирон. Но только честно. Скажешь?
Тирон кивнул.
– Эта речь в защиту Милона – она и вправду так хороша? Или Цицерон уверяет так из тщеславия? Сам ты как думаешь?
– Правду, Гордиан?
– Да.
– Эта речь… – Тирон вздохнул. – По правде говоря, эта лучшая речь Цицерона. Это вообще лучшая речь, которая когда-либо произносилась в суде. И если Милона вообще возможно спасти, эта речь его спасёт. Она заставит судей рыдать. Вот тебе чистая правда, Гордиан. Это будет самая громкая из побед Цицерона.
Совсем не это я хотел услышать. Да смилуются над нами боги, подумал я, выходя из кабинета. По дороге домой в голове у меня крутились слова Цицерона. Конечно же, всё, что он говорил, было полнейшей чушью; но некоторые фразы казались бессмысленнее остальных. Как это он сказал? «Я мог бы упирать на то, что формально ни Милон, ни кто-либо из его людей не может считаться виновным в смерти Клодия… Уверен, что проведённое тобою расследование полностью это подтверждает… Чтобы доказать полнейшую невиновность Милона, надо представить суду более убедительный мотив его действий…» Что он хотел этим сказать? Я уже почти жалел, что заговорил о своём похищении. Возможно, мне следовало притвориться, постараться выведать… а, что сейчас толку думать. Всё равно ничего уже не изменишь. Да он, скорее всего, и не имел в виду ничего. Просто пытался поколебать мою уверенность, сбить с толку, запутать словесами. Банально морочил голову – как будет морочить её завтра судьям.
Глава 32
Утром четвёртого и последнего дня суда над Милоном я проснулся от щебета птиц. За ночь в саду распустились новые цветы, и теперь повсюду порхали бабочки и деловито жужжали пчёлы. Мелькнула мысль махнуть на всё рукой и остаться дома. В самом деле, почему бы не провести этот день, наслаждаясь теплом апрельского солнца и благоуханием цветов? Я почти поддался соблазну; но укоризненные глаза поверженной Минервы напомнили мне о важности того, что произойдёт сегодня на Форуме.
Давус и ещё один телохранитель, поднявшись задолго до первых петухов, отправились на Форум со складными стульями, заняли для нас места в первых рядах и, несмотря на давку, удерживали их до нашего прихода. Я порадовался нашей с Эко предусмотрительности, ибо в жизни моей мне не доводилось видеть на Форуме такой толпы. В этот день указом Помпея были закрыты все лавки, все харчевни и все кабаки в городе. Указ, несомненно, имел целью предотвратить пьяные бунты; но радикальные трибуны, приверженцы Клодия, не без оснований усматривали в этом немалое преимущество для себя: даже самые легкомысленные из граждан придут на Форум – просто потому, что им больше нечем заняться.
И на любом возвышении – на храмовых ступенях, на пьедесталах, на стенах – солдаты Помпея. Они заняли возвышения ещё ночью; они полностью оцепили Форум. Я сам видел, как они отводили совершенно мирных граждан в сторону и обыскивали, ища спрятанное оружие. Поговаривали, что сам Помпей находится в здании сокровищницы, откуда не двинется, пока суд не объявит своей вердикт. Я словно проснулся в совершенно другом городе – в городе, где правит военный диктатор. Разве что диктаторы не разрешают открытых судов. На всём лежал отпечаток какой-то неопределённости, почти нереальности.
Впрочем, всё шло вполне гладко. Милон и Цицерон прибыли в простых закрытых носилках, так что их прибытие прошло почти незамеченным, к чему они, вернее всего, и стремились. В носилках в окружении телохранителей они оставались до самого начала суда. Троих обвинителей, которые пришли пешком в сопровождении целой армии телохранителей и секретарей, толпа встретили громкими приветствиями. Служители установили три большие урны, наполненные деревянными шарами с написанными на них именами кандидатов в судьи. Стали выбирать судей по жребию, пока не набралось восемьдесят один; в их числе, как я заметил, и Марк Катон. После выступления обвинение и защита получат право удалить по пятнадцать судей; таким образом, вердикт вынесет суд в составе пятидесяти одного человека.
Заседание суда началось с выступлений обвинителей. Вопреки прогнозам Цицерона, их речи, хоть и непривычно короткие вследствие нововведений Помпей, вовсе не производили впечатлений поспешных или скомканных. Как это зачастую бывает, обвинители поделили между собой различные аспекты случившегося согласно своим способностям и стилю. Первым речь держал Валерий Непот. Я мало что о нём знал, слышал лишь, что его сильная сторона – умение излагать факты; и его выступление это полностью подтвердило. Глубоким, звучным, исполненным драматизма голосом он рассказал о случившемся, заостряя внимание на самых ужасных моментах, что вызывало горестные и гневные выкрики публики. Под конец Непот буквально разразился горестными воплями и, казалось, лишь с превеликим трудом удерживался от того, чтобы не рвать на себе волосы. Я подумал, что из него вышел бы недурной актёр. В роли Эдипа или Аякса он имел бы шумный успех.
Сменивший Непота Марк Антоний подробно остановился на передвижениях Клодия и Милона в тот роковой день, и я ещё раз отметил продуманность действий обвинения. Антоний как нельзя лучше подходил для изложения деталей. Эмоциональный Непот, с пафосом вещающий о времени выезда и численности сопровождающих, рисковал бы выглядеть совершенно нелепо. Кто-нибудь уравновешенный вроде Помпея своей солидной, степенной манерой говорить нагнал бы на судей зевоту. Солдатская прямота и резкость Антония в сочетании с искренностью и целеустремлённостью помогли ему полностью удержать внимание судей.
Последнюю речь произнёс Аппий Клавдий, племянник покойного. Звенящим, то и дело прерывающимся от еле сдерживаемых слёз голосом он говорил о деяниях убитого и о том, что по горькой иронии судьбы дядя его встретил смерть на дороге, построенной его предком, славным Аппием Клавдием Цеком – на дороге, вдоль которой стоят гробницы столь многих его предков и родичей.
Пока обвинители произносили свои речи, я не забывал следить за реакцией Милона и Цицерона. По традиции обвиняемого сопровождают в суд его близкие; но Милон сидел один, скрестив руки на груди и глядя прямо перед собой. Конечно, его родителей давно уже нет в живых; но где же Фауста Корнелия? Почему она не рядом с мужем, чтобы поддержать его в час выпавшего ему испытания? Учитывая её репутацию, нетрудно было представить, какую пищу для шуточек её отсутствие даст приверженцам Клодия.
И о чём он думал, являясь на суд в белоснежной тоге – совершенно целой и даже нисколько не измятой? Да ещё тщательно выбритым – похоже, своего раба-парикмахера он вызвал к себе сегодня, прямо перед тем, как выйти из дому. Даже у легкомысленного Целия в своё время хватило здравого смысла – главным образом, благодаря длительным увещеваниям Цицерона – явиться на суд в явно поношенной тоге и выглядеть хотя бы слегка встрёпанным; родители же его пришли в лохмотьях и с глазами, покрасневшими и припухшими от слёз и бессонной ночи. Обычай требует от обвиняемого иметь вид жалкий и покаянный, дабы разжалобить судей. Зачастую это всего лишь пустая формальность; но её неукоснительно соблюдают, хотя бы из уважения к давней традиции. Милон, вырядившийся так, словно явился засвидетельствовать почтение вдове или же позировать художнику для портрета, проявил вопиющее неуважение не только к тем, кто будет сейчас решать его судьбу, но и к римским порядкам вообще. Возможно, именно это обстоятельство и выбило из колеи его адвоката.
Ибо Цицерона словно подменили. От вчерашней самоуверенности и предвкушения оглушительного успеха не осталось и следа. Глаза у него сделались какие-то бегающие; он суетливо перебирал свои записи, то и дело шептал что-то Тирону или сам принимался царапать по восковой табличке и заметно вздрагивал при каждом шуме толпы. Мне даже показалось, что он совершенно не слушает ораторов. Лишь однажды Цицерон встрепенулся – когда Марк Антоний заявил, что Милон, остановившийся у бовилльской харчевни якобы для того, чтобы напоить коней, на самом деле просто выгадывал время в ожидании, пока осведомитель известит его, что Клодий выехал со своей виллы. Милон, дескать, хотел быть уверенным, что непременно встретит Клодия на Аппиевой дороге. В подтверждение Антоний ссылался на то, в котором именно часу произошло убийство, и повторял раз за разом.
– Вспомните, когда именно был убит Клодий? Вспомните, когда именно был убит Клодий?
Когда он в очередной раз повторил свой вопрос, Цицерон громко произнёс:
– Когда было уже слишком поздно!
Яростный рёв толпы заглушил редкие смешки. Судьи уставились перед собой, поражённые. С лица Цицерона исчезла язвительная усмешка, Милон застыл, и даже Антоний, которому не раз доводилось сражаться с варварами, заметно побледнел и подался назад. Я оглянулся и увидел то, что видели они – воздетые кулаки, искажённые яростью лица, разинутые в неистовом крике рты. То была ярость страшнее, чем у солдат, сражающихся на поле боя или ворвавшихся в побеждённый город. Ярость солдат может насытиться кровью врагов или добычей. Здесь же было исступление, сродни религиозному экстазу. Даже солдаты Помпея дрогнули при виде ошалевшей толпы. То были люди Клодия – обездоленные, отчаявшиеся, готовые на всё, ибо им нечего было терять, и страшные в своём неистовстве.
На миг я подумал, что суд прервётся, не закончившись. Сейчас вспыхнет бунт и начнётся резня, и солдаты Помпея ничего не смогут сделать – ошалевшая толпа сметёт их вместе с остальными.
Но дальше гневных воплей и потрясание кулаками дело не пошло. Исход дня обещал клодианам большее упоение: отмщение за убитого кумира и торжество над поверженным Милоном. Солдаты принялись стучать копьями о булыжники и мечами о свои поножи, и толпа постепенно затихла. Антоний даже сумел улыбнуться.
– Если уж совсем точно, Цицерон, то в десятом часу, перед самым закатом.
Топа разразилась смехом. Лицо Цицерона было белее мела.
Речь Аппия Клавдия, исполненная восхвалений добродетелей покойного и сетований на выпавшую ему горькую судьбину, исторгла слёзы не только у публики, но даже у некоторых судей; и я про себя отметил, что это далеко не худший вариант. Пусть лучше рыдают, чем бунтуют.
Теперь настал черёд Цицерона.
Он поднялся, споткнувшись и сбросив вощаную табличку. Может, он нарочно изображает неуклюжесть, надеясь вызвать симпатию публики? Только что рыдавшая толпа засвистала и заулюлюкала. Мирон скрестил руки на груди и возвёл глаза к небу. Тирон схватился за виски; затем, опомнившись, опустил руки и придал лицу бесстрастное выражение.
Цицерон заговорил; и я изумлением заметил, что голос его дрожит – совсем как тогда, много лет назад, когда он впервые говорил в суде, защищая Секста Росция. Но с тех пор прошла целая вечность; Цицерон двигался от успеха к успеху и сделался лучшим оратором своего времени. Даже в самые тяжёлые для него дни, когда Клодий вёл против него войну, добиваясь его изгнания, сознание собственного превосходства и убеждённость в своей правоте придавали голосу Цицерона непоколебимую твёрдость. Удача или друзья могли изменить ему, голос же – никогда.
А сейчас голос изменил ему. Он дрожал и срывался едва ли не на каждом слове.
– Мудрые судьи Рима! Какой день… великий день… наступил для вас! Вам… только вам… надлежит принять судьбоносное решение. От вас одних зависит, суждено ли доблестному гражданину… самоотверженному слуге республики… прозябать в изгнании… окончить дни свои на чужбине… Суждено ли самой республике… быть погубленной… или же вы решитесь положить этому конец… приняв мудрое, мужественное, непреклонное решение… не допустить, чтобы бесчинствующие банды и дальше унижали… Рим и одного из самых преданных его слуг?
Толпа снова разразилась криками, заглушая его слова. Цицерон съёжился. Куда только подевался вечно самодовольный, самоуверенный оратор, предпочитающий бросать вызов враждебно настроенной толпе, но не выказывать перед ней своего страха? Нет, он, наверно, притворяется испуганным. Должно быть, это какой-то хитрый умысел. Иначе и быть не может.
Наконец шум стих настолько, что Цицерон смог продолжать.
– Мы с моим подзащитным вступили в политическую жизнь…
– А когда вы из неё уберётесь? – выкрикнул кто-то в толпе.
– Когда будет уже слишком поздно! – отозвались сразу несколько голосов, и слова эти были встречены взрывом смеха.
Цицерон возвысил голос.
– Мы с моим подзащитным вступили в политическую жизнь окрылённые надеждой, полагая, что наша беззаветная служба республике будет вознаграждена по заслугам. Вместо этого мы живём в постоянном страхе. Милон же всегда был особенно уязвим, ибо сознательно… сознательно и самоотверженно стремился… на передний край… я хочу сказать, в самую гущу борьбы… между истинными патриотами и врагами республики…
От криков у меня зазвенело в ушах. Милон скользнул вниз в своём кресле и обхватил руками плечи; казалось, он физически уменьшился. Лицо его было преисполнено отвращения. Тирон начал грызть ногти; всякий раз, когда Цицерон заикался, его передёргивало.
С этой минуты шум уже не утихал.
А Цицерон, похоже, окончательно растерялся. Произносимые им фразы казались разрозненными отрывками из разных речей; несколько раз он просто сбивался и возвращался к уже сказанному. Даже я, зная о намерении Цицерона убедить судей, что Клодий устроил на Милона засаду, и Милон вынужден был защищаться, не мог, как ни силился, уловить в его отрывочных фразах никакой аргументации; лица же судей выражали полнейшее недоумение.
За долгие годы мне доводилось, слушая Цицерона, испытывать самые противоречивые чувства: возмущение – его готовностью превратно истолковать всё, что угодно; восхищение, смешанное с ужасом – его невероятной способностью выстраивать логические аргументы; удивление его самоуверенностью; неохотное, вынужденное уважение за его непоколебимую верность друзьям. Мне доводилось ужасаться его откровенной, бесстыдной демагогии – ибо Цицерон никогда не брезговал сыграть на религиозных чувствах или сексуальных предубеждениях своих слушателей.
Теперь же я испытывал новое чувство, которое ещё вчера счёл бы совершенно немыслимым – мне было стыдно за Цицерона. А ведь это должен был быть его звёздный час. Когда Цицерон, рискуя навлечь на себя гнев диктатора Суллы, защищал Секста Росция, он был ещё слишком молод, чтобы в полной мере сознавать опасность, которой подвергал себя; восстановить народ против Катилины было не лишком трудным; когда же в своей речи в защиту Марка Целия он смешивал Клодию с грязью, им двигала личная месть. Защита же Милона требовала храбрости, стойкости и выдержки. Сумей Цицерон выстоять перед разъярённой толпой, смотреть им прямо в глаза и силой своего дара заставить прислушаться к его словам, это стало бы вершиной его карьеры независимо от того, выиграл бы он дело или нет. Даже в поражении он обрёл бы славу.
Но Цицерон являл собою картину человека, охваченного страхом. Он мямлил, отводил взгляд, и лицо его блестело от пота. Он был словно актёр, охваченный страхом сцены. Нет ничего позорного в том, чтобы испугаться такой толпы; но от Цицерона я этого никак не ждал. Явный страх окончательно лишил его речь какой бы то ни было убедительности. То немногое, что мне удавалось различить сквозь шум толпы, звучало бессвязно, надумано, вымучено. Если вначале мне было стыдно за Цицерона, то под конец я почти жалел его.
Милон всё больше терял терпение. Он то и дело вскакивал и принимался шептать что-то Тирону. По-моему, он готов был сказать Цицерону, чтобы тот умолк, и сам выступить экспромтом в собственную защиту; но Тирону удалось отговорить его от такого намерения.
Толпа очень скоро нашла себе забаву. Мне ни разу прежде не доводилось видеть, чтобы огромное сборище вело себя столь слаженно. Толпа стихала ровно настолько, чтобы слова Цицерона были слышны; затем, дождавшись запинки или оговорки, разражалась издевательским смехом; вновь стихала – и в тот момент, когда Цицерон, наконец, собирался высказать свой довод, испускала оглушительный рёв. И всё это слаженно, чётко, в едином порыве, словно невидимая рука подавала им знаки. На миг у меня мелькнула жуткая мысль, что дух самого Клодия повелевает ими.
Казалось, прошла целая вечность; хотя на самом деле это продолжалось даже меньше отведённых на речь защиты трёх часов. Наконец Цицерон подошёл к кульминации своей речи.