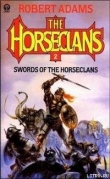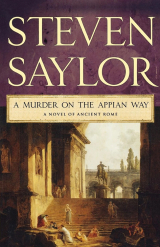
Текст книги "Убийство на Аппиевой дороге (ЛП)"
Автор книги: Стивен Сейлор
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
И однажды ясным утром мы пустились в обратный путь. Солнце пригревало уже совсем по-весеннему, так что мы даже скинули плащи. Мы рассчитывали добраться до Рима к полудню; но вскоре набежали тучи, и хлынувший ливень загнал нас в ту самую бовилльскую харчевню. Нам пришлось прождать несколько часов, пока дождь не прекратился. Лишь тогда мы смогли выехать. Солнце уже садилось, и удлиняющиеся тени предвещали скорое наступление сумерек, когда мы достигли гробниц, расположенных вдоль последнего перед въездом в Рим участка Аппиевой дороги.
Будь осторожен, минуя гробницу Базилиуса, гласит старинное напутствие. В тот раз мы были неосторожны, и это нам дорого обошлось.
Сама по себе бдительность может и не спасти; но она хотя бы даёт человеку возможность увидеть своего врага. Разгляди мы тогда своих врагов, всё пошло бы совсем по-другому. Или же наоборот, кончилось бы для нас раз и навсегда – если бы мы разглядели их слишком хорошо.
А так я всего лишь заметил нескольких оборванцев, которые сидели, привалившись к стене и надвинув капюшоны на самые глаза. По движению головы Эко я понял, что он также их заметил. Мы молча переглянулись и сочли их обычными пьяными бродяжками, между тем как они лишь ждали подходящего момента для нападения. Наверно, где-то на дороге ближе к Бовиллам дежурил их человек, который сообщил о нашем приближении. А может, они просто ждали здесь – час за часом, день за днём; сидели и ждали…
Сзади послышались быстрые шаги. Давус предостерегающе закричал. Я хотел обернуться, но что-то тяжёлое и мягкое обрушилось мне на голову – точно удар дубины, много раз обёрнутой плотной тканью. Пытаясь сохранить равновесие, я вцепился в повод, но меня рванули за левую ногу – и я вылетел из седла.
Падая, я увидел Давуса – он летел по воздуху, быстро-быстро перебирая руками и ногами, словно карабкался по невидимой садовой лестнице. Нож был у него в руке. Вероятно, обладая лучшей, чем мы с Эко, реакцией, он заметил нападающих и успел выхватить оружие, но конь его шарахнулся назад. Будь Давус более опытным наездником, он, возможно, сумел бы удержаться…
– Папа!
Я упал ничком на каменные плиты Аппиевой дороги и перекатился на спину, ища глазами Эко. Он ещё держался в седле; но люди в тёмных плащах окружили его и карабкались на его коня – точно конь и всадник были башней, на которую надо взобраться. Заметив боковым зрением надвигающуюся тёмную фигуру, я снова перекатился в сторону и наткнулся на что-то большое и тёплое. Давус. Он лежал навзничь, с закрытыми глазами, бледный и неподвижный. Правая рука всё ещё сжимала нож. Я вспомнил мёртвого Белбо на пороге своего дома…
– Папа! – снова закричал Эко. Крик перешёл в приглушённый, неразборчивый звук, точно Эко зажали рот.
Я потянулся за ножом Давуса. До чего же огромные у него пальцы! Наконец мне удалось разжать их. Ещё миг – и нож в моей руке…
Но тут на голову мне набросили мешок, торопливо дёрнули вниз. Края упали мне на плечи, затем на руки и в следующий миг почти до самой земли. Я очутился в полной темноте. Верёвка захлестнулась вокруг туловища; другая впилась в лодыжки. В нос ударил запах пыли и лука. Я закашлялся, отплёвываясь. Ещё одна верёвка обвилась вокруг моего горла, сжимаясь всё сильнее. Вот, значит, какая смерть мне суждена: быть задушенным в вонючем мешке из-под лука на Аппиевой дороге…
– Ты же горло ему перехватил, болван!
Верёвка немедленно ослабла, затем переместилась мне на челюсть, протискиваясь между губ.
– Не слишком затягивай, а то задохнётся.
– Ну и пусть, нам меньше хлопот. Скажем, от страха окочурился.
– Заткнись и делай, что велено. Что другой, надёжно связан? Порядок.
– А раб?
– Вроде мёртв.
Послышался звук удара, будто кого-то со всей силы пнули ногой.
– Да, похоже на то.
– Тогда оставь его, пусть валяется. Его всё равно забирать не приказывали. Нам ещё повезло, что конь его сбросил, а то он бы задал нам работы. Парень был крепкий. Ладно, давай телегу.
Послышался стук копыт и немилосердный скрип колёс. Меня подняли и бросили на что-то твёрдое, но податливое. Тот самый голос, что отдавал распоряжения, произнёс над самым моим ухом:
– Лежи тихо, не рыпайся. Ты мешок с луком, наваленный на телегу вместе с другими мешками, понял? Ехать нам долго, так что поудобнее устраивайся сейчас, если можешь. А потом чтоб шевельнуться не смел. Приспичит – держись или под себя ходи. И чтоб ни звука. Вздумаешь рыпнуться или голос подать…
Что-то острое упёрлось мне пониже спины. Я невольно охнул.
– Ни звука, я сказал! Не то в следующий раз я воткну его по самую рукоять. Всё, поехали.
Щёлканье кнута, крик осла. Телега тронулась. На другой дороге нас стало бы немилосердно трясти; но на гладких, хорошо пригнанных камнях Аппиевой дороги телега даже не раскачивалась. Помня угрозу наших похитителей, я лежал, не шевелясь и затаив дыхание.
Конец второй части
Часть 3. Царь
Глава 22
– Сорок, – объявил Эко. Он снова принялся считать сделанные на земляной стене отметины, проводя пальцем по каждой и шевеля губами. Дойдя до последних, он стал считать вслух. – Тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Ровно сорок дней.
– Не факт, – возразил я. – Почём ты знаешь, что нас везли сюда именно четыре дня, а не три, не пять и не шесть? Нас же всё время держали в этих проклятых мешках, в которых день было не отличить от ночи. К тому же почти не давали есть. Время тянулось, я потерял счёт дням.
– Я не потерял. Говорю тебе, от гробницы Базилиуса до этой треклятой дыры, где бы она ни находилась, нас везли четыре дня.
– С чего бы это я потерял счёт дням, а ты нет?
– Тебя же по голове ударили. Вот у тебя всё и перепуталось. Может, поначалу ты вообще был оглушён и не мог сообразить, что творится.
– У меня в голове было достаточно ясно, чтобы сообразить по шуму, что мы проезжаем через Рим. Зря мы тогда не закричали. У нас был шанс.
– Папа, сколько можно. Не было у нас шанса. Ни малейшего. Мне в бок уткнули острие ножа, да и тебе тоже. И ножи не убрали, пока мы не отъехали от городских стен.
– А ты уверен, что мы выехали именно через Родниковые ворота?
– Уверен. Я слышал…
– Да, помню. Кто-то спросил, где улица Ювелиров, и ему ответили: «Прямо, а потом направо».
– Точно. Значит, мы как раз выезжали из Родниковых ворот на Фламиниеву дорогу, а она ведёт на север.
– Через Марсово поле, – задумчиво сказал я. – Мимо палаток для голосования. Вокруг них, наверно, всё уже травой поросло.
– И как раз мимо виллы Помпея на Пинцианском холме. – Эко грустно усмехнулся. – Может, Великий смотрел на нас с балкона и думал: «От этих мешков луком шибает за милю. Странно, куда можно везти из Рима столько луку. И почему Сыщик с сыном как сквозь землю провалились?»
– Вряд ли Помпей вообще думал о нас. Разве что сам всё это и устроил. – Я принялся мерить шагами яму. – А телега ехала и ехала на северо-запад, пока я счёт дням не потерял…
– А я не потерял. Четыре дня, папа. Не больше, не меньше. Я помню точно.
– Всё равно. Надо взять эти первые четыре отметки в скобки. Мы ведь не можем ручаться…
– Я могу. Если ты опять нарисуешь скобки, я их просто сотру.
Собственно, упирался я лишь для виду. Мы спорили раз в сотый, не меньше. Просто о чём ещё говорить в яме, верх которой забран решёткой. Шёл сороковой день нашего плена – или всё-таки только тридцать седьмой? Как определить точно?
Взяв палочку, которой Эко делал отметки, я пририсовал каждой из трёх первых отметок скобки.
– Теперь считаем те, в которых сомневаться не приходится. Получается…
– А, чтоб тебя!
К хлебу, отложенному со вчерашнего дня, подбиралась крыса. Эко кинулся к ней и топнул ногой.
– Кыш отсюда!
Зверёк с писком метнулся прочь и скрылся в щели, которую мы вот уже несколько дней безуспешно пытались забить землёй.
– До чего обнаглели, проклятые твари! – Эко снова уселся. – Уже среди бела дня шныряют тут. Раньше хоть света дневного боялись.
– Ну, не сказать, чтобы тут было так уж светло. – Я поднял взгляд к решётке, сквозь которую проглядывала крыша – к счастью, дырявая, так что в яму всё же проникал свет. Яма, в которой нас держали, была вырыта в земляном полу какого-то заброшенного строения. Неровные стены были сложены из камней и утрамбованной земли. Решётка, преграждавшая нам доступ к свободе, была гораздо шире ямы, которую прикрывала – мы убедились в этом, пробуя копать во всех направлениях и неизменно натыкаясь на железные прутья. Подпрыгнув, мы могли уцепиться за решётку – это, по крайней мере, давало нам возможность каждый день упражнять руки, чтобы вконец не ослабеть. Я даже сумел просунуть голову между прутьями, но мне мало что удалось разглядеть. Строение, в котором находилась яма, смахивало на заброшенную конюшню с давно и основательно прохудившейся крышей. По ночам здесь гуляли сквозняки; но наши сторожа в избытке снабдили нас старыми свалявшимися одеялами, и мы не мёрзли.
– Пусть лучше шныряют днём, чем ночью. – Ночью в яме было темно, хоть глаз выколи. Тусклый свет звёзд сквозь дыры в соломенной крыше не в счёт; при нём всё равно ничего не разглядишь. В темноте писк и царапанье когтей сводили с ума. – Что с них взять – голодные.
– Не они одни.
– Да уж. Я слышу, как урчит у тебя в животе. Съешь-ка ты эту чёрствую краюху, пока её крысы не слопали.
Наши сторожа приносили нам хлеб по утрам; но бывало, что они пропускали день. Наученные горьким опытом, мы стали приберегать часть хлеба – на случай, если назавтра нас оставят без еды. Для крыс хлеб был неизменным предметом вожделения, хотя прежде они при дневном свете не показывались.
– А который час, как ты думаешь? – нерешительно спросил Эко.
– Полдень примерно – если судить по свету. Может, они сегодня не появятся.
Может, они вообще больше не появятся. Эта жуткая мысль не раз закрадывалась мне в голову, да и Эко, наверно, тоже; но вслух ни он, ни я этого не говорили. Что, если они попросту бросили нас здесь? Предоставленные самим себе, мы сможем без помех рыть лаз под стены конюшни; но надолго ли у нас хватит сил без еды и воды? Мы находились в руках неизвестных. Можно сказать, что о нас заботились: почти каждый день спускали в яму хлеб и воду, столько, чтобы хватало не только напиться, но и умыться; раз в несколько дней даже вытаскивали и опорожняли ведро, в которое мы с Эко справляли нужду. Но о намерениях своих сторожей мы могли только гадать. Почему они не прикончили нас и не оставили на дороге, как Давуса? Зачем увезли так далеко от Рима? А может, мы вовсе и не так далеко? Может, всё время езды, которая, по уверениям Эко, заняла четыре дня, нас возили взад-вперёд, чтобы сбить с толку? Для чего нас держат здесь? Что собираются с нами сделать? Кто, в конце концов, эти люди, которые схватили нас и держат в этой яме?
– Сорок дней! Помнишь, Бетесда…
Стоило мне произнести её имя, как у меня перехватило горло. Бетесда и Диана – что с ними? Страх за них не давал мне покоя. Я пытался не думать о них; но это было выше моих сил. Да и о чём ещё думать в вонючей яме?
– Помнишь, Бетесда рассказывала старинную еврейскую легенду, слышанную от отца – о праведном человеке и великом потопе? Тот праведник построил большую лодку и взял на него каждой твари по паре. И начался дождь, он лил сорок дней и сорок ночей подряд. Представляешь, сорок дней в лодке, теснота и вонь от всех этих животных, болтанка, а с неба льёт и льёт, и на тебе нет сухой нитки…
– Ему хотя бы голодать не пришлось, – заметил Эко, у которого в животе опять заурчало. – У него были все эти животные, которых он мог забивать и есть.
– Не знаю, не знаю. Животных он вроде взял, чтобы сохранить. Хорошо хоть, погода стоит более-менее сухая, а то бы нас затопило.
Что верно, то верно. Когда однажды ночью случилось гроза, то сквозь дыры в крыше на нас лило, как из ведра, и мы оказались в луже.
– Нам ещё повезло, что ни ты, ни я тут не заболели.
– Это как сказать, папа.
– То есть?
– Раз уж нас до сих пор не убили, значит, нас приказано оставить в живых. И если бы один из нас заболел, может, нас бы отпустили. Или хотя бы забрали из этой ямы в более приличное место.
– Может быть, хотя…
– Проклятье!
Крутнувшись на месте, Эко с маху врезал кулаком по земляной стене, уже носившей следы множества ударов. Не реже двух раз на дню, а порой и среди ночи его охватывала ярость, и он давал ей выход, колотя по стене. Я ему завидовал. Взрывы ярости приносили ему хотя бы временное облегчение. Это заточение сводило с ума. Для меня оно стало самым тяжёлым испытанием за всю жизнь. Есть в натуре римлянина что-то такое, что не может смириться с сидением взаперти. Среди других народов, которыми правят цари, заточение – обычное наказание. Это потому, что царь хочет заставить непокорных страдать. А что же может быть лучше, чем запереть врагов в клетку или бросить в яму и наслаждаться, наблюдая, как они слабеют телом и разумом; рассказывать, как страдают их близкие, слышать их мольбы и вселять в них надежду, обещая освобождение – а потом лишать её. Но в республике наказание применяется не для того, чтобы правитель мог потешить себя; оно служит средством раз и навсегда избавить общество от преступника, которого либо казнят – порой довольно жестоким способом, особенно если преступник обвиняется в кощунстве – либо позволяют выбирать между казнью и изгнанием. Заточить человека, пусть даже за самое страшное преступление, слишком жестоко даже по римским меркам.
Я вспомнил о дебатах, разгоревшихся в сенате в тот год, когда Цицерон, будучи консулом, заявил, что раскрыл заговор Катилины, имевший целью ниспровержение республики. Цицерон потребовал немедленной казни всех участников. Многие возражали, и Цезарь предложил, чтобы до полной победы над Катилиной заговорщиков поместили под стражу. Трудность состояла в отсутствии тюрем. В Риме есть несколько жалких темниц, где приговорённые к смерти преступники содержатся в ожидании казни. Долгим это ожидание не бывает, ибо приговоры приводятся в исполнение без проволочек. Но тюрем, рассчитанных на длительное содержание узников, в республике нет. Кроме того, создавать прецедент долговременного тюремного заключения было опасно. До чего мы дойдём, допуская возможность на законных основаниях лишить римского гражданина свободы передвижения? Ведь эта свобода составляет самую суть понятия гражданства, ибо именно право приходить и уходить, приезжать и уезжать, когда вздумается, и отличает свободного гражданина от раба. Если же гражданин совершает нечто столь ужасное, что ради республики его надлежит лишить первейшего права римского гражданина, он, несомненно, заслуживает изгнания или казни.
В конце концов, Цицерон сумел настоять на своём. Всех так называемых заговорщиков, в том числе отчима Марка Антония, удавили без суда. Многие из сенаторов вознегодовали, если не тогда, то позднее; их негодование, умело подстрекаемое Клодием, и привело к изгнанию Цицерона, которое длилось шестнадцать месяцев. Но даже злейшие враги Цицерона не предлагали заключить его в тюрьму, словно царедворца, который прогневал царя.
В таких размышлениях я находил отдушину, отвлекаясь, пусть ненадолго, от безысходности и неизвестности; точно так же, как Эко отводил душу, колотя по стене.
Внезапно Эко перестал молотить стену и замер. Сверху донёсся знакомый скрип двери. Ноздри мои уловили запах свежего хлеба – столь слабый, что он мог быть плодом моего воображения. В животе у Эко заурчало пуще прежнего, а мой рот наполнился слюной, точно у собаки перед кормёжкой. Как же быстро и безжалостно заточение лишает узника человеческого достоинства. Как же быстро оно доводит его до состояния скота.
Следующий день, если верить подсчётам Эко, был сорок первым днём нашего плена.
Чтобы чем-то занять себя, я стал вычислять точную дату, но интеркалярий, добавочный месяц високосного года, путал все расчёты. Я точно знал, что февраль уже кончился – нас схватили два дня спустя после ид, которые в феврале приходятся на тринадцатый день; и знал также, что и интеркалярий успел завершиться. Сейчас должно быть начало марта. Сложность заключалась в том, что количество дней в интеркалярии постоянно менялось. Его определял жрец, в зависимости от того, сколько дней требуется для восполнения годичного цикла. Сам же интеркалярий добавлялся раз в два года; причём не всегда. Бывало, что два гола проходили без добавления интеркалярия.
Выслушав мои рассуждения, Эко задумался.
– Сколько дней в интеркалярии в этом году?
– Вроде двадцать семь.
– Странно. – Эко с сомнением покачал головой. – Я думал, в интеркалярии всегда столько же дней, сколько в феврале.
– Нет.
– Но…
– В любом случае. В этом году в феврале было только двадцать четыре дня.
– Не двадцать восемь?
– Нет. В этом году в январе было, как всегда, двадцать девять дней, в феврале двадцать четыре, в интеркалярии двадцать семь, а в марте, как всегда, будет тридцать один. Да ведь списки месяцев с числом дней в них вывешивались на Форуме каждый день с начала года. Неужели ты ни разу их не видел?
– Я никогда не обращал внимания на такие пустяки. У меня и так голова забита.
– Но откуда же ты тогда знаешь, в какие дни бывают заседания сената, и на когда выпадают праздники, и когда открыты банки?
– Да очень просто. Спрашиваю Менению. Женщины всегда знают такие вещи. У них, должно быть, от природы чувство времени. Они всегда могут сказать, на каких рынках завтра будет торговля, а на каких нет; когда надо купить больше продуктов, потому что завтра праздник, и торговцы не приедут; ну, и всякое такое в том же духе.
– Значит, когда тебе нужно узнать, какое сегодня число, ты спрашиваешь у Менении?
– Ну, да.
– Даже когда пишешь важное письмо и хочешь узнать, какой сегодня день месяца?
– Да.
– И она всегда знает?
– Всегда. А разве Бетесда не знает, какой нынче день?
– Вообще-то я обычно у неё не спрашиваю.
– А ты спроси. В следующий раз, когда тебе нужно будет узнать дату, просто спроси у Бетесды и увидишь.
– Только и всего – спросить жену? Подумать только, сколько же времени я потратил впустую, следя за объявлениями на Форуме и ломая голову над подсчётами…
Мы оба засмеялись.
– Значит, – продолжал я, – если сегодня и вправду сорок первый день…
– А вот чего я не понимаю, – перебил Эко. – Как жрецы определяют, сколько дней должно быть в этом году в интеркалярии? И зачем каждый раз менять количество дней в феврале?
– Определяют по движению звёзд, фазам луны, продолжительности каждого времени года и так далее. Каждый следующий год всегда хоть чем-то, да отличается от предыдущего. Один цикл длиннее, другой короче, поэтому раз в два года приходится добавлять дополнительный месяц.
– Загвоздка в том, что не каждый раз. Иногда не добавляют.
– Бывают календари и похуже. У других народов…
– У других народов и цари есть.
– Вот уж чего в Риме больше не будет, так это царя.
– Как знать, как знать.
– Будет тебе. Наш календарь самый совершенный из всех, что есть. В нём хотя бы двенадцать месяцев.
– Не всегда. Иногда тринадцать. Как в этом году, например.
– И в каждом месяце тридцать один или двадцать девять дней.
– Кроме февраля; в нём двадцать восемь. А в этом году вообще почему-то только двадцать четыре. Ты сам сейчас сказал.
– В конце концов, дело того стоит, раз календарь более-менее соответствует смене времён года.
– Хорошее соответствие. С таким соответствием у нас праздник жатвы иной раз выпадает на зиму.
– Что правда, то правда. Я тебе больше скажу: чем дальше, тем всё запутаннее. Но думаю, без урезания февраля и введения интеркалярия было бы ещё хуже.
– Говорю тебе, в том-то и загвоздка. Жрецы почему-то объявляют о високосном месяце в самый последний момент. По идее, они за год вперёд должны знать, что в следующем году понадобится дополнительный месяц.
– Получается, что не знают.
– Говори что хочешь, папа; но по моему мнению римский календарь нуждается в серьёзном исправлении.
– Забавно, что ты это сейчас сказал. В последнем письме, которое я получил от твоего брата. Метон пишет, что Цезарь такого же мнения. Это один из его проектов – пусть не самый значительный, но Цезарь с ним носится. На досуге, в промежутках между уничтожением непокорных галлов и диктовкой мемуаров на марше, командующий любит поговорить о мерах по улучшению римского календаря.
– Изменить римский календарь? Для этого понадобится царь, никак не меньше.
Он, конечно, шутил; но мне стало не по себе.
– Никогда не говори так, Эко. Даже в шутку не говори.
– Извини, папа. Я не хотел.
– Как бы то ни было, если Цезарю удастся привести календарь в порядок, мы с тобой, по крайней мере, сможем сами определять, какой сегодня день.
– Не спрашивая своих жён?
– Самостоятельно. Итак, если прошло…
Знакомый скрип двери, донёсшийся сверху, заставил меня затаить дыхание. Сидя на земле, я испустил тихий стон и скорчился, опустив голову и обхватив живот руками.
За скрипом двери последовал скрип открываемой решётки. Вниз скользнула верёвка с привязанной корзиной, от которой пахло хлебом. Эко отвязал её и привязал пустую корзину, оставшуюся со вчерашнего дня.
Я снова издал сдавленный стон, делая вид, будто сдерживаюсь изо всех сил. Гражданину не подобает показывать слабость рабу своего врага.
– Что это с ним? – донёсся голос сверху.
– Тебе-то что? – угрюмо спросил Эко.
Я сидел с опущенной головой, хотя мне и очень хотелось взглянуть наверх, чтобы увидеть, какое лицо сделалось у человека наверху. Впрочем, скудный свет, проникающий сквозь прорехи в крыше, и не позволял толком разглядеть лица наших тюремщиков. Только неясные силуэты.
– Может, выльешь ведро? – попросил Эко.
– Я же только вчера выливал.
– Что тебе стоит?
– Ладно, – буркнул сторож и снова спустил верёвку. – Привязывай.
Эко привязал ведро. Медленно, осторожно человек сторож поднял его, отвязал и шагнул к выходу. Я слышал, как он пробормотал.
– Это ещё что?
Затем наступила пауза. Я представил, как стиснув зубы и зажав нос, он с отвращением всматривается в содержимое ведра. Стало светлее – это наш сторож распахнул дверь. До нас донеслись отдалённый голоса – человек переговаривался со своим товарищем. Потом раздался звук выплеснутой из ведра жидкости.
Чуть погодя сторож вернулся и спустил нам на верёвке пустое ведро.
– С ним всё в порядке? – спросил он Эко, кивая на меня.
Я снова застонал.
– Уйди, – мрачно сказал Эко.
Звук удаляющихся шагов. Стук захлопнувшейся двери. Выждав немного на всякий случай, я тихонько спросил у Эко.
– Как по-твоему, они клюнули?
– Думаю, да. Во всяком случае, я бы клюнул.
Мы оба поглядели на едва заметный холмик, скрывавший тело крысы, которую Эко убил нынче под утро. Её-то кровь мы и добавили в ведро, служившее нам отхожим местом.
– Думаешь, нам удастся поймать ещё одну? – спросил я.
– Даже средь бела дня, – уверил меня Эко.
Глава 23
Я открыл глаза.
Ночь. Ни зги не видно. Темно, холодно, сыро и затхло. Где я?
Ах, да. В яме. В яме, где мы с Эко находимся уже сорок с чем-то дней. Где один день похож на другой. Где ничто никогда не меняется. Вернее, не менялось – до сих пор.
Что-то не так. Здесь кто-то есть. Кто-то ещё, кроме нас с Эко. Я чувствовал его присутствие – или их присутствие? Оно-то и разбудило меня. Может, то был звук; может, чьё-то дыхание, ветерок от движения, чужой запах…
Точно, запах. Запах чеснока, примешавшийся к ставшей уже привычной ночной сырости, запаху земли и вони от отхожего ведра. Застарелый, въевшийся намертво. Дыхание было насыщено им; он исходил из пор кожи.
Меня бросило в жар. Кто ест чеснок? Гладиаторы. Считается, что чеснок придаёт им силу. Ага, такую, что одно их дыхание сбивает противника с ног. Старая расхожая хохма.
По лбу заструился пот. Я отёр его рукавом туники – грязной, засаленной, вонючей туники, которую носил уже сорок с лишним дней. Теперь я отчётливо слышал чужое дыхание – громкое; громче даже, чем стук моего сердца. Кто здесь? И как они сумели спуститься в яму неслышно? Между прутьями решётки человеку ни за что не пролезть. Нас с Эко спустили сюда через люк, который потом больше не открывали. Его крышку удерживает тяжёлая цепь; она непременно загремела бы и разбудила бы нас. Да и заржавленные петли обязательно бы заскрипели. Так как же они сюда пробрались?
И тут я понял, как. Где-то глубине полыхнуло, и я увидел расщелину в стене – сама земля разверзлась, чтобы впустить в яму наших незваных гостей. В красноватом свете, пробивающемся из расщелины, маячили два силуэта, громадных и громоздких, делающихся всё больше по мере того, как они приближались. Они, должно быть, явились сюда из самого подземного царства Плутона…
Эко беспокойно зашевелился и поднял голову.
– Папа? Что…
Я торопливо коснулся его губ, призывая к молчанию. Слишком поздно. Те двое нас уже заметили. Свет из расщелины залил всю яму, осветил окровавленные мечи в их руках и их отвратительные, уродливые лица. Как могут выглядеть те, кто убивал десятками, сотнями, без колебаний и жалости, кто упивался собственной жестокостью, кто наслаждался тем, что лишал других жизни? Только как Евдам и Биррия. Конечно же, это они. Вот они стоят перед нами, смотрят с дурацкими улыбками, делающими их почти смешными. Какая злая шутка богов, если две эти мерзкие рожи будут последним, что мне суждено увидеть в этом мире…
Или же…
Нет, не смей даже думать об этом! Но почему? Пока ты жив, есть надежда. Цепляйся за неё до самого последнего мига, не упускай, вцепись намертво. Боги более пятидесяти лет развлекались, наблюдая за мелкими перипетиями твоей жизни – так почему бы им лишать себя развлечения именно сейчас? Подумай, Гордиан: разве может смертный знать, кто ему друзья и кто враги? Возможно – возможно – Евдам и Биррия явились сюда не убить вас, а спасти? Да, спасти – освободить из этой ненавистной ямы?
Гордиан! Пусть ты безоружен, но у тебя осталась твоя гордость. Встань. Выпрямись во весь рост, не смей сгибаться. Стой твёрдо, помни: ты свободнорождённый римский гражданин, а они лишь чьи-то рабы. Едва заметный кивок – в знак того, что ты их заметил. На мечи не смотри. Гляди им прямо в глаза. Не вздумай показать, что ты напуган. Не важно, что они выше тебя на целую голову – смотри на них сверху вниз. Не важно, что их провонявшее чесноком дыхание забивает тебе дух – не отворачивайся. Не важно, что блеск их мечей заставляет тебя холодеть от страха – не дрогни ни единым мускулом. Что же ты дрожишь, как осенний лист, Гордиан?
Что чувствуешь, когда тебе отрубают голову?
– Папа! Проснись же!
Я открыл глаза.
В яму пробивается утренний свет. Эко, склонившись надо мной, осторожно трясёт меня за плечо.
– Эко? Что случилось?
– Похоже, тебе приснилось что-то нехорошее. Ты всё время ворочался и стонал, потом как будто успокоился, а потом опять застонал, да так страшно, что я решил тебя разбудить.
– Да, приснилось опять.
– Снова Евдам и Биррия?
– Да. – Я сглотнул и почувствовал, что во рту совсем пересохло. – А вода у нас осталась?
– Немного. Вот. – Он зачерпнул ладонью из ведра и поднёс к моим губам.
Я сделал жадный глоток.
– Иногда мне даже жаль, что это только сон. Пусть бы сюда уже и правда кто-то явился и всё бы уже кончилось, так или этак.
– Не говори так, папа. Встань, разомнись немного – и тебе сразу станет лучше.
Так начался очередной день нашего плена – сорок второй согласно подсчётам Эко; пятые день месяца марта, девятый день до мартовских ид года, когда в республике не было консулов.
– Как ты думаешь, папа, что сейчас делается в Риме? – грустно спросил Эко.
Я прочистил горло.
– Как знать? На Альбе болтали разное. Некоторые слухи были более-менее правдоподобны; некоторые – совершенно невероятны. Я, к примеру, в жизни не поверю, чтобы Милон покончил с собой. Он для этого слишком упрям. Может, он и угодил в ловушку, из которой ему не выбраться, как и его кротонскому тёзке; но Милон не сдастся. Он будет сражаться до последнего, отбиваясь и изворачиваясь. А в остальном – кто знает? За время, что мы здесь торчим, могло случиться всё что угодно; сорок два дня – это целая вечность!
– Тому богу евреев хватило, чтобы потопить мир, – угрюмо заметил Эко.
– А людям вполне могло хватить, чтобы потопить республику в крови. Но я, пожалуй, поставил бы на порядок против хаоса – во всяком случае, сейчас. Помпей намеревался добиваться разрешения сената на введение в город армии для подавления беспорядков, и я готов спорить, что он своего добился. А армия во главе с Помпеем – это силища, с которой не шутят.
Но Эко был настроен скептически.
– Против варваров в чистом поле – да, пожалуй. Но не против городского сброда, швыряющего камни в узких переулках.
– Я как-то плохо представляю себе, чтобы у сброда хватило духу схватиться с солдатами Помпея.
– Солдаты не могут быть повсюду одновременно. В отличие от беспорядков и поджогов.
– Да, верно. Беспорядки могут продолжаться и при армии Помпея, но лишь незначительные. Во всяком случае, на Форуме будет порядок.
– Настолько, чтобы можно было наконец провести выборы?
Я покачал головой.
– Пока не разберутся с убийством Клодия, о выборах и речи быть не может. Только представь, что выборы состоялись, и Милон победил. В принципе, такое возможно – сторонников у него по-прежнему хватает. Но тогда непременно вспыхнут беспорядки, и может дойти до того, что клодиане в открытую схватятся с армией Помпея. А это уже гражданская война. Сенат на такое не пойдёт.
– Но кто же будет управлять республикой? Как ты думаешь, сенат может провозгласить Помпея диктатором?
– Ни в коем случае. Есть ведь ещё и Цезарь, и у него тоже армия. Если Помпея провозгласят диктатором, Цезарь наверняка пойдёт со своим войском на Рим. Ничего другого ему просто не останется. – При мысли о том, что Метон, мой сын, окажется вовлечён в пучину гражданской войны, у меня холод пошёл по коже.
– Цезарь никогда не пойдёт на Рим.
– Звучит дико, что и говорить; но кто пару месяцев назад мог представить себе, что курию сожгут средь бела дня?
Обо всём этом мы говорили уже много раз. Случалось, что рассуждал здраво Эко; а сомневался во всём я. Не гадать, что происходит в Риме, мы не могли; точно так же, как не могли этого знать.
– Вообще-то я говорил о другом, – помолчав, сказал Эко.
– А о чём?
– Когда я спросил, что, по-твоему, сейчас делается в Риме, я имел в виду не беспорядки и не выборы. Я спрашивал…
– Я знаю, о чём ты прашивал. Я с самого начала понял по голосу.
– Тогда почему ты заговорил о политике и выборах? Неужели тебе не хочется поговорить, как там наши?
– Когда я о них думаю, иногда мне становится легче. А иногда – наоборот, страшно за них. Так, что внутри всё холодеет.
– Понимаю. Я тоже за них боюсь.
– Столько времени от нас никаких вестей. Они, должно быть, думают, что нас уже нет в живых. Только представить, что Бетесда… – В горле и у меня встал ком.