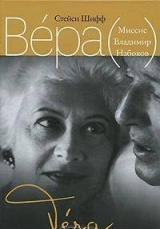
Текст книги "Вера (Миссис Владимир Набоков)"
Автор книги: Стейси Шифф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
. Оценить имущество было достаточно сложно из-за бумажных гор, среди которых Вера жила; она буквально умоляла Айзмана не заставлять ее подробно перечислять все имущество. «Мы живем здесь уже почти 17 лет в весьма небольших апартаментах, где каждый ящик стола, каждый чемодан и масса коробок забиты бумагами, которые по большей части совершенно никому не нужны и не истреблены по единственной причине: все вытаскивать и сортировать просто выше моих сил». Большая часть, добавляла Вера, особой ценности не представляет, поскольку написана ею.
На досуге Вера читала книги о мастерах прошлого, в основном о Вермере и Жорже де Латуре; это было любимейшее ее времяпровождение. За письменным столом она сидела не менее чем по шести часов в день, как всегда все достаточно бесстрастно излагая на бумаге. Все же под твердой отлакированной скорлупой можно уловить искру чувства. Вера благодарит Лу за то, что та приехала издалека в Монтрё навестить ее весной 1978 года; Вера глубоко тронута предложениями издателей заехать к ней. Кажется, ее даже удивляет, что кто-то продолжает писать ей из далекого прошлого. Как будто, живя с мыслью, что друзья ее вот-вот позабудут, она радовалась тому, что все оказывалось совсем не так. (Со своей стороны, друзья, например Кристиансены, колеблются – писать ли, опасаясь брать на себя такую смелость, и потому их так изумляют Верины сердечные ответы. Почему-то никто не ожидает, что Вере приятно получать письма, а ведь это ей и в самом деле было приятно.) Елене Левин слышалась нотка мольбы в ее письмах. «Не забывайте меня!» – взывает Вера к Аппелям. Она, как всегда, выражается прямо. В 1983 году Вера писала Аппелю: «Я все-таки надеюсь, что Вы еще приедете в Европу до того, как меня не станет».
Вера без устали твердила друзьям, что работа дисциплинирует ум, здоровье, радует ее. В то же время продолжается ее тихое самобичевание. На восемьдесят втором году жизни, все еще способная целыми днями сидеть за письменным столом (теперь она наловчилась писать в своем кресле), Вера по-прежнему уверяла, что не обладает ни малейшим эпистолярным талантом. Сильвия Беркмен, причем не она единственная, говорила Вере: почему бы ей не написать книгу о Владимире; Вера отвечала, что и русский, и английский у нее не достаточно для этого хороши. Она не собирается сделаться вдовой-литераторшей, как Фанни Стивенсон или Анна Достоевская, и даже не вдовой-лжелитераторшей, как Флоренс Харди, под чьим именем вышла так называемая биография, которую ее муж сам диктовал ей, своей жене, перед смертью. Вера не гонится за тем, чтоб сказать последнее слово. При том, что Вера восхищалась воспоминаниями Надежды Мандельштам о своей жизни с поэтом (что во многом, с учетом совсем иных условий, перекликалось и с Вериной жизнью), она не изъявляла желания следовать ее примеру. Как не входила и ни в какие союзы вдов. Никакого слета тигриц; никаких консультаций по издательским делам, что случались между графиней Толстой и Анной Достоевской. Вера, не исключено, прочла книгу «Русские вдовы», выпущенную Карлом Проффером в 1987 году и посвященную женщинам, поддерживавшим, пестовавшим и дополнявшим собой литературный процесс, но если и увидела что-либо знакомое в тексте или в подборе главных героинь, хранительниц культуры, то никогда об этом не обмолвилась. Она всегда держалась стороной, утверждая, как и ее муж, главенство индивидуальности. Ведь именно служению ему отдала Вера пятьдесят лет своей жизни. Труднее понять ее застенчивость, которую столько лет все принимали за высокомерие. Ее заваливали просьбами о встречах, интервью, мнениями те, кто хотел поговорить о литературе или просто поговорить: «Поскольку не могут пообщаться с В., просят разрешения пообщаться со мной ( faute de mieux [343]
)». Причем невзирая на то, добавляет Вера, что она всю жизнь отбивалась от новых знакомств.
Конец 1970-х годов в основном ознаменовался для нее возвращением к переводам. Отредактировав «Память, говори» на немецком и «Смотри на арлекинов!» на французском, стихи мужа на итальянском, Вера взялась переводить на русский «Бледный огонь». Это произошло для нее случайно, когда она согласилась просмотреть перевод молодого поэта, рекомендованного Профферами. Задача оказалась не из легких – Уильям Бакли считал, что такой перевод невозможен, хотя в отношении Веры уже давно подозревал, что для нее «ничего невозможного нет», – но гораздо трудней оказались стычки с рекомендованным переводчиком. К своему ужасу, Вера обнаружила, что тот совершенно не чувствует стиль Владимира, плохо знает английский, да и с русским, особенно с литературным, у него проблемы. После нескольких таких обсуждений Вера отложила в сторону его перевод и принялась переводить роман сама с начала и до конца и закончила только в 1982 году. Потратив несколько лет на эту работу объемом в каких-нибудь семьдесят страниц, она особой радости в результате не испытала. Сравнивая свой труд с оригиналом, Вера впадала в жесточайшее уныние. «Уж хотя бы точно по смыслу!» – успокаивала она себя.
Весьма показательно то, как утверждался этот перевод. Сначала у Веры не было намерения ставить при издании свое имя. Однако впоследствии, учитывая громадные временные затраты, Вера согласилась вставить строкой, что перевод сделан под ее редакцией. Когда же русский «Бледный огонь» по недосмотру вышел без указания ее имени и вклада, она почувствовала для себя делом чести утвердиться. Раньше она, чтобы не оскорбить самолюбие молодого поэта, называла это совместным участием в переводе; теперь ее собственное самолюбие оказалось больно уязвлено. Прежде всего Вера пожалела о том, что оказалась так «по-глупому щедра». Потратив годы на исправление чужих «безграмотностей и ошибок», теперь она настаивала на собственном авторстве. Казалось, этот шаг предпринят сгоряча. «Теперь я решила стать беспощадной!» – уведомляет она Профферов. И оставалась этому девизу верна, как впоследствии обнаружил, столкнувшись с этим, один библиограф. Ему было строжайше наказано убрать всяческие упоминания о вышеназванном поэте. «Для меня это очень важно!» – подчеркивала Вера.
Но далеко не только «Бледный огонь» поглощал ее помыслы. Теперь даже в большей степени, чем прежде, Вера представляла интересы мужа, была чутким посредником между божественной материей и ее земными интерпретаторами. Уже давно она вменила себе в обязанность направлять переводчиков, художников-оформителей и правовые службы на путь истинный. Теперь она делала это с еще большим рвением. Допуская, что, возможно, чрезмерно придирчива, Вера не умела поступать иначе. Лишь сам Владимир мог бы дать санкцию в спорной ситуации, но его уже не было. Сомнительно, чтобы он разрешил публиковать свои стихи в сборнике рядом с мистическими прославлениями Ленина. А раз сомнительно, поясняла Вера редактору сборника, то ее правило – лучше воздержаться. Она извинялась перед редактором за излишнюю въедливость. «Вам может показаться, что я слишком вдаюсь в детали, – писала она, – однако стиль – это и есть детали». В. Н. считал, что один лишь стиль уже может составить биографию писателя; только в этом смысле Вера и творила историю своего мужа. Готовя к публикации его корнеллские лекции, она взяла себе за правило случай, о котором рассказывал отец и который явно запал ей в душу: некий римский писатель завещал, чтобы после его смерти к написанному им не смели ничего добавлять. С другой стороны, его наследникам разрешалось уничтожать все, что им заблагорассудится. Вера, как всегда, оставалась очень чуткой к опечатке, к небрежности, к неточности, к уродованию фразы, к утрате логики. Ничто не укрывалось от ее проницательного взгляда, как обнаружил и Джон Апдайк, направивший ей текст своего вступления к первому тому лекций. Оно было возвращено ему с тремя страницами язвительных Вериных замечаний. (В семнадцатом пункте у нее значилось: «Личная просьба: пожалуйста, не упоминайте в Вашей статье меня!») «Какой у нее изумительно ясный ум и стиль!» – восклицал Апдайк, правя написанное.
Со всей прямотой и дотошностью Вера трудилась ради сохранения поэтичности и тайны – на ее взгляд, двух основных черт – в творчестве мужа. Возмущений накапливалось много, как и всегда, только теперь Вера справлялась с этим в одиночку или с помощью Дмитрия, который часть года проводил в Монтрё и с середины 1970-х годов переводил книги отца на итальянский язык. Как мог английский художник сделать для «Защиты Лужина» такую мерзкую, псевдомодерновую обложку! Пожалуй, этот молодой русский писатель и многообещающ, но лучше бы он так явно не подражал Набокову. В письмах она воевала столь же яростно, столь же вдохновенно, как и полвека назад; пусть по-настоящему Зиной Мерц Вера не была, но она явно унаследовала от нее непримиримую прямолинейность. «Никто, кроме Вас – ни здешние студенты и коллеги, ни набоковские исследователи из разных стран, – не отбивает так мощно подачу критиков», – писал Бойд, благодаря Веру за комментарий на своих страницах. Когда Георгий Гессен опубликовал свои мемуары, Вера пишет ему, что знала всегда, как глубоко он привязан к Владимиру, и ее очень тронуло, что теперь об этом узнают все. Но то, что Гессен ужасен как писатель, оказалось для нее сюрпризом. В 1979 году Гарри Левин опубликовал свою рецензию на «Переписку Набокова с Уилсоном» в «Нью-Йорк ревью оф букс». «Я не собиралась ничего говорить про статью Гарри о „Переписке“, но честность для меня превыше всего, потому, возможно, лучше все-таки сказать, что эта статья меня очень огорчила», – писала Вера Елене. Лишь через полтора года она решилась выразить свое недовольство.
В довершение всех бед в 1979 году в Париже вышла книга Шаховской «В поисках Набокова». Вера намеревалась не обращать внимания на личные выпады, которые расценивала как явный антисемитизм, и даже на заявления, что она соавторствовала с мужем в создании его книг. Но снести обвинений в адрес Владимира она не смогла. Как представлялось Вере, Шаховская – которую она называла по фамилии в замужестве «Малевич» – преследовала две цели: «1) доказать, что я ненавижу (чистый вымысел с ее стороны) Россию и русских; 2) что я отторгаю В. Н. от а) России и б) от христианства и Бога (а также Малевичей)» [344]
. Это Вера могла еще простить. Но поскольку мадам Малевич явно преследовала и вторую цель – «навязать ему (В. Н.) педофилию и намекать, что Набоков пошел на сделку если не с самим дьяволом, то кое с кем из его свиты», – Вера решила действовать законным путем [345]
. (Дело осложнялось тем, что у обеих был общий адвокат. Люба Ширман, которая так гениально избавила Набоковых от Жиродиа, была также и близкой подругой Шаховской.) Встретившись с Верой и Дмитрием в Монтрё, Ширман просила Веру не возбуждать дела; иск лишь привлечет к книге публичный интерес. Любе, вероятно, было нелегко убедить Веру, но Вера все-таки уступила. Проблема снова возникла спустя два года, когда книга Шаховской вышла в немецком издательстве «Ульштейн». Эту публикацию Вера восприняла болезненней. Она сочла, что если русский читатель сообразит, что к чему, то немецкий – нет. Ширман не решалась возбудить дело, Ледиг Ровольт также советовал Вере отступиться. По его мнению, книга скучна и никто не станет ее читать. В целом друзья согласились, что биография эта – злобная клевета, но кое-кому это далось нелегко. Как можно не замечать всю низость, всю гнусность, всю пошлость этой книги, упрекала Вера парижскую подругу. И осторожно задала вопрос Наталье Набоковой, которая с такой теплотой отнеслась к ней в Америке: разделяет ли она взгляды своей сестры? «Я всегда буду тебя любить, – писала ей женщина, понимавшая, что человека можно судить не только по тому, кто его друг, но и по тому, кто его враг, – но больше писать тебе не буду». На этом их переписка закончилась.
Все эти воинственные возгласы исходили от женщины, которая утверждала, будто она то ли слишком ленива, то ли слишком устала, чтобы как следует заниматься своей работой. Вера страдала болезнью Паркинсона; если возникала необходимость принимать посетителей в момент усиления тремора, она прятала руки под шалью. Она отклоняла приглашения на званый ужин; она не смела взять чашку чая. После 1980 года Вера уже не спускалась в ресторан отеля, убеждая гостей, что просто не может так долго сидеть за столом. Никогда в качестве предлога она не ссылалась на плохое самочувствие, какие бы препятствия оно ей ни чинило. Попыталась воспользоваться магнитофоном для редактирования своего перевода «Бледного огня», но пальцы плохо повиновались ей, оказалось трудно нажимать кнопки. К тому же слух ослабел настолько, что магнитофонную запись перевода Вера почти не воспринимала. Правая рука по-прежнему оставалась нерабочей. Но сохранялась колоссальная разница между ее внешним видом и манерой изъясняться. Однажды Вера получила из немецкой авторской гильдии, организации правого толка, обращение на шестнадцати страницах. Вера попросила Ледига Ровольта вмешаться. «Я терпеть не могу всякие организации. Отношусь с подозрением к разным анкетам, ненавижу пустую бумажную возню – словом, не желаю иметь ничего общего с этой гильдией!» Трудно поверить, что эти слова написаны слабой и тщедушной семидесятивосьмилетней старушкой, которая сама себя признает калекой. Ученый из Лозанны, работавший с Верой над сборником поэзии В. H., был потрясен контрастом «между ее физической немощью, с одной стороны, и, с другой – ее твердым ощущением цели, сильной волей и потрясающей ясностью ума и интеллекта».
Для исследователей Вера была что золотая жила, поскольку помнила не только то, что было в книгах, но и то, чего там больше нет. Для Веры, как и для Зины, сочетания слов восходили к развалинам античного портика, которые «еще долго стояли на золотом горизонте, не желая исчезнуть». Как-то Вера изумила одного ученого, выудив среди рукописей изначальный вариант, эдакий перл выразительности, избежавший ее окончательной правки. Она была настоящая ходячая энциклопедия творчества Набокова. Она безошибочно опознавала коллег по Корнеллу в «Пнине»; она могла определить подлинность текста; она могла позволить себе ту свободу, на какую рядовой прилежный переводчик не решился бы. Бойд показывал Вере анонимную литературную пародию 1940 года из одной выходящей в Нью-Йорке русской газеты. Не Набоков ли это писал? «Возможно», – кивнула Вера, беря из рук у него газету. «Несомненно!» – произнесла она, пробежав несколько абзацев. «Совершенно точно!» – заключила она со смехом, дочитав колонку. Как-то у нее спросили, случайно или нет возникает определенное впечатление от некой фразы из «Приглашения на казнь». «У мужа никогда не бывало случайностей!» – последовал ответ. Если бы Вера не занималась архивами и редактурой, заметил кто-то из друзей, она была бы крупнейшим набоковедом. Дмитрий считал мать энциклопедически образованным человеком.
Такое всезнание дорого ей обходилось; как всякий оракул, Вера внушала людям страх. Даже ближайшие родственники побаивались ее, не говоря уж о большинстве набоковских издателей. Она заправляла делами с милой улыбкой, но держала дистанцию. Один исследователь из Лозанны быстро установил, что Вера знает наизусть все стихи мужа начиная с 1921 года. Едва один из журналистов в ее присутствии упомянул имя Пола Баулза, Вера тут же продемонстрировала, что знает и понимает произведения Баулза лучше его. Она неизменно оставалась несокрушимой в своих суждениях. На вопрос своей парижской подруги, которую как-то раз упрекнула за неверное отношение к книге Шаховской, почему нет новых достойных русских поэтов и прозаиков, Вера писала в ответ, что они существуют. Проблема в том, что большинство безграмотны. Во всеуслышание она горько сожалела только об одном: что вместо внуков у нее молодые литераторы.
5
26 сентября 1980 года Дмитрий, позвонив матери, сообщил, что не сможет, как ожидалось, приехать домой к обеду. Попал в небольшую аварию. Что было явной недооценкой случившегося, и об этом Вера проведала в тот же день. На шоссе между Монтрё и Лозанной Дмитрий на своем «феррари» потерял управление, машину занесло, ударив об ограничительный рельс, воспламенился бак. Когда Дмитрий выбирался из горящего автомобиля, огнем ему охватило спину, руки, волосы. Почти сразу после разговора с матерью в ту пятницу он впал в коматозное состояние. Дмитрий получил ожоги третьей степени, обгорело 40 процентов кожи. Кроме того, были повреждены шейные позвонки. Лишь через три с половиной месяца и после шести пересадок кожи Вера смогла наконец повидаться с сыном. Когда она в своем инвалидном кресле навестила его в ожоговом отделении больницы, их разделяла стеклянная стенка бокса. Дмитрий пригасил в палате свет. Он помнит ее взгляд; мать разглядывала его, «будто он диковинное животное». Воспользовавшись сдержанным сообщением Дмитрия, она писала семейному бухгалтеру, что сын немного нездоров, но при этом все ее помыслы были устремлены на его выздоровление. Те, кто повидал ее в то время, за внешней броней не могли не видеть всю ее немощность. От переживаний Вера едва не лишилась рассудка. Но на тоне писем это ничуть не отразилось. «Машина сгорела почти дотла», – сообщала она одной родственнице. «Дмитрий счастливо вернулся с того берега Стикса», – уверяла она другого родственника. Она извинялась перед Карлом Проффером, что не в силах заниматься отделкой перевода «Пнина». В перерывах между работой над завершающими страницами рукописи «Бледного огня» и своими звонками и поездками в больницу она была чудовищно занята.
В реанимации и затем на долечивании Дмитрий провел целых десять месяцев. Сразу после того как самая страшная опасность миновала, кстати подоспел Мартин Эмис, заручившись Вериным согласием дать интервью для лондонского «Обсервера» о ее жизни с В. Н. Эмис отметил удивительную приветливость и юмор миссис Набоков, при том, что сам был буквально «скован пиететом» по отношению к ней. Дмитрий, по-прежнему обитавший в Лозанне, перебрался к матери; его обгоревшие руки производили тягостное впечатление. Глядя на них, Вера озабоченно интересовалась, когда же совсем исчезнет это «багровое кружево». И пытала Эмиса, достаточно ли осмотрительно тот ездит. В ту пору в Монтрё наведались Стивен и Мари-Люс Паркеры. Едва Дмитрий вышел из комнаты, Вера в какой-то момент сказала им: «Смотрите, чтоб ваши дети никогда так не обгорали!»
Одного она наверняка не обещала богам в случае полного выздоровления Дмитрия – быть более снисходительной. Написанное Эмисом было отредактировано с той же требовательностью, как и все прочее. Веру покоробило, когда Эмис решил повторить брошенное ею о В. H., что он «был в молодости очень хорош собой»; она решительно отвергала, что произносила что-либо подобное. (Но Эмис эти слова явственно помнил, фраза из текста убрана не была.) Первый вариант предисловия Саймона Карлинского к набоковским «Лекциям по русской литературе» Вера получила в период выздоровления Дмитрия; несмотря на то что статья была пронизана восхищением перед В. H., Вера сочла ее неприемлемой на том основании, что подход Карлинского к литературе не соответствует взглядам ее мужа. Ученый-эрудит на седьмом десятке, Карлинский был вдумчивым читателем Набокова уже с двенадцати лет. Он горячо выступил в собственную защиту: Вера, должно быть, превратно истолковала написанное, он никак не намеревался принизить достоинства Набокова. Вера осталась глуха и равнодушна к его объяснениям. Трудно выразить словами, пишет она Карлинскому, как огорчил ее его опус. (Более всего ее не удовлетворяло то, что Карлинский настойчиво пытался вписать творчество Набокова в общий исторический контекст, к которому, как считала Вера, ее муж не тяготел и не принадлежал.) Для нее по-прежнему много значили маленькие победы в словесных баталиях. Редактору всего тома, который согласился отклонить статью Карлинского, она писала с несвойственным ей пылом: «Вы не издатель, а чистый ангел!»
Большую часть последнего в ее жизни десятилетия Вера посвятила высокому искусству идеализации прошлого, деятельности, которая, как считали некоторые, пролегала на грани цензуры. В конце 1970-х годов Карлинский редактировал переписку Набокова с Уилсоном; он утверждает, что между двумя вдовами не возникало осложнений, если не считать того, что миссис Уилсон стремилась все включить, а Вера стремилась все изъять. Исследователю, интересовавшемуся невестами Набокова, не возбранялось публиковать свои изыскания – лишь бы он не упоминал Веру. Она настаивала не на поправках во взгляде на нее, на их брак, на ее прошлое, а на том, чтобы все это вообще убрать. Клялась, что в жизни не говорила ничего Бойду из того, что тот ей приписывает. Ее признания были микроскопическими. Эмис интересовался необычностью того, что книги Набокова посвящались только Вере. «Что я могу сказать, – отвечала Вера. – У нас были весьма своеобразные отношения». – «Вы совершенно не похожи характерами с мужем», – не унимался Бойд. «Верно, но на В. Н. никто не похож!» – парировала Вера. «Вы писали когда-нибудь прозу сами?» – спрашивали ее. Ответ был краток: «Нет!» – «Что больше всего из произведений В. Н. вы любите?» – «Невозможно сказать». В связи с выходом в свет в Милане «Избранных писем» Вера согласилась побеседовать с итальянским журналистом, но только в присутствии Дмитрия. Она оказалась самым неподатливым объектом для интервьюера. «Мадам Набоков, говорят, вы – страстная любительница конного спорта, что вы стреляете из пистолета, что вы занимались воздушной акробатикой?» – спрашивал журналист. «В моей жизни было много всякого интересного», – отвечала Вера, ловко уходя от поставленных вопросов.
Пожалуй, нельзя безоговорочно утверждать, что после смерти Владимира Вера более стала самой собой; она никогда себе не изменяла. Хотя теперь она уже говорила за себя и своим голосом. Кончились отговорки типа: Владимир хочет, чтоб я написала; просит меня написать; настаивает, чтобы я выразила. Какое-то время Вера пользовалась как средством грозного воздействия оборотами: муж бы согласился, или возмутился, или поощрил; она понимала не хуже других, что спорить с памятью – нелегкий труд. Но со временем обнаружила: если сама миссис Владимир Набоков выскажет обиду или недовольство, окружающие воспринимают это с почтением, если не с трепетом. По наблюдению Карлинского, к Вере после смерти В. Н. окружающие так или иначе стали относиться с большим вниманием. Кроме того, ее неброский юмор был очевиден, по крайней мере для восприимчивого уха. Пожалуй, лучше всего выразился на этот счет Геннадий Барабтарло, чей русский перевод «Пнина» просматривала Вера: «Достаточно сказать, что она обладала удивительным чувством юмора, который далеко не все воспринимали». Он находил Веру восхитительно проказливой особой. «Наконец-то вы мне переплатили», – писала Вера Беверли Лу, отдавая себе полный отчет в обратном. В другом письме выражала надежду, что ненормальный полиграфист, выявленный Карлом Проффером, ни в чем не уступит нормальному. Своего племянника Михаэля Массальского она называла «кометой Галлея» за его редкие появления, о которых объявлялось весьма заблаговременно. (К племяннику Вера относилась тепло, несмотря на сложные отношения с его матерью.) Поблагодарив директора «Паласа» за орхидеи, присланные ей к семидесятисемилетию, она уведомила его, что отныне будет вести своим дням рождения обратный счет. Она пошла навстречу назойливому журналисту вопреки внутренней нерасположенности. Бойду на его расспросы рассказала про одно семейство абсолютно все подробности, в том числе и про их светло-коричневого пуделя Долли, «простите, не помню отчества».
Все трудней и трудней давалось Вере общение. Она неважно слышала, считая, что ей плохо излагают. После длительной паузы мог последовать вопрос, удостоверяя, что она либо плохо слышит, либо недопонимает, о чем речь. И вдруг стремительно мог вырваться точный, часто весьма умный ответ, сопровождавшийся сияющей улыбкой. Хотя печатать на машинке ей не рекомендовали, Вера все-таки садилась за нее, когда не оказывалось рядом мадам Каллье, а было необходимо что-то срочно напечатать. Частенько Вера с грустью вспоминала, как быстро печатала в былые дни; диктовать она не любила. К тому же мадам Каллье часто оказывалась завалена делами. В 1986 году, когда Вера получила рукопись книги Эндрю Филда «Жизнь и творчество Владимира Набокова», она старалась внести как можно больше исправлений в текст, который считала напичканным ошибками, но ей помешали обстоятельства; Каллье была занята налоговыми счетами, а агентства по найму, к которым Вера обратилась, поставляли «молодых девиц, не знавших ни грамматики, ни орфографии, ни даже половины употребляемых мною слов». А женщина, нанятая считывать верстку «Пнина», переведенного Барабтарло, «пристает с массой идиотских предложений». Вера стала плохо слышать и по телефону. Ее обычно отрывистые и сжатые письма и вовсе стали короткими, как телексы.
В конце 1984 года пульс у нее начал стремительно падать; Дмитрий вызвал «скорую», и Веру отвезли в лозаннскую больницу, где ей подключили электрокардиостимулятор. Вера с удовольствием рассказывала друзьям, что теперь ее сердце присоединили к батарейке и оно тикает, как маленькие электрические часики. Это обстоятельство не сломило ее боевой дух. В 1985 году Вера пишет в письме: «Простите, что так долго не отвечала. На прошлой неделе меня подключили к электрокардиостимулятору. Не думаю, что Вашу статью стоит публиковать…» Между тем плоть продолжала давать сбои. Оправившись после тяжкого гриппа в феврале 1986 года, Вера упала у себя дома, «как дура», сломав стул и ребро. Ее переписка застопорилась, в особенности из-за болей в боку, которые продолжались еще несколько месяцев. Вере было восемьдесят четыре года, когда они с Дмитрием решили, что пора вместо нее нанимать агента; Ледиг Ровольт познакомил Набоковых с Никки Смит из Нью-Йорка, которая приняла на себя основной груз корреспонденции и связей. С подачи Геннадия Барабтарло Вера в 1988 году возвращается к своим исследованиям творчества Ламотт-Фуке, начатым ею еще в середине 1950-х годов в Корнелле. Она проводит параллель между «Дамой пик» немецкого писателя и «Пиковой дамой» Пушкина; тогда, заполучив из Германии редкий экземпляр издания романа Фуке 1826 года, она начала писать эссе на эту тему. (Набоков упоминает об этой параллели в примечаниях к «Онегину» без ссылки на Веру и добавляет, что собирается заняться со временем этой темой.) Вера уже старательно проработала этот предмет. Барабтарло свел воедино исписанные ею карточки и листы черновиков и опубликовал совместно с Верой это исследование в 1991 году в журнале, что стало значительным событием для Веры, которая по своей немощи уже была неспособна добраться до университета.
В основном Вера пребывала в светлом расположении духа, хотя она же первая и признавала, что старение сильно осложняет жизнь. «Вы говорите о депрессии. Это нечто мне неведомое; я всегда стараюсь чем-нибудь себя занять», – писала она подруге еще в 1930-е годы. Вера по-прежнему наслаждалась цветовым восприятием звуков, явившимся таким мощным стимулом для ее творческого воображения, живо обсуждала эту тему; восприятие образов у нее осталось столь же ярким, как и прежде. Она радовалась, когда впервые Набокова опубликовали на его, на их общей, родине. Отрывок из «Память, говори» был опубликован в каком-то шахматном журнале; готовился к выпуску однотомник его произведений. Вера спрашивала Карлинского, чья терпимость и эрудиция позволяли их отношениям преодолевать временные бури, не собирается ли он этим летом в Европу. «Я, хоть и очень стара, но еще жива и „способна дать сдачи“», – уверяла она. Карлинский послал ей в ответ свою вышедшую в 1985 году биографию Цветаевой. Хотя Вера и не стала относиться лучше ни к самой поэтессе, ни к ее мужу, но не могла себе позволить, уже начав знакомиться с работой Карлинского, теперь от нее отмахнуться. Ей очень нравилась библиография сочинений В. Н., подготовленная Майклом Джулиаром, откуда она почерпнула для себя много нового. Она читала библиографию как роман. Теперь, как прежде – читать мужа, ей доставляло удовольствие читать о муже. Друзья сделались для нее хранителями памяти о нем.
1 ноября 1987 года Вера снова упала, теперь в своей спальне, и сломала шейку бедра. Предстояла операция, но решение было отложено в связи с проблемами кровообращения. В последующие полторы недели она, по собственному описанию, испытывала «нестерпимую боль». Они с Дмитрием дважды попрощались навсегда перед тем, как ей имплантировали синтетический шаровой сустав. После операции Вера пять месяцев провела в больнице в постоянной тревоге за Дмитрия, которому оставила горы все еще солидной деловой корреспонденции. Одного взгляда на накопившиеся за ее отсутствие бумаги было бы достаточно, чтоб повернуть обратно, в больницу. Большую часть весны Вера провела в постели. Она уже была не в состоянии править какой-либо перевод; у нее не было сил держать перед собой два текста. Она постоянно извинялась перед Бойдом, регулярно посылавшим ей главы биографии: «Я на полгода выпала из обоймы, даже, я бы сказала, из жизни. Набралось много неотвеченных писем, а у меня не хватает духу снова приняться за работу». Сломанное бедро без конца давало о себе знать; ходила она ковыляющей, шаркающей походкой. Вскоре она сообщала, что теперь главной прогулкой для нее стало передвижение из комнаты в комнату. Написание письма превращалось в громадную проблему. Книгу в твердой обложке она с трудом держала в руках. Вера была крайне расстроена, узнав в конце 1989 года, что из «Паласа» придется переезжать по причине его перестройки; в особенности ее расстраивало, что апартаменты в Монтрё подыскать оказалось нелегко. Как всегда, окружающий мир оказался сильнее ее. После долгих поисков Дмитрию удалось наконец найти апартаменты, хотя, как утверждала Вера, в том, что их продал, хозяин почему-то не был вполне уверен.
«Я живу в Монтрё, мне 87 лет, скоро будет 88. Я горбатая старуха и очень туга на ухо… Этот год промелькнул для меня как-то незаметно», – писала Вера Елене Левин осенью 1989 года. День рождения, знаменующий такую выразительную дату, предстоял где-то в будущем, через четыре месяца. Вера практически не двигалась; никуда не выходила. Утверждала: единственное, что осталось ей, – это читать и перечитывать. Елене Левин и самой было уже семьдесят семь, но она никак не могла представить себе Веру «горбатой старухой». С тех пор как они виделись, прошло уже двадцать пять лет, но Левин не верилось, что минуло четверть века. «В моей памяти ты всегда мраморная красавица с живым, выразительным лицом», – отвечала Вере Елена заказным письмом. Этим письмом Вера явно дорожила. Она не отложила его в архив, а уложила в пустую коробку из-под шоколадных конфет и опустила в ящик письменного стола, где хранились разные записки от Владимира. Время сделало с Верой то, чего не сумели сделать ни изгнание, ни нужда, ни нерадивые бухгалтерские службы: оно согнуло ее по собственной прихоти. Вера была благодарна тем, кто за этой уродливой маской видел ее настоящую. Переезд в новые апартаменты в 1990 году после почти тридцатилетней жизни в «Паласе» оказался мучительным. Она тревожилась за свою безопасность, боялась, что кто-то вломится из сада в дом через стеклянные стены гостиной; в саду она постоянно указывала всем на какую-то черную кошку, которую, кроме нее, никто не видел и за которую, как подозревал Дмитрий, Вера принимала приспособление для барбекю. Вера проводила время, просматривая газеты, проверяя каждое слово в рукописи Бойда, читая вслух Пушкина, Блока, Тютчева, Набокова с Дмитрием по вечерам, пытаясь учить кухарку-итальянку английскому языку. Ходить по комнате без посторонней поддержки ей становилось все трудней и трудней. Дмитрий вспоминал, что у нее почти не осталось радости в жизни. В конце лета 1990 года ее навестил Стивен Паркер. Едва разговор перешел на Владимира, слезы потекли из по-прежнему лучистых глаз Веры.








