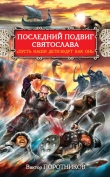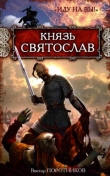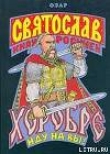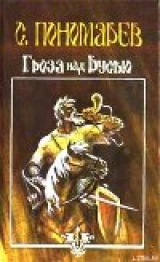
Текст книги "Гроза над Русью"
Автор книги: Станислав Пономарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
3. На защиту земли Русской!

Глава первая
Детище Спирьки Чудина
Улеб привел Спирьку Чудина сразу, как только ушли варяги. Позади князя робко ступал тщедушный рыжий мужичонка в длинной, до колен, заплатанной холщовой рубахе, в синих полосатых портах и стоптанных лаптях.
– Подойди! – распорядился Святослав.
Спирька приблизился, поклонился земно.
– Сказывай!
Мужичонка полез за пазуху. От волнения он не сразу смог вытащить свернутую в трубку распаренную бересту, которая в ту пору на Руси была вместо бумаги у простого народа, купцов да и у бояр тоже. Наконец береста была явлена свету и Спирька протянул ее Святославу. Тот развернул свиток на столе глянул:
– Подойди, сказывай!
– Дак, ста, это... – Спирька растерялся: шутка ли сам великий князь!
– Не мямли, сказывай суть! – Святослав положил руку на Спирькино плечо.
– Так, ста... батюшка-князь...
– Сказывай без батюшки, короче.
– Дак ин есть стреломет и огнемет...
– Ну и что? В чем его отличие от греческой катапульты?
– Дак ить он метче справу кидать может, князь-ба...
– Как так?
– Да ить вишь – труба? А тута толкач. Хошь стрелу зело великую, хошь камень раскаленный вложи, али целый пучок стрел... – Заметив неподдельный интерес великого князя, Спирька заговорил свободнее.
Лодейный мастер, он давно мечтал построить новую метательную машину. Никто его всерьез не слушал и не понимал. А сейчас Спирька был горд безмерно – подумать только, кто заинтересовался его детищем!
– Дак ить без трубы камень куда хошь полетит, а труба не даст. Куда его нацелишь, туда справа и летит точнехонько... Жалко, настоящую исделать не мог. Железа нетути – да и не мастак яз по железной части. Деревянную исделал и камень в четверть пуда на сто шагов забросил. А ежели середку железную сковать, тогда камень калить можно. Иль горшок с горючей смолой в трубу ставить да и метать далеконько на вражьи головы. Большой урон ворогу при-несть можно. Слыхано, козарин опять на Киев-град поспешает... – Спирька умолк.
Святослав задумчиво глядел вдаль. Цепким умом своим он давно ухватил главную суть механизма. Подивился про себя простоте его и отметил верность мысли простого мужика, ни разу не видавшего вблизи настоящей катапульты.
Спирька, поняв, что великий князь хоть и смотрит в сторону, а слушает внимательно, продолжил робко:
– Вот ежели бы замест мочалы конский волос для веревки к вороту добыть, дак стреломет куда как далече справу забросит...
– Пошто сразу не сказывал? – резко обернулся Святослав.
– Дак, ста, до тебя не долезешь. Ты ить вон кто – побледнел Спирька.
– Не к тебе речь. – Великий князь в упор смотрел на Улеба. – Воевода Вуефаст проведал о сей хитрой машине и мне сказал. А ты, князь, как воевода оборонный должон был давно сделать стреломет и доказать мне.
– Прости, других забот не исчислить.
– Воевода только тогда на месте, когда из забот неисчислимых умеет находить наипервейшие и тут же промыслить их к делу. – сухо заметил Святослав.
– Дак, ста, пресветлый князь наш батюшка Улеб... – попал голос Спирька, на мгновение осекся под горячим взором властителя Руси, но твердо закончил: – Две куны дал князь Улеб на обчее дело. Ежели бы не он, то машину бы яз не исделал! – Спирька считал справедливость превыше всего, и укор Святослава Улебу не принял. – Только вот бы железа малость... – добавил он просительно.
– Две куны? – фыркнул Святослав. – Как за Русь, так смерд голову свою несет на поле брани, а болярин – две куны.
Улеб покраснел и ничего не ответил.
– Пошли, Спирька Чудин, показывай свою чуду-юду, – засмеялся Святослав и зашагал из гридницы.
У каменного крыльца стояли кони для Святослава, Улеба и Спирьки. Сбруя и седла были простыми. Вес знали, что великий князь не любил украшений и сподвижники старались подражать ему.
Князья легко взлетели в седла, нетерпеливо поджидая, пока на коня взгромоздится Спирька – его, улыбаясь, подсаживали гриди. Святослав с места пустил коня крупной рысью.
Отряд из полутора десятков всадников проскакал через вечевую площадь к воротам на Зборичев взвоз. Встречные, завидев властелина, снимали шапки, низко кланялись. Некоторые показывали пальце м на Спирьку, дивились, посмеивались – экий куль рогожный в седле! А тот вцепился обеими руками в гриву коня, зажмурился, боясь валиться, и молил Велеса о помощи и спасении.
Спустились в Пасынчу Беседу, через нее проскочили в Подол, проехали мимо купеческих двухэтажных добротных построек, огражденных дубовыми тынами. Улочки же, где жил работный люд, были узкими и кривыми, дымные срубы и полуземлянки разбросаны кое-как. В пыли играли полунагие грязные ребятишки. Мычали коровы, блеяли овцы, лаяли тощие и облезлые дворняги. Люди посадские согнали скот в город сразу же, как услыхали весть о набеге кочевников.
В обычное время здесь, на Подоле Киевском, стучали топоры, . визжали пилы – разрастался город. Лодейные мастера спускали в Почайну легкие, вместительные ладьи-однодеревки. Но сейчас все мужчины, за исключением дряхлых стариков и малолетних детей, были на крепостных стенах. Одетые в сарафаны женщины готовили варево прямо во дворах, другие с корзинами спешили к стенам. Ребятишки постарше кололи лучину для стрел, а бородатые старики едлинными седыми волосами, перетянутыми тесьмой, прилаживали наконечники и оперения к древкам.
Тревожная тень степной грозы витала здесь – во дворах идолы Перуна, Стрибога[66]66
Стрибог – бог ветра и бурь в мифологии древних руссов и славян.
[Закрыть], Дажбога[67]67
Дажбог Царь-С'олнце, сын бога огня Сварога в мифотворчестве древних славян и руссов: хранитель законов, установленных Богом-Отцом для людей.
[Закрыть] и Велеса были обмазаны жертвенной кровью, а в чашах перед ними лежали кусочки сырого мяса и жесткого ржаного хлеба.
Около одного из стариков Святослав придержал коня.
– Здрав буди, Окула.
– Живи сто лет, князь, – отвежил тот, пытаясь встать.
– Сиди! – поднял руку Святослав. – Пошто тут? Яз наказывал быть тебе в детинце у гридей. Ай чего не по нутру?
– Благодарствую, князь, все ладно. Да только дочка тут мается. Семеюшко-то ее олонесь печенег срубил в дозоре. Вдовая она и детишек четверо. Кто кормить станет? Вот и подсобляю.
Святослав нахмурился. Слава старого Окулы летала высоко. Он был первым поединщиком во многих битвах с врагами Руси, ходил в походы еще с Олегом. Состарился в седле. И все-таки три года назад не удержался от поединка с печенегом, когда степная орда набежала на Киев. Печенега Окула повалил, но и сам получил тяжкую рану в ногу, которую лекари-ведуны потом отняли.
Старый воин имел три золотые гривны на шею за боевую доблесть – а этим далеко не каждый богатырь и даже воевода мог похвастаться. Святослав знал, что даже в самое трудное для себя время старик отказывался продать боевое золото или обменять его на снедь. Поэтому и распорядился великий князь содержать старого воина в детинце, кормить и поить в своей гриднице до смерти. Иногда приходил послушать были о походах руссов на хазар, печенегов, латынян и греков, рассказывать которые Окула был великий мастер.
– Где же гривны твои? – спросил Святослав.
– Продал... Две отдал на оборону городища родного. Сам-то – теперь стоять за него не могу – ослаб да калечен. Дак замест меня злато мое ратное пущай разит ворога... А одну гривну персу за хлеб да соль променял – жить-то надо. Шесть душ нас теперича, а работника нетути. – Старик говорил, продолжая ладить наконечник к стреле. – Прости, князь, неколи мне. Тиун наказывал тысячу стрел к завтрему снарядить.
– Кто тиун-то?
– Лагун, Ядрея-воеводы...
Глаза Святослава сверкнули, он обернулся к Улебу:
– Русь жива и могутна ратною славой отцов и дедов наших! Как вы могли допустить поношение столь славного витязя? Молчи! – выкрикнул он грозно, когда Улеб хотел было что-то сказать. – Гривны вернуть! – Великий князь обернулся к старику молвил виновато: – Прости Окула-богатырь. Прими поклон мой за помочь в тяжкий час! – Святослав обнажил голову и поклонился с седла. Все последовали ему. – Только не бери в обиду приказ мой. Гривны сии не одному тебе принадлежат сегодня. То знак доблести бранной всего воинства русского. Храни их со славой! – И к Улебу: – Отвести Окулу-витязя в детинец, содержать с честию! А семье убиенного в сече гридя платить из казны по пять кун помесячно до смерти матери. Ядрею же накажи – подати снять! И за поношение славы богатырской пускай внесет в казну мою десять золотых слитков по гривне весом. Да сегодня же...
Окула пытался встать, поклониться великому князю, но не мог нашарить клюки и только смотрел ошалело.
– Князь... князь... славный воевода наш, – шептал он со слезами на глазах.
Святослав еще раз поклонился старому воину, сердито дал шпоры коню и рванул повод вправо. Гнедой жеребец стал свечкой, заржал от боли и поскакал галопом к городской стене. Свита едва поспевала за ним.
Около старого Окулы остались два гридя. Они подсадили его в седло и, сами следуя пешком, направились обратно на Гору, в детинец.
Внизу, у стен, и на самих стенах горели костры. Защитники города под присмотром десятских и сотских кипятили воду, плавили деготь и смолу. Посадские работные люди охапками сносили сюда вороха копий и стрел. Лошади тащили на волокушах связки мечей, груды кольчуг и щитов, громадные стрелы и камни для метательных машин. Левее, на берегу Глубочицы, выстроились в ряд дымные приземистые кузницы. Оттуда неслось уханье кувалд и звонкий перестук молотков – в грозный час Русь ковала оружие.
Святослав соскочил с коня и по крутой лестнице быстро поднялся на стену. Спирька, торопясь, взбежал следом, указал великому князю на деревянное сооружение сажени в две длиной:
– Вот оно и есть... чудо-юдо.
– Снарядить! – приказал князь.
Двое кудлатых мужиков в лаптях и рубахах до колен торопливо стали перебирать рукояти ворота. Святослав наклонился, заглянул в трубу – внутрь се уходил поршень. Мужики, натужась, сделали последний оборот – щелкнул замок храповила.
– Шабаш! – дружно выдохнули они.
– Подайте горшок с земляным жиром! – распорядился Святослав. – Да приготовьте бадью с песком! Сейчас зажжем и бросим, – улыбнулся он Спирьке.
А тот вовсю суетился, махал руками на помощников и бранился от полноты чувств.
Принесли глиняный горшок, от которого резко пахло нефтью. Узкое горло забили тряпкой, втолкнули снаряд в трубу до предела.
– Далеко ли кинет справу машина твоя? – обратился Святослав к Спирьке.
– Да ить, ста... ежели вы волос конский для ворота...
– Не о том речь! Как сейчас?
– Дак ить ежели так, то саженей на полета.
– Наводи свою трубу вон на то дерево – указал князь. Спирька вновь засуетился, убрал из-под ворота два чурбака – конец трубы, обращенный в поле поднялся.
– Дак, ста, готовый яз.
– Добро...
Святослав взял сулицу, обмотал конец ее куделью, обмакнул в с нефтью, поднес к костру. Факел загорелся. Князь опустил огонь в трубу – там запылало.
– Давай! – весело крикнул Святослав.
Спирька дернул скобу храповика. Раздался треск, огнемет подпрыгнул, из трубы вылетел крутящийся дымный шар и по пологой кривой устремился к дубу. Тряпка из горла кувшина выбилась, и путь снаряда метился огненными брызгами. Кое-где вспыхнула сухая трава Через мгновение сосуд ударился о комель дерева и разлетелся осколками – бойкое пламя побежало вверх по стволу.
Все с любопытством смотрели в поле, забыв про машину с трубой, а когда обернулись, она уже пылала вовсю.
– Гаси! – подхватив лопату песка, крикнут Святослав.– Молодец, Спирька! – похвалил князь.– Только вот придумал бы ты, чтоб снаряд сей в воздухе разлетался бы с огнем.
– Помыслим ить, ста... – пообещал польщенный мастер.
– Улеб! – обратился Святослав к брату. – Выдели этому искуснику десяток мастеров по корчайному делу и сотню мужиков посмекалистей. Дай все надобное, чтоб скоро сделали мне два-три десятка таких огнеметов. А Спирьку впредь величать сотским мастеров оружных! Положи ему плату как гридю дружины моей.
Спирька повалился в ноги великому князю. Тот кивнул, принимая благодарность, и стал спускаться со стены.
Глава вторая
Княгиня Ольга
В светлую, с высоким потолком горницу через резные двери вошла Предслава. Высокая чернобровая красавица с чуть раскосыми глазами вела за руки двух сыновей – Ярополка и Олега. Те разом вырвались и побежали к узорчатому креслу, на котором прямо восседала строгая старуха с белым, без единой морщины, лицом, одетая в синее парчовое платье, отороченное соболем. Холодные серые глаза ее потеплели при виде детей. Она легко встала и обняла обоих.
– Бабунька, бабунька! – вскричали наперебой княжичи. – Мы с козарами ратовать хотим!
– Полно, успеете еще, – улыбнулась княгиня.
– Не хочу на погост ехать! – гневно топнул ногой в сафьяновом сапоге старший – шестилетний Ярополк. – Хочу с батянькой на ворогч!
Младший, Олег похожий на отца, синеглазый и русоголовый, отступил назад и тоже принял воинственную позу:
– Аль не княжичи мы, бабунька?! Чать, давно подстягу[68]68
Подстяга (др.-рус.) – обряд посвящения сына в наследники боевой славы отца: трехлетнего мальчика провозили верхом на коне вокруг воткнутого в землю копья со стягом на конце.
[Закрыть] прошли и в стремя стали! Мы битвы не страшимся!
– А что скажет батянька ваш, коль наказ его не сполните?
– Батянька четырех лет ходил с тобой на древлян, – ответил Ярополк. – А мне почитай вдвое больше!
– Батянька ваш сиротой остался, а вы не сироты...
Дверь резко распахнулась – на пороге стоял Святослав.
– Вы еще здесь, соколики?! Предслава, дружина ждет! Быстро в леса. Ворог близко!
– Так мы с матушкой попрощаться – робко ответила жена.
– Поспешайте! – Святослав подошел к сыновьям, поднял их на руки, поцеловал по очереди. От усов его пахло смоляным дымом, степной травой зноем и еще чем-то неуловимо грозным.
Князь поставил мальчиков на пол, подтолкнул ладонями к матери. Потом подошел, холодно поцеловал жену в губы.
– В путь!.. Эй, отроки, проводите!
Вошли два молодца в полном боевом доспехе, поклонились. Княжичи уныло побрели к выходу. Предслава вздохнула и пошла следом.
– Ишь, вояки. Небось в поход со мной собирались? – рассмеялся вслед сыновьям Святослав, потом повернулся к Ольге, спросил:
– Матушка, а ты пошто приказ мой не сполняешь? – он подошел, нежно обнял ее. – Пристало ли тебе, великой княгине земли Русской, матушке моей, жить под стрелами огненными да слушать вой бусурманский? Аль нет у тебя заступника? Аль не крепка десница моя?
– Сын мой любый, – опечалилась княгиня, – ведаю яз силу твою и разум светлый. Да сказывают, орда грядет несчитанная – и козары и печенеги разом. В сей грозный час мне надобно быть на своем месте – рядом с тобой! Да еще князь варяжский под стенами вертится. Што у него на уме, кто ведает? Коварнее печенегов варяги сии!
– С Ольгердом яз ряд мирный подписал, – успокоил ее Святослав. – И догляд за ним будет.
– Что для победы свершил, сын? – спросила Ольга. – Яз мыслила, оставить надобно Киев-град в осаде, а тебе идти полки собирать и потом уж ударить на ворога.
– Нет, матушка! Не бегал яз от степняков и нынче не побегу! Стану в осаду!
– Да мыслимо ли сие?
– Мыслимо! Степняки, проведав, что яз в Киев-граде, будут лезть на горы с яростью. Много яз им насолил, значит, и они захотят обра-тать меня. А мне то и надобно. Дней через десять придет Свенельд с дружиной да и Добрыню яз спослал сторонников ополчать.
Ольга слегка нахмурилась при упоминании Добрыни, но ничего не сказала. Помолчав в раздумьи, решила:
– Возьми половину дружины моей. Ведь мы под защитой Киев-града. Покамест Киев стоит, Вышгорода ворогу не доискаться!
– Нет, матушка! Твои гриди тут покамест нужней. Как только они понадобятся, знак дам. Тогда подмогнут мне. Нынче сюда весь купецкий караван пришел. Присмотри за ним, матушка. Да на врата крепкую стражу снаряди. Стерегись – там люд всякий! Яз буду сильно горевать, коль с тобой случится чего... А теперь прости. Дела ждут!
Ольга обняла коленопреклоненного сына, перекрестила:
– Присмотрю за всеми. Будь спокоен, сын. Ступай! И храни тебя Христос!
– Это не мой бог матушка! – тихо но твердо сказал Святослав.
Ольга вздохнула:
– Так пусть хранит тебя Перун, все боги и чуры русские!
Святослав встал, поясно поклонился матери и, резко повернувшись, быстро зашагал к выходу.
Ольга, подойдя к оконцу, наблюдала, как Святослав вскочил в седло и с места в карьер погнал коня к воротам, в сторону Днепра. За ним вслед поспешили воеводы. Сопровождала великого князя и мужей нарочитых сотня витязей в островерхих шлемах, в мерцающих на солнце кольчугах, с копьями и червлеными щитами. Передний воин держал над головой великокняжеский стяг – на багровом поле серебряный барс, застывший в прыжке над перекрестьем из трех молний.
– Сокол мой ясный... – прошептала Ольга со слезами на глазах и трижды перекрестила удаляющийся отряд.
Княгиня тяжело прошла к креслу, взяла со столика зеркальце в золотом окладе, вытерла тонким кружевным платочком глаза, припудрила веки персидским порошком. Еще раз глянула в зеркальце, отложила его в сторону и хлопнула в ладоши.
Вошедший отрок увидел княгиню Ольгу привычно суровой, величественной и неприступной.
– Покличь боляр ближних для думы, – ровным бесцветным голосом приказала она.
История Руси не знает другой столь необыкновенной женщины, коей была великая княгиня Киевская Ольга. В бурное средневековье, когда границы громадных империй бесследно сметались, когда еще вчера могущественные армии и народы исчезали, словно дым в грозовом небе, эта женщина непреклонной волей своей направляла военные дружины во все стороны своего обширного государства для усмирения беспокойных соседей. Твердой, неженской рукой держала власть, безжалостно подавляя удельные устремления подколенных[69]69
Подколенный (др.-рус.) – подчиненный, зависимый.
[Закрыть] князей и воевод. Около двадцати лет Ольга единолично правила Русью. Суровые сподвижники ее Асмуд, Свенельд, Слуд и Претич подпирали стол великой княгини Киевской окованными в железо плечами своих дружин, Ольга умело разжигала в боярах взаимную ревность, и ни один из них не решился посягнуть на великое княжение – боялись друг друга! Почитали мужи нарочитые свою властительницу за недюжинный ум, коварство... и жестокость, скрытую под показной кротостью. Все они помнили и никогда не забывали печальную судьбу древлянских князей и бояр.
Ольга и сына своего воспитала самостоятельным и бесстрашным. В пятнадцать лет княжич водил дружины против хазар и печенегов под надзором опытного и осторожного воеводы Асмуда. С тех пор минуло семь лет, и имя «Святослав» стало для врагов Киева синонимом грозы и победы.
Год назад Ольга передала наследственную власть своему непоседливому отпрыску и с удивлением и радостью наблюдала за успехами молодого князя, увлеченного мыслью объединить все славянские племена в единое могущественное государство. Но для этого надо было в первую очередь обезопасить свой тыл, поэтому Святослав устремил свой взор на непримиримо враждебный Руси Хазарский каганат.
Однажды в разговоре с матерью князь как бы случайно обронил:
– Надобно разорить это логово степных волков и открыть путь гостям русским по Олеговой реке.
Мать рассмеялась и ответила:
– Мыслимо ли сие? – Козария самих греков к дани принудила. Войско Итиль-хана неисчислимо. Триста лет запирают козары Великие ворота народов. Множество племен и орд стучатся в те ворота, но открыть их не могут... Молод ты еще, сын, и несмышлен, коль замахиваешься на этакую силу.
– Пошутил яз, матушка, – в свою очередь рассмеялся чуть уязвленный словами матери Святослав и к этому разговору больше не возвращался.
Но проницательную княгиню обмануть было непросто: мечтой открыть для Руси беспошлинный торговый путь по Волге к богатым странам Востока жили Олег, Игорь, да и сама Ольга.
В ожидании бояр задумалась великая княгиня. Нахлынули на нее воспоминания полувековой давности: германцы окружили Псков... На стене, окруженный врагами, рубится Болеслав – отец Ольги. Упал воевода, пронзенный мечами. Германцы оседлали стену, сейчас ворвутся в город, вырежут всех поголовно. Гремит чужой победный клик! Но из Новгорода успел с дружиной седоусый Олег...
Объезжая поле брани, молодой князь Игорь, воспитанник Олега, увидел тонкую русоголовую девочку: огромные серые глаза ее с ужасом и страданием смотрели на распростертое тело отца, на его залитое кровью лицо. Игорь окликнул девочку, но та не шевельнулась, не повернула головы.
– Не замай ее, паря, – осуждающе глянул на Игоря дюжий ратник. – Вишь, захолонула от горя девка... – И помолчав, добавил: – Дочка она воеводы нашего Болеслава. Сирота теперича...
Подъехал Олег. Ольгу он знал хорошо: бывал в гостях у Болеслава. Старый князь соскочил с коня, снял шлем, стал на одно колено перед прахом псковского воеводы, скорбя, склонил голову. Дружинники его вслед за князем опустились на колени. Но вот властитель встал, не надев шлема и не глядя вокруг молвил:
– Справить знатную тризну по витязю Болеславу и его хоробрым богатырям!
Потом окинул потемневшим взором поле жестокой брани, кивнул на тела убитых врагов:
– А этих... этих – собакам да воронам на потраву!
К нему подвели пленного герцога Ингельда – единственного оставленного в живых.
– Снять с него доспехи. Раздеть донага. Облить медом. Да в перьях обвалять!
Дружинники тут же исполнили приказание.
– А теперь посадите его на хромую клячу задом наперед... Пускай едет и расскажет в иных пределах, как встречают на Руси незваных гостей!..
Дочь Болеслава Олег отвел в полусгоревший терем, позвал знахарей. Когда девочка немного отошла от горя князь взял ее с собой в Новгород. А через год после печальной тризны по отцу Ольга стала женой великого князя Игоря Рюриковича.
Супружеская жизнь не понравилась Ольге. Выйдя замуж девчонкой, она так и не познала настоящей любви. Ласки мужа принимала холодно. Да и не мил ее сердцу был супруг опасливый и прижимистый по натуре.
Пока княжил Олег, русскому оружию сопутствовала удача. Могучей десницей своей старый князь грозил врагам, собирая славянские племена в единое государство. Русь перестала платить позорную дань хазарам: послам Великого Кагана Олег вручил тяжелый обоюдоострый меч и сказал весомо и грозно:
– Вот моя последняя дань Козарии! Киев-град отвергает Хакана! Коль не смиритесь с волей моей, то за мечом сим огнь и кровь падут в пределы ваши!
И греки увидели несметную рать Олегову у стен своей столицы. Устрашенные они просили мира и откупались золотом.
Но после смерти Вещего князя враги зашевелились, подняли головы. Хазары по весне стали ежегодно тревожить юго-восточные границы Руси. На юге с ними соперничали печенеги. Игорь неохотно садился в боевое седло, чаще посылал варяжского конунга на русской службе – Свснельда. А тот себя не забывал и наглея год от году стал с вожделением поглядывать на великокняжеский стол.
Тогда дальновидная и решительная Ольга создала собственную дружину, водимую в походы лихим Асмудом. Несколько сокрушительных ударов привели в чувство хазар, утихомирили печенегов. Склонил голову и гордый конунг Свенельд, когда Ольга за совершенный в Киеве разбой – дело ранее обычное – приказала повесить десяток варягов на крепостной стене. Дружина Свенельда заволновалась было, но Ольга с вечевого помоста самолично объявила, что перевешает всех находников, если они не будут следовать уставу. Ее слова прозвучали более чем убедительно, ибо варяги были окружены стальным кольцом из двух дружин – Игоря и ее. И еще одно кольцо, не менее страшное, состояло из вооруженного работного люда. Здесь, у капища Перунова, варяги дали клятву верно служить Руси и вести себя смирно. Первым к присяге подошел Свенельд...
Не доверяя воеводам да и мужу тоже, княгиня построила в неприступном месте на правом берегу Днепра, чуть выше Киева, крепость Вышгород. Именно сюда предприимчивая княгиня свозила добычу. Здесь же пировала всегда сытая и хорошо вооруженная дружина. Ольга ревностно относилась к подбору воинов. Они же, прослышав о щедрости русской властительницы, съезжались в Вышгород со всех концов Руси и из сопредельных стран. В отличие от Ольгиной, дружина скуповатого Игоря была плохо одета и частенько голодала.
Здесь, в Вышгороде, гордая и красивая псковитянка принимала своего царственного супруга. Игорь корил ее за бесплодие, а она, смеясь, отвечала ему:
– Да как же им быть, детям-то, милый семеюшко мой, ежели яз, не слезая с боевого седла, одной рукой усмиряю непокорный сонм врагов, а другой устраиваю Русь? Некогда мне родить...
Византия, чувствуя нерешительность и даже робость русского великого князя, прекратила платить дам: откоеванную у ромеев Олегом. Однажды в Константинополе греки перебили всех русских купцов. Игорь гневался, но не решился наказать вероломных ромеев, хотя того решительно требовали все ближние бояре и воеводы, потерпевшие немалый урон из-за гибели купеческого каравана. Наконец, под давлением своих соратников и воинственной супруги Игорь решился все же на военный поход. К Царьграду двинулись всего четыреста ладей с пятнадцатью тысячами воинов и охочих людей. Князь рассчитывал на внезапность. Но расчет его не оправдался. Когда руссы появились у берегов Мизии, болгары сообщили в Константинополь костровыми сигналами о их приближении. Ромеи встретили русский флот в море и почти весь сожгли «греческим огнем». Уцелевшие остатки Игорева воинства на десятке ладей с позором вернулись домой.
Вслед за ними приплыли надменные послы императора Константина Багрянородного с унизительными для Руси условиями мира. Под давлением воевод, бояр, старцев градских и разгневанной Ольги Игорь отверг мир с Византией. А весной Киев осадили печенеги. Пылали вокруг городки и селища, шли путями рабства русские люди. Вороны летали над испепеленной землей. Стонала Русь.
Игорь растерялся. И тогда Ольга сама взялась за дело – начала собирать силы для отпора врагу. Ее верный Асмуд разгромил в тяжелой сече печенежские орды.
Через три года полторы тысячи русских ладей двинулись в мстительный поход к греческим берегам. Ольга сама было собралась в дорогу, но не решилась оставить двухлетнего Святослава.
Те же послы, испуганные силой русского флота, встретили его в море и униженно просили мира. Император Константин обещал заплатить дань великую, такую же, как некогда греки заплатили Олегу. Игорь, решив не подвергать себя опасностям сражения, согласился на мир. Ромеи золото дали, но по всем остальным статьям договора обманули Русь. Узнав об этом, Ольга от души посмеялась над робким супругом...
Воспоминания великой княгини прервал появившийся в дверях отрок:
– Боляре ближние у твово порога, матушка-княгиня!
– Зови!
В горницу один за другим, по чину, вошли пышно одетые бояре земской думы – заботу о гражданском управлении Русским государством Ольга по просьбе сына взяла на себя.
По знаку княгини бояре шумно расселись за широким столом.
– Великий князь Святослав, сын Игорев, – строгим ровным голосом начала Ольга, – наказал нам дать оружие и наряд ратный ополчению сторонников.
Бояре хмуро переглянулись. Ольга обвела всех собравшихся суровым взором и сказала вдруг другим – медовым голосом:
– А сей часец, боляре мои ближние, каждый из вас скажет мне, как он дело свое разумеет, как радеет о русской земле, все ли доставлено на княжий двор по слову моему. А Мирошка-ларник по записям тут же уличит кого ни есть...