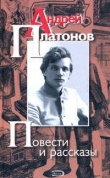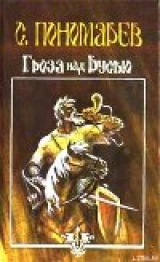
Текст книги "Гроза над Русью"
Автор книги: Станислав Пономарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Глава шестая Перунов огнецвет
Великая княгиня Ольга готовилась к отъезду в Константинополь. Верная своему правилу все споры решать по возможности мирным путем, она надеялась заключить с императором Византии вечный мир и извлечь из этого немалые выгоды для растущего Русского государства.
Святослав и его сподвижники, воинствующие бояре и воеводы, отговаривали княгиню от бессмысленного, на их взгляд, шага.
– Романия не волк, то верно! – вещали они. – Романия – лисица, лукавая и коварная. Ромеи не ратуют с нами, то верно. Воюет с Русью ромейское злато, а кровь льет печенежская, а пуще того – козарская рука. Русские торговые гости с боем прорываются скрозь пороги Непры-реки, минуя печенежские станы. Многие костьми ложатся на том пути.
– А на восход торговый путь закрыли козары, поставили свои оружные вежи на Дону и Итиль-реке, берут дань тяжкую с многих славянских племен. По весне же оружаются вой хакановы на киевские пределы...
– Мечом надобно укоротить длинные руки Романии. Пожарам предать козарские вежи!..
– Силой ратной поставить на колени Козарию и сим в страхе держать и печенегов и ромеев! Тогда спокойно можно крепить Русь! Да и торг держать выгодней с поверженным ворогом, чем с нынешним...
Но миролюбивую позицию великой княгини поддерживали торговые люди и богатые бояре. У них скопился избыток товаров, до которых были охочи византийские, арабские и хазарские купцы. Печенеги же, дикие свирепые всадники-скотоводы, кочевавшие в одном дне пути от киевских пределов, ни с кем не торговали. Они с одинаковой легкостью жгли и грабили всех без разбора соседей. Кочевья восьми печенежских округов растеклись по обеим сторонам Днепра, являя собой великую угрозу и Руси, и Болгарии, и хазарам, и уграм, и... византийским владениям в Таврии.
От торговых нарочитых мужей русских слово держал тысяцкий Ядрей:
– Так ста, матушка княгиня, – начал он, – мы ведь тож не супротив поражения ворогов святой Руси. И меч в руках такожде можем держать. Только вот не всякая война прибыток дает, а гостьба – сие злато да серебро в казне княжецкой! Согласные мы, матушка княгиня наша, печенега надобно разгромить и согнать его станы с Гречника, ибо зла от него ох как много. Да как споймать степняка в бескрайнем Диком поле? Кабы самим, гоняючись, головы не потерять... А коли крепкий мир будет с ромеями, большая выгода станет Руси Романия – сторона богатая, в Царьграде добрый товар со всего света собирается. Нашей рухляди мягкой цена там завсегда стоит высокая. Такожде ромеи зело охочи до русской пашенички. Да и печенеги смирны, покамест мы с ромеями мир держим.
Обычно решительная в своих действиях Ольга внимательно оглядела спорящих и молвила назидательно:
– Добра яз хочу народу моему. Доколе жить нам в дымных избах да в дикости? Сказывали мне гости торговые, зело чуден Царьград. Все палаты там скрозь белокаменны, резьбой и златом изукрашены. Жены и боляре ромейские и даже смерды в шелка наряжаются... Окромя того, вой ромейские поражений не ведают. Железные дружины их победно ступают по землям сопредельным. Мыслю сама перенять обхождение царское, а вам, воеводам моим, не грех бы поучиться науке ратной. Тебе тоже, сын, надобно поглядеть, как водить полки – не все ж с толпами степняков рубиться, ан доведется встретить тебе силу и более грозную. Вот и пригодится наука.
Святослав, удерживаемый сыновьим почтением, старался смирить распаливший его гнев:
– Каковы полки у коварного ромея, не ведаю! Но вой русские не в пример крепше греков. Да и не станут они учить нас на свою голову! – И, прищурив глаза, он продолжал вкрадчиво: – Не припомню яз чего-то, матушка, штоб ромейские вой стояли под стенами киевскими. А щит русский – на вратах Царьграда! Ежели ромеи столь искусно полки свои водят, так чего ж бежали они при одном только виде славного воинства Олега Вещего?! Что до науки ратной, так дядька Асмуд, воеводы Слуд и Претич научили меня разуметь грамоту греческую, латынянскую да арабскую. Читаю яз о походах великого Александра, Ганнибала – царя египетского, славного румича Цезаря, перса Кира... Наука бранная не для подражания обозначена! Постигнув мыслью славные победы витязей древних, надобно умело применять их нынче. Не слепо, а измыслив миг, приемы ратные, оружие свое и ворога, сокрушать силу чуждую! – И, встав, закончил решительно: – Не поеду яз, матушка, в сторону ромейскую! Пустое это... Да и Киев-град нельзя оставлять сиротой. Степняк без княжьего догляда слабым его посчитает... А слабого да убогого всяк обидеть норовит!
– И то верно, – согласилась Ольга. – Што до приемов ратных, вам, витязям, лучше знать... Однако караван купецкий собрался уж подле Киев-града и струги мои справны для пути. Кто поименован мною, собирайтесь скоро в землю Греческую!
...Караван из сотни великокняжеских ладей собрался в дальний путь. Суетились слуги и хозяева в богатых теремах княжеских и боярских. Помимо родственниц и именитых жен киевских, Ольга взяла в посольство русских воевод Вуефаста, Претича, Слуда и Сфенкала; князей – Улеба, Владислава Волынского, Войка, племянника своего Игоря. Ко двору императора Константина собралась также супруга князя Святослава. Во главе охранной тысячи великокняжеских гридей стал воевода Роальд, сподвижник покойного Игоря.
Двадцать пятого дня месяца березозола русское посольство во главе огромного каравана купеческих судов двинулось вниз по Днепру, в далекую Романию.
Святослав стоял на городской стене, задумчиво глядя на расцвеченный парусами Днепр. Он думал о том, что мать его, правительница мудрая и хитрая, зря все же поехала в Царьград. Не верил князь льстивым речам ромейских послов. За свою недолгую жизнь он не раз убеждался в том, что греки не выполнили ни одного обещания, поощряемого добром, и выполнили все до единого, понуждаемые силой.
Любой мирный договор ромеи облачали в такую форму, по которой следовало, что руссы не должны воевать ни с хазарами, ни с печенегами.
Русь никогда не начинала войны первой. За набеги же, постоянно совершаемые то хазарами, то печенегами, ополчалась на обидчиков, и тогда полыхали огнем хазарские вежи и вороны тяжело взлетали, огрузнев от пиров в печенежской степи.
Всему свету жаловался тогда на обиды от Руси каган хазарский: в Большом константинопольском дворце целовали носки императорских туфель послы печенежские, просили заступы от истребления, золота и оружия для борьбы с руссами.
Подогреваемая правителями Византии, поселялась в сердцах горожан греческих ненависть к Руси. Звенели мечи и копья – в Царьграде и у пределов его ложились истерзанные русские купцы. Разграблялись их товары. Львиную долю добычи забирал эпарх[80]80
Эпарх (грен.) – градоначальник Константинополя.
[Закрыть], а значит, сам император – надежда православных христиан. Те из русичей, кто оставался в живых и добирался до родных мест, докладывали великой княгине:
– Так, ста, матушка-княгиня, караван твой из пяти десятков лодий пожжен в гавани Царьградской. Разграбили ромеи с них триста локтей паволоки, тысячу кусков аксамита, пятьсот золотников жемчуга, на четыре тысячи гривен камней-самоцветов, а також рухлядь мягкую, што не успели мы обратить в товар. Помимо ж твоего горя да убытков, порублены все гости русские, товары их счетом не считанные, мерой не мерянные, забрал тиун царский. Позор чинят ромеи купецтву русскому, разорение и убыток великий. Помоги, о матушка-княгиня! —плакали чудом спасшиеся торговые люди.
Великая княгиня Киевская хмурилась, призывала воевод Свенельда и Претича, приказывала готовить ратные струги. И ранней весной на Понте Эвксинском[81]81
Понт Эвксинский (грен.) – Черное Море.
[Закрыть] разлеталась весть: «Россы!!!», металась испуганным зайцем по побережью. Горели поселения и города греческие, лилась ромейская кровь, на берегах Великой Албании звенели цепи – наживались восточные купцы, полон стоил дешево, руссы продавали его тысячами. Вот уже ближние подступы к самому Константинополю окутывались дымом. Рыскали по следу вертких русских ладей византийские хеландии, оснащенные «греческим огнем», да разве догнать их! Руссы всегда появлялись «вдруг»!..
А послы из Царьграда в то самое время стояли перед Ольгой, слезно моля ее остановить разбой. К ногам могущественной северной царицы складывались дары богатые, возвращен был и полностью покрыт убыток, заплачено за обиду по обычаю – двенадцать гривен золотом за человека. Послы утверждали, что виной всему необузданная городская чернь.
– Император уже казнил мятежников, более ста человек посажены на кол!.. Прикажи своим друнгариям[82]82
Друнгарий (грен.) – здесь: начальник флота.
[Закрыть] вернуться с миром в свои земли!
– Где ж яз их искать стану? – усмехалась Ольга. – Вот грудень наступит, они, чать, сами сыщутся.
– Так это же ноябрь! – стонали послы. – Да за это время твои подданные пожгут все побережье Понта Эвксинского! Император отрубит нам головы, если мы вернемся к нему с такой вестью!
Ольга, четко выговаривая слова, отвечала им:
– Стрелу, пущенную Перуном, не остановить! Посеявший ветер да пожнет бурю!
Послы в страхе пятились, но княгиня, задержав их, закончила:
– А жить нам с вами по уставу, Олегом Вещим и царем вашим Леоном скрепленному. Других уставов не ведаю и не приму!
Послы соглашались...
– А што до воевод моих, так ищите их сами на синь-море. Вот передайте им повеление мое: пусть домой возвертаются!
Целую неделю после отплытия великой княгини Киевской в Царьград Малуша не встречала Святослава. Потом увидела его мельком, издалека, в окружении воевод, сотских и гридей.
На Воиновом поле князь с воеводой Асмудом обучал дружину пешему и конному строю, обороне и наступлению. Малуша заметила, как Святослав показывал воинам новый прием владения луком.
Все это время нелегкому искусству управления конем Малушу обучал молодой всадник княжеской дружины Олекса. Он стеснялся ее, краснел по всякому поводу. Девушка уже уверенно сидела в седле, и смирная кобылка стала надоедать ей. Святослав распорядился Дать ученице резвого арабского скакуна...
Князь в череде многих дел и забот частенько не являлся обедать в гридницу или трапезную княж-терема. А если приходил вечером голодный, усталый, то с десятком своих ближних воевод и богатырей. Ели холодную телятину, кабаньи окорока, запивали мясо медвяной брагой. Далеко за полночь раздавались на Горе удалые песни с хохотом и присвистом: рокотали гусли малиновым звоном, и звучные голоса, песенников славили в былинах силу и удаль русскую, а паче всего защитников светлой Руси от коварного Змея Горыныча и сына его Козарина Змеевича.
А утром, чуть свет, Святослав уже сидел на коне, бодрый, подвижный и деятельный...
Однажды несколько дней подряд ночевал князь со своей дружиной в поле. Сооружался тут участок городской стены из камня в пять саженей высотой. У основания ее рыли ров глубиной в две сажени и шириной в три,, заполнили его водой из протекавшего мимо ручья. По сказкам купцов и доглядчиков воссоздал Святослав часть стены хазарской крепости на Дону – Саркела. Делал он это открыто. И постарался, чтобы воинскую потеху заметили хазарские лазутчики. А те потом, стирая пыль у подножия трона кагана-беки Урака, захлебываясь и перебивая друг друга, рассказывали:
– А еще, о Непобедимый и Разящий каган, надежда правоверных, построил юный коназ урусов Святосляб стену из белого камня высотой под облака и ров глубиной до царства Азраила и приказал своим богатурам взять ее на копье. Как птицы взлетели богатуры Святосляба на эту стену. А защитники не смогли отбить их. Коназ Святосляб страшно смеялся и говорил своим бекам: «Так же возьму я крепость Саркелу». Защити нас, о Великий! Ослепи врага блеском жал твоих бесчисленных копий, устраши сверканием мечей! О-о-о-о!
Каган-беки Урак перетрусил, но вида не подал и гордо ответствовал:
– Молодая собака больше лает, чем кусает. Урусский щенок Святосляб не осмелится укусить матерого степного волка. Идите с миром – бояться нечего.
Однако про себя подумал: «Молодой волк, оторвавшийся от сосцов волчицы и отведавший живой крови, опасен вдвойне!»
Каган-беки послал к стенам Саркела тридцатитысячное войско, которое простояло там все лето до зимы, истребив всех баранов у кочевых хазар на два дня пути вокруг. «Урусский щенок Святосляб» не пришел! Напасть же самим на русские пределы хазары на сей раз поостереглись.
Все это лето смирно сидели и печенеги, ибо знали: «каганша урусов» Ольга отправилась в Константинополь к царю румов. О чем она сумеет договориться с хитрыми и грозными ромеями, никто не ведал. А союз Руси с Византией пугал всех безмерно. Даже германский король Оттон Первый с некоторым опасением ждал конца переговоров и с помощью своих послов усердно, словно паук, плел при дворе Константина Багрянородного сложную сеть интриг.
Да, в тот год лето на Руси выдалось на удивление спокойным, даже малые грабительские ватаги степняков не беспокоили границ: в иные времена от них не было покоя. Отряды в сотню-две всадников внезапно возникали из знойного марева, угоняли табуны лошадей, а если удавалось, то и пленных. Иногда русские дозорные отряды успевали догнать степняков, отбить табуны, да только не всегда удавалось освободить пленных – всадники Дикого поля успевали зарубить связанных русичей и, словно ветер степной, улетали в бескрайние дали.
И вот в столь благодатный год покоя и тишины на двадцать третий день месяца изока[83]83
* Изок (др.-рус.) – месяц июнь.
[Закрыть] Русь, как обычно, справляла веселый праздник Купалы. Поля колосились богатым урожаем, яблони сгибались под тяжестью плодов, радовался жизни люд честной, веселыми песнями славя бога любви Ладо. Яркими красками лета пестрели венки на головах девушек, кружились хороводы, в высокой густой траве вторили людской радости изоки – кузнечики.
В Киеве хороводы на Купалу водили у реки Почайны. Девушки пускали венки по быстрой струе с приговором:
Пролети, ладо мое, по чистой воде,
Дай мне суженого, сердцу любого...
А ниже по течению парни вылавливали рукотворные соцветия, под смех и шутки бросались в воду и плыли догонять их аж до середины реки. Узнав свой венок, девушка, потупив очи, брала за руку своего суженого. Оспорить выбор никто не мог, ибо считалось, что соединил молодых не случай, а бог любви Ладо. Пренебречь его волей – значит, нажить непоправимую беду. Правда, тут не обходилось без уловок: парни по одним известным им приметам узнавали венки своих милых. Но бывало, ошибались, а сменить знак любви нельзя. Даже самое малое прикосновение к нему считалось безоговорочным выбором. Затуманивались печалью очи, да ненадолго: бог выбрал, он и счастьем наделит, и сердце утешит...
Святослав, в страстях неуемный, веселился вместе со всеми. Обладая зорким глазом и цепкой памятью, заприметил он венок чернобровой Малуши. Бросившись в поток, сумел опередить соперников, первым дотянулся до ныряющих в волнах цветов...
После того памятного поцелуя на Воиновом поле прошло более двух месяцев. Князь, занятый трудами ратными, иногда уделял Малуше немного времени, обучал премудростям конного дела, ничем не выдавая своих чувств. Только разве чаще хмурился, отводил глаза, а то вдруг сердито покрикивал и выговаривал за промахи.
А сердцу девушки суждено было томиться, гореть огнем. При встрече со Святославом она невольно краснела, опускала глаза. Казалось ей, князь совсем ее не замечает. Чутким сердцем своим она понимала, что эта любовь ничего ей, кроме горечи, не принесет. Но как погасить страсть великую? Ходила она к колдунье в Дубовое Займище, просила зелья отворотного. Колдунья поила ее настоем из «волшебных» трав, шептала заклинания, и Малуша на некоторое время успокаивалась. Но проходили дни, и вновь тревога вступала в ее душу...
На празднике Купалы Малуша была печальна: подруги все делали, чтобы развеселить ее, но безуспешно. Она и венок-то не хотела плести, да девушки уговорили.
Святослав же в тот день веселился от души и вроде бы по-прежнему не замечал Малуши. Решительный и твердый в делах ратных, князь был робок в любви, не сильно искушен, а следовательно, и не защищен от поражения. Поражений же Святослав не признавал.
И теперь, когда молодой князь, зорко следивший за Малушей, безошибочно узнал в волнах ее венок, страх и радость охватили ее: чуть было сознание не потеряла от счастья.
Потом, взявшись за руки, водили они хороводы, и Малуше казалось, что летит она над землей, словно песня звонкоголосого жаворонка. Святослав катал ее на качелях, осыпал цветами.
К вечеру запылали костры. Парни подносили подарки суженым своим.
Святослав надел на шею Малуши ожерелье из зеленого бисера с рубинами и смарагдами...
К полуночи Святослав загорелся мыслью отыскать Перунов огнецвет, под которым, по преданию, зарыт клад. Парни в страхе отшатнулись – шутка ли, пойти против нечистой силы, против кикимор и леших! На смерть, в любую битву – пожалуй. А тут нет, не приведи Сварог!
Святослав взял Малушу за руку, спросил насмешливо:
– Ну а ты, девица-краса, пойдешь ли со мной волшебный цветок искать?
– Пойду, куда прикажешь. – Она задорно сверкнула очами. – Кто ж с соколом таким нечистой силы убоится? Пошли, князь!
Долго бродили они в чаще лесной. Водил их бесовский огонек и завел в дебри, где медвяный дух был так силен, что они чуть было не задохнулись. Треснул сук в буреломе, Малуша в страхе прижалась к Святославу, и враз померк таинственный огонек, что водил их по лесу...
Заря-заряница умыла влюбленных чистой росой, хотела задержать Ярило-солнце, да не смогла. Кончился праздник, наступал день трудов земных...
Глава седьмая
Несчастье – дитё зла
На следующий день примчались на запыленных конях витязи передовой сторожи, валясь с ног от усталости, прокричали хриплыми голосами:
– Беда, князь! Печенеги прорвались на Русь у городища Немирова! Порубили смердов на ниве, пожгли хлеба. Воевода Искусеви заманил их в лес, прижал к болоту. Третий, день идет сеча. Истекают кровию вой твои! Подмоги просит воевода... По сказкам, другая рать печенежская норовит пройти. Ополчились смерды, да продержатся ли?
– Броню! Коня! Дядька Асмуд, подымай дружину!..
Через некоторое время две тысячи комонников, на рысях миновали мост через Лыбедь и исчезли в степи.
Малуша неистово молилась Сварогу и Перуну о даровании победы князю. Просила защитить его от вражьего копья, меча и меткой стрелы.
Дворовые кумушки-завистницы шептались по углам, разносили весть о любовных делах князя и ключницы. Нянька княжеских сыновей, старая Ненила, ранее ласковая с Малушей, посуровела к ней. Но та не замечала ничего.
Святослав вернулся на десятый день: на броне следы от ударов мечей и копий, левая рука обмотана тряпицей и покоится на перевязи. Дружинники пригнали полуторатысячный табун низкорослых и мохнатых печенежских коней. Окруженные стражей, еле волоча ноги, шли связанные по рукам, с петлями на шеях пленные. Сотни четыре. Лица их были свирепы, но в глазах застыла смертная тоска.
Малуша встречала дружину в тысячной толпе киевлян, на Горе, неподалеку от капища Перунова. Святослав увидел ее, соскочил с коня, подбежал, обнял при всех здоровой рукой и порывисто поцеловал. Толпа весело зашумела. От князя пахло степной пылью и горьким полынным дымом костров.
– Эй, отроки! – весело крикнул Святослав,– Подайте лунницу[84]84
Лунница (др.-рус.) – ожерелье
[Закрыть] княжны печенежской!
Отроки поднесли нашейное украшение тончайшей работы, сотканное из золота. Молодой князь надел его на Малушу, еще раз крепко поцеловал и воскликнул:
– Проси чего хочешь: лалы, бисер аль самоцветы иные, злато аль серебро! Ничего не жаль для красы твоей!
Малуша потупилась, покраснела. Потом подняла дивные очи свои, сказала тихо:
– Не надобно мне ничего, кроме любви твоей, сокол мой ясный. Хочу только, чтоб отпустил ты полон печенежский на все четыре стороны.
Просьба оказалась столь неожиданной, что все отшатнулись. Толпа враждебно загудела. Святослав нахмурился, спросил:
– Желание твое непонятное. Злой ворог немало крови-руды русской пролил. Как же мне щадить его?.. Судьба полонянников в деснице бога Велеса. Он обрек их шагать по невольничьей сакме в стороны полуденные!
– А много ли в последней битве ворогов побил ты, светлый князь? – спросила Малуша.
– Хоть и не затейник ты, однако ж сколько слез детинских да вдовьих прольется у дымных костров в Диком поле... В битве ты показал силу, покажи теперь ласку. Брось в станы печенежские горсть добра, авось да взойдет оно нивой дружбы.
Князь, окружавшие его воеводы, гриди и охочие люди стояли, пораженные непривычной речью. Святослав первым пришел в себя, улыбнулся и, топнув ногой, воскликнул:
– Казнить так казнить! Миловать так миловать! Ан быть по слову твоему! Подать пред очи мои князя печенежского Радмана!
Гриди волоком притащили получше других одетого кочевника, поставили на колени перед князем. Святослав подошел, поднял врага и громко сказал по-печенежски:
– Бек-хан и вой твои, забыл я зло, сотворенное вами. Милостью бога Перуна и жены сей, – он указал на Малушу, – дарую живот вам и волю!
Радман вновь, теперь уже по собственной воле, рухнул на колени. Упали ниц и все его воины.
– Герой, рожденный для славы! Барс, поражающий врага! – воскликнул бек-хан, протягивая руки к Святославу. – Ты, не знающий поражений на поле бранном, сегодня победил и наши сердца! Отныне они до смерти в твоих могучих руках. Клянусь славой великого рода моего, клянусь ветром свободы и жизнью детей своих, отныне не враг ты мне, а друг! И меч мой никогда не поднимется на Урусию, и копье мое отныне не повернется в твою сторону! – И Радман хотел поцеловать сапог Святослава.
Тот не дал, поднял с колен здоровой рукой:
– Встань, доблестный бек-хан!
– Ты бог битвы, урусский каган! – разом вскричали печенеги. – Отныне ты брат нам! Сабли и копья наши в твоей могучей руке! Слава тебе, урусская княжна! Молва о мудрых речах твоих станет песней. Наш род будет ее петь у своих костров!
Святослав приказал вывести пленных за стены города, перевязать их раны и накормить. А чтобы не обидел кто, выставил сильную охрану...
Наутро печенежский отряд на подаренных князем конях в сопровождении трех дружинников покинул киевские пределы. Вернувшиеся через четыре дня гриди рассказали, что на границе печенеги враз соскочили с лошадей, поцеловали землю и поклялись никогда не воевать ее...
А в тот вечер гулял люд киевский, пил меды хмельные из великокняжеских погребов и славил великую мудрость князя Святослава Игоревича. Дружинники звенели кубками: похвалялись вой русские подвигами на поле недавней брани, поминали павших и гремели «славу» своему удачливому в битвах военачальнику.
Счастливая Малуша сидела слева от князя-витязя в гриднице за братчинным столом. Хмельной Святослав обнимал ее, целовал в уста и хмелел от этого еще больше...
Весть о поступке свирепого «урусского кагана» молнией облетела Дикое поле. Тысячи всадников приезжали издалека, только чтобы посмотреть на отпущенных. Как и говорили недавние пленники, песни звучали у кочевых костров о благородстве северного правителя и мудрой женщины с золотым сердцем.
Но два печенежских бек-хана, властители округов, обитавших по правому берегу Днепра – Куря с Илдеем, – скрежетали зубами от ярости, точили сабли на русскую голову. Однако род Радмана был одним из самых могущественных в числе восьми родов, кочевавших в Причерноморских степях. Сторонников у Радмана было много, поэтому Куря и Илдей побаивались, как бы не получить в случае размолвки удара в спину и не потерять богатые пастбища.
Так благодаря Малуше Русь приобрела сторонников в стане врагов, а киевские пределы на целых четыре года были избавлены от опустошительных набегов...
Тем временем из Царьграда приходили недобрые вести. Наступил август месяц, а император Константин все еще не принял северную царицу. Узнав об этом, Святослав взъярился и, если бы не Асмуд, немедленно повел бы свои железные дружины в пределы ромейские. Доглядчики проведали об этом и не замедлили донести императору. Константин понял, что испытывать дальше терпение грозного соседа небезопасно, и пятого сентября 958 года принял Ольгу в Большом дворце...
Святослав редко бывал в Киеве. С охранной дружиной объезжал он приграничные города, проверяя боевую готовность застав и полков. По осени, после уборки урожая, князь с воеводами проводил сборы ополчения, обучая смердов строю и науке ратной. В горнице Малуши Святослав появлялся нежданно негаданно, веселый и порывистый.
Но счастье влюбленных продолжалось недолго. По зиме санным обозом возвратилась на Русь из далекого Царьграда великая княгиня земли Киевской и всея Руси Ольга, принявшая на чужбине иную веру и непривычное для русского уха имя – Мария.
Святослава в это время в Киеве не было – с переяславской дружиной он бросился в угон за хазарской ордой, которая пожгла сторожевые городки на юго-восточной границе Руси и увела в полон много народу.
Когда кумушки донесли Ольге о любви ее сына к ключнице, она, и без того раздраженная неласковым приемом в Царьграде, решила выставить «негодницу» на мороз, а то и предать казни в назидание другим, однако остереглась сыновьего гнева, хотя была уверена, что против воли родительницы Святослав, воспитанный в языческом духе почитания, никогда не пойдет. И все же, кто знает, как поступит ее стремительный и непреклонный отпрыск. К тому же жалостливая нянька Ненила несколько притушила гнев великой княгини, сообщив, что преступница носит под сердцем плод княжеской любви. Малушу заперли было в чулан на хлеб и воду, приставив к дверям стражу, но потом Ольга приказала перевести пленницу в теплую подклеть. Велела кормить и поить сытно, но свободы не давать – княгиня-мать решила дождаться Святослава.
Предслава, супруга князя, от унижения хотела заколоть себя и разлучницу. Она понимала, что Святослав, который и ранее был холоден к ней, теперь охладеет совсем. Поженили их, когда Святославу было всего пятнадцать лет, а Предслава, княжна угорская, была и того моложе. Князь никогда и ничем не попрекал супругу свою, бранным словом не обижал, но и внимания почти не уделял. Иногда присылал из походов дары богатые, но, возвращаясь в терем, зачастую и не заходил к ней.
Когда молодой князь вернулся, мать-княгиня учинила ему суровый допрос. Святослав, несмотря на почитание родительницы, наотрез отказался сослать Малушу в дальний погост под Любечем, отобрав при рождении дитя. По обоюдному согласию решили: Малушу удалить из дворца в пожалованную ей навечно деревню Будятино, что в тридцати верстах от Киева. Воеводе Вуефасту было наказано снабжать «болярыню» Малушу съестным припасом, обеспечить охраной – что тот и сделал.
Святослав неподалеку построил охотничий стан, и не было месяца, чтобы он не навестил ладу свою. Прилетел как на крыльях, когда узнал о рождении сына.
– Родная моя! – говорил он, стоя на коленях около Малушиной кровати. – Одарила меня счастием! Нарекаю сыну сему миром володеть. Имя ему будет Володимир!
Мучимая ревностью Предслава однажды подослала к сопернице лихого человека. Во время прогулки он пытался пырнуть ножом княжича, но Малуша успела перехватить преступную сталь, и разбойник со сломанной рукой пал под ноги разъяренной матери. А тут и охрана подоспела...
Святослав узнал, кто нацелил убийцу на его младшего сына. В гневе он едва не зарубил Предславу.
Помешали княгиня Ольга и дети. Но князь не забыл вероломства супруги и через четыре года, уже будучи великим князем, сослал ее в пожалованное под Киевом селище, которое люди стали называть Предславиным.