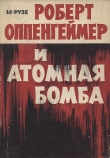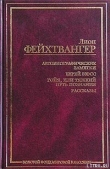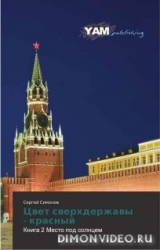
Текст книги "Цвет сверхдержавы - красный 2 Место под Солнцем(СИ)"
Автор книги: Симонов Сергей
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 84 страниц)
– А, понятно, – кивнул Хрущёв.
– Дальше «Стэнфорд», благодаря размеру своего пакета акций, стал членом Совета директоров IBM, – Серов довольно ухмыльнулся. – Сам он на заседаниях Совета директоров не присутствует, у него имидж затворника, так проще. Вместо него там присутствует его доверенный человек. Само собой, наш сотрудник. Его американский псевдоним я тебе говорить не буду, а настоящее его имя – Николай Иванович.
– Майор? – понимающе спросил Никита Сергеевич.
– Бери выше! Полковник.
Оба расхохотались. Разговор происходил в кремлёвском кабинете Хрущёва, уже под вечер.
– Резидент – это, вообще-то, должность генеральская, обычно. Сам он никаких тайных операций не проводит, – пояснил Серов. – Он возглавляет нашу нелегальную резидентуру в компании IBM.
– То есть, он у тебя там не один? – уточнил Хрущёв.
– Конечно! Сначала он просто передавал нам конфиденциальную информацию. А потом попросил руководство IBM пристроить на работу своего «племянника», – усмехнулся Иван Александрович. – Поскольку он – «человек Стэнфорда», руководство компании пошло ему навстречу, и «племянника» взяли на незначительную должность – младшим менеджером по персоналу.
– Старший лейтенант, наверное? – спросил Никита Сергеевич.
– Уже капитан, – многозначительно ответил Серов. – Парень оказался смышлёным и нацеленным на успех. К тому же, вскоре его начальник получил приглашение на работу в другую компанию. Одну из наших транспортных. Надо было место освободить. В общем, «племянник» Николая Ивановича сейчас уже старший менеджер по персоналу в IBM.
– Неплохо! – одобрил Хрущёв.
– Неплохо?!! Да это гениально! – возмутился Серов. – Ты пойми, он подбирает, кого брать на работу в IBM!
Только тут до Никиты Сергеевича дошёл весь комизм ситуации. Он даже зааплодировал.
– Представляю, какой коллектив он подобрал! – засмеялся Хрущёв.
– Не так много, – ответил Серов. – Но он взял нашего человека на очень важную должность, что как раз и позволило добыть накопители на жёстких дисках, которые ты видел у Лебедева, и полную информацию по ним.
– Хочешь сказать, он – главный конструктор в IBM? – спросил Хрущёв.
– Нет. Он – технолог.
– Технолог?
– Ну да, технолог, – Серов торжествующе откинулся на спинку стула. – Он одновременно имеет доступ к рабочим чертежам, схемам, а главное – ко всем техпроцессам. Все конструкторские и технологические секреты IBM теперь нам доступны. Вот он – майор. Но это – пока.
– Вот это да! Ну, молодцы... Вертите дырки для орденов, – сказал Никита Сергеевич. – Но всё-таки не понимаю, как же вы эти жёсткие диски раздобыли? Если они в США ещё даже не продаются?
– Очень просто! – пояснил Серов. – Во-первых, у американцев другой принцип проектирования. 90% изделия – покупные элементы. И лишь 10% изготавливаются фирмой-разработчиком. В случае с IBM это не совсем так, у них слишком передовые разработки. Но общая тенденция соблюдается и там. Во-вторых, производственная кооперация и субподрядчики. Зачем делать самому такие работы, как изготовление механических частей, детали, получаемые на токарном или фрезерном станке? Их можно заказать у разных субподрядчиков, а у себя только собрать готовые детали в изделие.
– Ну, да, у нас тоже так делают... – Хрущёв недоумевающе взглянул на Серова.
– У нас процент производственной кооперации пока ещё гораздо меньше, – ответил Серов, – но дело не в этом. У нас, благодаря нашему засланному технологу, есть копии рабочих чертежей и все секреты техпроцесса. Мы просто заказываем детали у субподрядчиков, которые даже не подозревают, что именно они делают. Вывозим их из США сначала в Латинскую Америку, оттуда через Европу транзитом переправляем в СССР, и здесь собираем по оригинальному техпроцессу. Да, пока единичные экземпляры в лабораторных условиях. Да, получилось не сразу, пришлось помучиться. Но результат ты видел сегодня.
– Обалдеть! – восхитился Хрущёв. – А почему эти детали у нас делать нельзя?
– Постановление нужно, – ответил Серов. – Финансирование. Предприятие выделить, производственные мощности ведь нужны.
– Ясно, организуем, – сказал Никита Сергеевич. – А как же электронная часть? Её ведь IBM сама делает?
– Так в электронной части никаких уникальных деталей нет, – пояснил Серов. – Будь там микросхемы их собственной разработки – была бы проблема. Но микросхем у американцев пока нет. Обычная рассыпуха. Мы-то уже вовсю микросборки используем, а у них пока и этого нет. Дальше. Схемы мы через нашего технолога получили. Разводку печатных плат – тоже. Ну, и какие проблемы всё это собрать? Пока что и в IBM с высокими технологиями не очень. Ферромагнитное покрытие на эти диски наносят вручную. А в качестве покрытия используют краску, которой мосты красят.
(Любопытно, диски красились той же краской, что и мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Был разработан курьёзный способ нанесения равномерного для всех дисков слоя. В бумажные стаканчики наливали равное количество краски, на них надевали шелковые чулки и этим нехитрым способом наносили покрытие. Этот метод просуществовал много лет, пока процесс не был автоматизирован. http://kvadra.org/?p=964 Высокие технологии...)
– Молодцы! – похвалил Никита Сергеевич.
– Проблемы есть, – признал Серов. – С качеством. Пока собирают инженеры в лабораториях ИТМиВТ – всё работает. Как только передают на серийный завод – начинается бардак. Тут же появляются эти грёбаные рационализаторы, начинают «упрощать», «улучшать», «удешевлять»... Десятки отступлений от документации, даже в схемах!
– Одного такого я сам, лично, спрашиваю: «Зачем меняли схему? Кто разрешил?»
– А он мне отвечает: «Так собирать проще, и дешевле выходит.»
– Я ему: «Так ведь устройство из-за этого фактически не работает»
– А он меня даже не понимает: «Как это не работает? Всё крутится, всё жужжит, сигнал есть.»
– А то, что сигнал искажается и информация записывается на диск некорректно, с ошибками, его не е...т, он за свою «рацуху» премию уже получил! – возмущённо рассказал Серов.
– Вот так и работаем, – вздохнул Хрущёв. – И чем кончилось?
– Премию получили и пропили. Я вызвал на Лубянку директора завода, – ответил Серов. – Объяснил ему важность соблюдения технологии производства. Потом позвонил на этот завод, начальнику первого отдела, и запросил отчёт. Интересно было, как директор с «рационализатором» разбираться будет.
– Ты этого директора в КПЗ пару дней продержал, что ли? – спросил Хрущёв.
– Да нет. Всего то два часа в приёмной, – пожал плечами Серов. – Правда, под конвоем.
– Директор, когда приехал обратно на завод, собрал в Актовом зале всех «рационализаторов», и пообещал, что лично, на своей служебной машине, будет отвозить в Комитет любого, кто посмеет что-то в конструкции «улучшить», – Серов усмехнулся. – Но я же не могу каждого директора в приёмной под конвоем держать! Да и не всегда это нужно.
– М-да... Надо как-то делить продукцию по важности, – сказал Никита Сергеевич. – Чтобы люди, да и руководство, знали, куда «рационализаторов» допускать можно и нужно, а откуда – гнать ссаными тряпками. Надо же понимать, что и конструкторы, бывает, ошибаются. И рабочие иногда могут дельное предложение внести. Сложный вопрос ты поднял, Иван Александрович. Думать будем.
– А у меня почти все вопросы такие. Сложные... – ответил Серов. – Я ещё что доложить хотел. Вышел-таки на нашего подставного «инвестора» Гордон Мур.
– Да ну? – обрадованно вскинулся Хрущёв. – И что?
– А что... Организовали мы там свою компанию по разработке электроники, – ответил Серов. – Мура назначили научным директором. Компания расположена в городке Санта-Клара в Калифорнии, назвали её просто и без затей – «Интел».
(После ухода от Шокли, Гордон Мур, Роберт Нойс и остальные 6 «отцов-разработчиков» американской электроники до 1968 года работали в компании Fairchild Semiconductor. В АИ генерал Серов решил этот этап пропустить. :) )
– Отожгли!... – усмехнулся Хрущёв.
– Дело поставлено так: наши люди говорят, что нужно сделать, и контролируют, – рассказал Серов. – Американцы решают, как лучше сделать. Наши, разумеется, законспирированы, официально ни одного русского в компании нет. Мы постепенно вводим наших инженеров в процесс производства и в исследования, но работа только началась, да и с кадрами есть определённые проблемы.
– У нас, что, умных инженеров нет? – спросил Хрущёв.
– Умных-то полно! А вот чтобы умные, и одновременно хорошо английский знали, действительно хорошо, на уровне граждан США, да чтоб говорили без акцента, это проблема, – пояснил Серов, – Борьба с космополитизмом нам ещё не раз аукнется. Сейчас мы их готовим в наших учебных заведениях и по нашим методикам, а потом ещё приходится стажировать их в Америке, чтобы усвоили местную культуру, манеру общения, манеру говорить... Сложно, долго, недёшево, между прочим... На западе многие аспекты для наших людей совершенно незнакомы. По телефону позвонить – и то проблема!
– Да-а... – согласился Никита Сергеевич.
– Я ещё вот о чём хотел доложить, – сказал Серов. – Точнее, хотел порадовать...
– Давай, давай, порадуй старика, – усмехнулся Хрущёв, уже предвкушая очередную шпионскую байку.
Серов не разочаровал.
– Группа информации, само собой, не только документы распечатывает, – сказал он. – Она их ещё и просматривает, сортирует, каталогизирует. Заодно Селин и в электронную энциклопедию заглядывает. Я его попросил поискать там информацию об ЭВМ, всяких высоких технологиях, особенно обратить внимание на иностранные компании, которые образовываются в 50-х. Всё, как ты и говорил тогда, Никита Сергеич.
– В общем, Селин накопал информацию на троих человечков, – рассказал Серов. – Двое из них – Кеннет Ольсен и Харлан Андерсон, работали в Исследовательском центре имени Линкольна при Массачуссетском технологическом институте. Делали там ЭВМ, вроде бы по заказу ВВС США. Работа шла с 1952 года. За 5 лет парни поднакопили опыта и желания создать собственный бизнес, но, как водится, всё упиралось в недостаток стартового капитала. Тут и нарисовался около них наш товарищ...
– Так-так, – улыбнулся Хрущёв.
– Разговор был исключительно предметный. Транспортная компания All-American Trucking Co – это мы после покупки McLean Trucking Co так переименовали – вложила 70 тысяч долларов в перспективных молодых людей, заказав им мини-ЭВМ для управления логистикой перевозок.
(В реальной истории Ольсен и Андерсон получили 70 тыс. долларов от венчурного фонда American Research and Development.)
– Эти 70 тысяч долларов – стоимость 70% акций новой компании Digital Equipment Corporation. То есть, в нынешней истории мы, Союз Советских Социалистических Республик, фактически владеем компанией, в той истории занимавшей второе место после IBM на мировом рынке компьютеров в 70-х-80-х.
– Мощно! – Никита Сергеевич одобрительно показал большой палец. – А третий кто? Ты сказал – троих нашли?
– Третий – брат Кена Ольсена Стэн, – пояснил Серов. – Вот, смотри, что в их активе в недалёком будущем.
Он раскрыл свою папку и начал одну за другой выкладывать на стол перед Хрущёвым фотографии:
– Первый их компьютер PDP-1, в той истории сделан в 1960 году, мы надеемся, что в этот раз получится быстрее.
(Первое время компания DEC разрабатывала и продавала элементарные модули для вычислительной техники http://alasir.com/articles/alpha_history/index_rus.html)
– Между прочим, он уже имел быстродействие 100 тысяч операций в секунду. Затем у них были несколько неудачных машин, пока в 1964м не появился PDP-6, 36-битная машина с разделением времени. Следующая их машинка, довольно-таки удачная – PDP-7, тоже 1964й год. На ней в 1969м «той истории» была написана первая версия операционной системы, которая стоит на твоём ноутбуке, и которую сейчас пытается запустить Лебедев на наших ЭВМ.
– Ну, и дальше, довольно-таки удачная разработка PDP-8, 1965 год, затем были PDP-9 и PDP-10, 1966 года, и в 1970-м они сделали невероятно удачную PDP-11, 16-битную машину, которая продержалась на рынке около 20 лет. Кстати, очень многие решения DEC в «той истории» копировались в наших ЭВМ 1970-х. Сейчас мы не собираемся их копировать, но сам факт свидетельствует о потенциале этих разработчиков. Хотя некоторые их решения, вроде 12-битных и 18-битных архитектур, с высоты наших сегодняшних знаний будем приводить к 16 битам с самого начала.
– А почему не 64 или хотя бы не 32 бита? – поинтересовался Хрущёв, уже поднахватавшийся компьютерной терминологии при общении с Лебедевым и другими разработчиками. – Сергей Алексеевич, к примеру, считает, что бОльшая длина слова увеличивает быстродействие.
– Сергей Алексеич, конечно, голова, – пояснил Серов. – Только он привык мыслить категориями ЭВМ величиной с дом. А тут предполагается делать относительно небольшие и дешёвые ЭВМ, величиной с холодильник.
– Очень неплохо, – покивал Хрущёв, разглядывая фотографии. – А как вы собираетесь запрет на экспорт и будущие ограничения КОКОМ обходить?
– А мы сразу предложили Ольсену и Андерсону с целью удешевления вынести сборочное производство в Южную и Юго-Восточную Азию, – усмехнулся Серов. – Сказали им, что у нас там есть много деловых контактов, и трудовые ресурсы там дешёвые. Они согласились. А при сборке ЭВМ за границей, сам понимаешь, КОКОМ за всем уследить не сможет. Ну и, опять же, с IBM конкурировать придётся, чем ниже будет цена одного экземпляра машины, тем проще.
– Ну, вы молодцы, такие операции провернули... – одобрил Никита Сергеевич. – А у нас, как обычно, левая рука не знает, что делает правая. Вон, в прошлом году, сделали лазер. Сразу в двух организациях – в ГОИ, и в ФИАНе, независимо друг от друга. Всё потому, что ГОИ – институт военный, прикладной наукой занимается, а ФИАН – фундаментальной. Ты только представь, насколько легче было бы им работать, если бы они делали эту работу совместно. Или, хотя бы, имели возможность обмениваться информацией.
– А ведь, между прочим, твои люди решают, какую информацию и по какой степени секретности засекречивать, – нахмурился Хрущёв. – Давай решать, как сделать, чтобы секретность развитие нашей науки не тормозила. А то будет, как с электрофотографией. Сделали – и сразу засекретили, как бы чего не вышло.
– Есть такой грех, – признал Серов. – Любят у меня секретить всё, что надо и не надо. Но, если подумать, можно ведь как сделать... – он задумался... – Погоди-ка! А ведь в закрытых организациях наши секретчики каждую тетрадку по каждой работе регистрируют и в журнал записывают. Надо составить общесоюзный реестр научных работ, в том числе и закрытых.
– Ну, и будет твой реестр совершенно секретный, – возразил Хрущёв. – И кому он нафиг нужен?
– Не, ты дослушай, – пояснил Серов. – Предположим, ситуация, как ты описал. Секретчик, при регистрации работы, проверяет по реестру. Если существует подобная открытая работа, её результаты могут быть полезны людям, работающим по закрытой тематике, так?
– Гм... конечно!
– Тогда вменяем в обязанность секретчику информировать исполнителей об открытых работах сходной тематики, – предложил Серов. – А они уже, скажем, через Академию Наук, запросят информационные материалы. Надо это ещё с Келдышем обсудить...
– А тем, кто по открытой тематике работает, как это поможет? – спросил Никита Сергеевич. – Нам народное хозяйство поднимать надо.
– Тут сложнее, – признал Серов. – Может, Мстислав Всеволодович что подскажет?
Келдыш действительно нашёл решение: консультации по теоретическим вопросам. Авторы открытых работ получили возможность общаться с представителями закрытых НИИ, задавать им теоретические вопросы, не вдаваясь в секретную суть конкретной реализации. Хотя затем было допущено и обсуждение технологий двойного назначения, хотя и ограниченное.
Прокладка линий связи требовалась не только военным. Всё функционирование народного хозяйства страны во многом определялось эффективностью связи и скоростью передачи данных, на основе которых осуществлялось планирование. Население тоже необходимо было обеспечить связью. Если с населением вопрос мог быть решён при помощи мобильной связи, так как большая часть переговоров населения была местная, то для планирования, для функционирования ОГАС требовались именно междугородние каналы передачи данных.
Для создания всеобщей сети связи вначале хотели использовать военную ВЧ-связь. Но у неё были свои ограничения – малое число каналов, специфические особенности аппаратуры, недопустимость полной загрузки на продолжительное время, иначе могли быть проблемы с прохождением приказов.
Да и сама проводная телефонная связь между городами на тот момент имела слишком малую пропускную способность. Поэтому было принято решение о развёртывании сети связи по радиорелейным линиям.
Эти линии создавались в двух основных вариантах. В первом варианте связь осуществлялась при условии прямой видимости. В этом случае можно было создавать многоканальные линии с большой пропускной способностью.
В середине 50—х годов в СССР было разработано семейство радиорелейной аппаратуры «Стрела», работавшей в диапазоне 1600-2000 МГц: «Стрела П» – для пригородных линий, обеспечивающих передачу 12 телефонных каналов; «Стрела Т» – для передачи одной телевизионной программы на расстояние 300—400 км «Стрела М» – для магистральных линий емкостью 24 канала и протяжённостью до 2500 км.
На аппаратуре «Стрела» был построен ряд первых отечественных радиорелейных линий (РРЛ): Москва – Рязань, Москва – Ярославль – Нерехта – Кострома – Иваново, Фрунзе – Джалалабад, Москва – Воронеж, Москва – Калуга, Москва – Тула.
Затем была разработана аппаратура Р-60/120, позволявшая создавать 3—6– ствольные магистральные линии длиной до 2500 км для передачи 60—120 телефонных каналов и на дальности до 1000 км для передачи телевизионных программ. Первые образцы аппаратуры были собраны на Опытном заводе НИИ Радио, и установлены на линии Москва – Смоленск. Серийное производство аппаратуры было начато на военном заводе в Днепропетровске. Радиорелейные линии на базе аппаратуры Р—60/120 были построены в различных районах СССР.
Одной из первых и, пожалуй, самой протяженной была линия Москва – Ростов-на-Дону. Оборудование типа Р-60/120, работавшее в диапазоне 2 ГГц, было предназначено для внутризоновых РРЛ. Одновременно создавались модемы, пригодные для передачи цифровых данных по радиорелейным линиям, а аппаратура связи дорабатывалась для возможности сопряжения с модемами. (АИ)
Для магистральной связи в период 1953-58 гг в НИИ Радио была создана аппаратура Р-600 «Весна». (Аппаратура, работавшая в диапазоне 3,6-3,9ГГц, имела 6-8 стволов связи, первоначально по 240 каналов в стволе, затем по 360 на аппаратуре Р-600М, и по 600 каналов на модификациях Р-600 2М и «Рассвет»). В этих модификациях один ствол изначально резервировался для передачи цифровых данных. (АИ) Серийное производство комплектов было начато в Ростове-на-Дону на заводе «Электроаппарат».
Для связи с Дальним Востоком с начала 1960-х разрабатывалась магистральная система связи большой ёмкости «Восход». (Аппаратура «Восход» работала на тех же 3,6-3,9МГц, но уже имевшая 8 стволов по 1020 или 1920 телефонных каналов, в зависимости от варианта размещения аппаратуры – на земле или наверху башни.) При проектировании также изначально закладывалась возможность передачи цифровых данных (уже не АИ, а исторический факт). Вся аппаратура выполнялась на полупроводниковой элементной базе. Станции связи Р-600 и «Восход» также использовались для передачи телевизионного сигнала.
Для связи с отдалёнными малонаселёнными и горными районами, куда тянуть кабельную связь было однозначно нерентабельно, строились линии тропосферной радиорелейной связи. Они использовали отражения сигнала в верхних слоях тропосферы. Такая связь имела значительно меньшее количество каналов и требовала более мощных передатчиков, зато «добивала» далеко за горизонт.
Первые серийные образцы аппаратуры «Горизонт-М» появились в 1963 году, после чего в течение 5 лет была построена линия дальней тропосферной связи «Север». Аппаратура постоянно модернизировалась, увеличивалось количество доступных каналов в стволе, улучшалась помехозащищённость.
По экономическим показателям радиорелейные линии связи становились дешевле спутниковых уже при сроке эксплуатации от двух лет и более. При том, что спутниковую связь ещё предстояло создать.
На базе аппаратуры тропосферной связи была проложена радиорелейная телефонная линия, соединившая Москву и Дели через горный массив Гиндукуш. (в реальной истории построена в 1981 г).
Для быстроты развёртывания линий связи и снижения объёмов капитального строительства аппаратуру радиорелейной связи начали делать в корпусах стандартных контейнеров. (В реальной истории к этому пришли только сейчас.)
Развёртывание линий связи производилось по утверждённому Госпланом комплексному плану «Дорога и связь в каждый дом». Технически аппаратура и жилые контейнерные дома для персонала доставлялись на ближайшую станцию железной дороги, либо речным или морским транспортом. Со станции на место установки контейнеры доставлялись автомобилями, либо, в самые непроезжие места Сибири, забрасывались дирижаблем. Аналогично дирижаблем перевозилась в сборе и устанавливалась антенна либо мачта. При таком способе развёртывания сроки ввода в строй очередных станций определялись скоростью сборки аппаратуры на заводе, и скоростью застывания бетонного фундамента антенной мачты. Потребность в аппаратуре по стране в целом оценивалась в 2-3 тысячи комплектов в год (цифры современные, т.е. для начала 60-х – с большим запасом)
Начатая в 1957 году программа создания линий связи предусматривала к 60-му году соединить в единую радиорелейную сеть все города европейской части страны до уровня областных центров, к 1963 году – до уровня райцентров. Аналогичную сеть к 1962 году планировалось создать на Дальнем Востоке. Затем с 1963 по 1965 год обе сети планировалось соединить магистральной радиорелейной линией, которую на 1957 год ещё предстояло разработать. До того времени для обмена экономической информацией создаваемой системы ОГАС предстояло использовать военные линии связи.
Принципиальным решением, принятым на уровне высшего руководства, было объединение всех телефонных сетей страны – проводных, радиорелейных и сотовых, в единую сеть с общим пространством номеров. Для конечного пользователя это означало возможность звонить с любого номера на любой номер, по единому городскому либо междугороднему тарифу. Также для создававшейся мобильной телефонной сети внутри СССР не предусматривалось в принципе понятие «роуминг».
– Гражданин Советского Союза имеет одинаковые права в Москве, в Бресте и во Владивостоке, – сказал по этому поводу Хрущёв. – Приехав отдыхать в Крым или на Кавказ, гражданин не должен платить за разговоры дороже, чем он платит дома. Если он звонит домой в Урюпинск – пусть оплачивает как межгород, а если звонок местный, то и платить должен по местному тарифу, одинаковому по всей стране. Как это организовать технически – пусть решают инженеры.
33. Греческое сокровище.
Президент Эйзенхауэр склонился над картой Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. Маленькое пятнышко Израиля и чуть большее – Ливана, на этой новой карте окружал зловещий алый полумесяц. Новое мусульманское государство охватывало огромную территорию. Что ещё хуже – все три стратегически важных нефтепровода от Киркука и Дахрана проходили по этой «красной пустыне». Соединённые Штаты относительно мало зависели от этих нефтепроводов – их танкеры возили нефть из Басры, Дахрана и Кувейта вокруг Африки. А вот англичане получали нефть главным образом из иракского Киркука по двум нефтепроводам, идущим через Сирию. Немудрено, что Макмиллан бился в истерике.
«Хорошо ещё, что остались Оман и Эмираты», – подумал Айк: «Да и в Саудовской Аравии обстановка стабилизировалась. Хотя хитрая лиса Таляль что-то крутит, но нефть поставляет исправно, и при этом не транжирит деньги направо и налево, как покойный Сауд»
Сейчас президента больше волновала даже не ОАР, и не Ливан, где местный Национальный фронт прессовал прозападного президента Камиля Шамуна, собиравшегося поддержать «доктрину Эйзенхауэра». Президента беспокоили две 500-километровые окружности, одна с центром в районе Порт-Саида, другая — в сирийской Латакии.
Это были приблизительные радиусы действия советских МиГов, (с учётом некоторого запаса топлива на ведение воздушного боя) базировавшихся в Египте и Сирии. Фактически Советы перекрывали теперь всё Восточное Средиземноморье, а с самого западного египетского аэродрома Ас-Салум МиГи не только накрывали Крит, но с подвесными баками доставали до Родоса. А из Албании МиГи легко и непринуждённо доставали до Неаполя, главной базы американского 6-го флота.
Айк, как опытный военачальник, штабист, очень хорошо понимал, что это означает. Это означало, что советские Ту-16 с базы Фаид в зоне Суэцкого канала, имеющие боевой радиус чуть более 3000 км, достанут до Неаполя, будучи прикрыты своими истребителями. А с территории Югославии или Албании достанут и до Гибралтара, даже обогнув с юга Италию, фактически, накрывая ядерным зонтиком всё Средиземное... В том, что, начнись серьёзная заваруха, красные немедленно применят по кораблям 6-го флота ядерное оружие, президент ни на секунду не сомневался. Эйзенхауэр прожил достаточно долго, чтобы быть реалистом.
И зачем, спрашивается, было вбито столько денег в этого прохвоста Тито? Его внезапный политический разворот на 180 градусов в июне 1956 года не выходил у Айка из головы. Только, казалось, его прикормили американскими кредитами, как вдруг Тито словно вожжа под хвост попала. ЦРУ доложило – к сожалению, слишком поздно – что именно Тито сколотил этот невероятный, невозможный геополитический союз СССР, Китая, Индии и Индонезии, красным спрутом занявший две трети Евроазиатского континента. И теперь к нему ещё присоединилась ОАР... Пока входящая в Багдадский пакт Иордания разделяла Сирию и Египет, это было ещё как-то терпимо. Но теперь...
Оставлять этот демарш красных без ответа было немыслимо. Президент отдал приказ двум авианосцам 6-го флота – «Форрестолу» и «Лейк Чемплейн», выполнявшим в восточном Средиземноморье учебную операцию «Haistack Echo», под прикрытием двух крейсеров и 15 эсминцев выдвинуться к побережью Ливана.
Однако президент опоздал. Египетские корабли по ночам уже начали ставить мины, перекрывая акваторию вдоль побережья Ливана. Советская разведка «просчитала заранее», а в реальности просто была предупреждена, что американские корабли будут заходить в Бейрут, якобы с «дружественным визитом». Поэтому на двух сотнях километров вдоль ливанского побережья были скрытно выставлены отдельными минными банками мины КРМ-П.
В гавани Бейрута были так же скрытно установлены с замаскированных под торговые корабли минных заградителей несколько десятков донных мин немецкого образца – ожидался заход авианосца «Форрестол» в Бейрут. Кроме этого, было поставлено некоторое количество обычных якорных мин, также немецких. И вокруг Бейрута ещё до кучи накидали новейших КРМ-П. Предполагалось, что для «демонстрации флага» американцы подойдут достаточно близко к берегу в районе Бейрута, чтобы их корабли были видны из города. Это позволяло оборудовать ловушку, сосредоточив большое количество мин на относительно малой площади.
Всё это минно-торпедное хозяйство было соединено проводами и управлялось с берега. По сути, был создан морской оборонительный район. Если американцы слишком обнаглеют и начнут бомбить Бейрут – их ждала горячая встреча.
Также был приведён в боевую готовность Средиземноморский флот ВМФ СССР, базировавшийся в Александрии и Тартусе (АИ).
Теперь Эйзенхауэру приходилось учитывать фактор советского военного присутствия в восточном Средиземноморье. Поэтому на слегка истеричные требования премьера Макмиллана Айк ответил довольно сдержанно:
– Для нас не столь важны эти нефтепроводы. Если вы хотите решить вопрос военной силой – можете попробовать. Вдруг у вас получится лучше, чем у вашего предшественника? Или вы считаете, что я должен начать третью мировую войну из-за того, что вы переоценили свои силы в Суэцком конфликте? Никто не просил вас туда лезть.
– Но... – Макмиллан даже оторопел. – Вы хотите сдать Ближний Восток коммунистам?
– Разумеется, нет! – ответил Эйзенхауэр. – Но и терять наших парней из-за каких-то арабов особого желания не имею. Я пошлю пару авианосцев 6-го флота поддержать Шамуна во время голосования, но не ждите, что я отправлю своих морпехов в Иорданию. Если ваша разведка прошляпила возможность убрать Набулси, то Соединённые Штаты не собираются доделывать начатую вами работу.
– А Сирия?
– Сирия – это совсем другой вопрос. Это вам не Ливан. Сирия – член мощнейшего
геополитического блока, – ответил президент. – Над сирийским вопросом мы работаем по линии ЦРУ, через Турцию. Там нужен совсем другой подход. Если наша комбинация будет успешной, мы сумеем вернуть заблудшую Сирию в стан демократии и свободы. Но пушечным мясом, разумеется, должны быть турки, а не американцы.
Планы Эйзенхауэра и Макмиллана были описаны в «документах 2012», хотя и не так подробно, как ход Суэцкого кризиса. Но были перечислены как ключевые фигуры с американской стороны, так и те, кого предполагалось устранить в Сирии, и возможные кандидаты на их замещение. Были известны ключевые даты и примерно – привлекаемые американцами силы флота. Знал Серов и о намерении ЦРУ организовать нападение Турции на Сирию.
Поэтому он заранее согласовал с Хрущёвым и Жуковым политическую и военную часть операции. В начатой игре с советской стороны ключевая роль отводилась курдам.
Ещё в 1947 году, после разгрома курдской оппозиции войсками шаха Ирана, уцелевшие остатки курдских повстанцев во главе с муллой Мустафой Барзани перешли Аракс и скрылись в Советском Союзе. Их приняли, поселили в Средней Азии, в Узбекистане, организовали обучение курдской молодёжи, в том числе – подготовку военных кадров. Работу с курдами тогда вёл Павел Анатольевич Судоплатов.