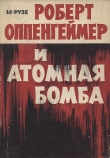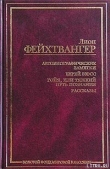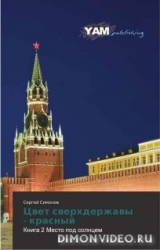
Текст книги "Цвет сверхдержавы - красный 2 Место под Солнцем(СИ)"
Автор книги: Симонов Сергей
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 84 страниц)
С-75 в это время проходил испытания, а «Даль» пока существовала лишь на бумаге.
Зная, что создание ПВО и ПРО не обошлось без больших проблем, за несколько дней до совещания Никита Сергеевич попросил командира особой информационной группы старшего лейтенанта Селина подобрать в «документах 2012» информацию о проблемах с вводом в строй систем ПВО.
– Особое внимание обратите на системы противоракетной обороны, а также на 75-ю систему и «Даль», – попросил Хрущёв. – Меня интересует, какие с ними возникали проблемы и что задерживало их принятие на вооружение. Подборку пришлите мне и Устинову.
Селин представил информацию через 3 дня. Никита Сергеевич изучал её весь вечер. Утром он вызвал Устинова:
– Здравствуй, Дмитрий,Федорович, – приветствовал он вошедшего министра оборонной промышленности, – проходи, садись. Читал подборку Селина?
– Читал, – кивнул Устинов.
– Мысли есть?
– Мыслей много, и все непечатные, – ответил Устинов. – Бардак невероятный, особенно по «Дали». У семи нянек дитя без глаза. Да и по остальным темам есть что улучшить… Я тут сформулировал кое-что, посмотрите…
Хрущёв с интересом изучил записку Устинова с планом мероприятий.
– Молодец, Дмитрий Федорович, почти все узкие моменты учёл, – похвалил он.
На совещание были приглашены как главные конструкторы, и ведущие ученые оборонных НИИ, так и руководители ключевых министерств, на заводах которых создавались комплексы ПВО. Поскольку затея с совнархозами не состоялась, вместо них создавались МНПО, министерства оставались министерствами, а не преобразовывались в Госкомитеты.
Вначале Никита Сергеевич заслушал отчёт об испытаниях ракеты 1Д (В-750) комплекса С-75. К концу 1956 года были завершены бросковые испытания – в ходе которых отрабатывался твёрдотопливный ускоритель первой ступени, а также выполнены пуски телеметрических ракет во все характерные точки зоны поражения. При этом в качестве целей использовались сбрасываемые с самолётов на парашютах мишени с уголковыми отражателями.
Хрущёв предложил Расплетину и Грушину в качестве дальнейшего развития комплекса подумать о его оснащении телевизионно-оптическим каналом наведения.
– Конечно, такая система не может быть всепогодной, если оптический визир будет установлен на СНР, – заранее оговорился Никита Сергеевич. – Зато в боевых условиях пассивная система будет менее уязвима для средств активного противодействия и более устойчива к помехам.
Поразмыслив, Расплетин согласился и обещал «подумать в этом направлении».
– И ещё, чтобы сделать комплекс более устойчивым и всепогодным, – добавил Хрущёв, – вот бы на будущее предусмотреть вариант ракеты с тепловой головкой самонаведения? И иметь в составе комплекса теплопеленгатор. Такая пассивная система наведения повысит боевую устойчивость комплекса. И может работать в более сложных погодных условиях, чем чисто оптическая система.
– Никита Сергеич, предусмотреть такой вариант мы можем, – ответил Расплетин. – Но ведь теплопеленгатора и тепловой головки самонаведения у нас ещё не разработано?
– Для зенитных ракет – да. Надо делать. Но для авиационных такие системы разрабатываются. Свяжитесь с Матусом Рувимовичем Бисноватом, он с удовольствием поделится опытом, – сказал Хрущёв. – Хорошо бы вообще иметь возможность наведения по оптическому и тепловизионному каналу на всех вновь создаваемых ЗРК и зенитно-артиллерийских комплексах. Валерий Дмитрич, – обратился он к Калмыкову. – Поставьте себе в план разработку тепловизионных средств наведения для ЗРК. Они так или иначе всё равно понадобятся. И готовьте проект постановления по этому вопросу.
– Понял, Никита Сергеич, – ответил Калмыков.
– И в создаваемых комплексах необходимо сразу предусматривать возможность широкой модернизации, чтобы можно было по мере устаревания поддерживать их уровень боеспособности и расширять их возможности, – добавил Устинов.
Полигонные испытания всего комплекса должны были начаться по плану в августе 1957 года, но первый удачный пуск «произошёл» уже в январе 1957 года. В это время проводились испытания ракеты для комплекса С-25 ПВО Москвы, оснащённой спецБЧ. В ходе этих испытаний одна из мишеней – бомбардировщик Ил-28 – была «мимоходом» сбита ракетой комплекса С-75.
Такой результат не мог не порадовать Хрущёва. Он помнил, что в «той истории» в августе 1957 года был очередной полёт U-2. Конечно, запущенный в ноябре 1956 года искусственный спутник мог удержать Эйзенхауэра от отправки очередного U-2 в воздушное пространство СССР, но полной уверенности в этом не было. Никита Сергеевич допускал, что осатаневший от серии унизительных провалов и неудач директор ЦРУ Аллен Даллес может уговорить президента рискнуть ещё одним самолётом.
Поэтому Хрущёв попросил Генерального конструктора С-75 академика Александра Андреевича Расплетина и конструктора ракеты Петра Дмитриевича Грушина по возможности ускорить испытания комплекса, намекнув, что, по сведениям разведки, в августе есть вероятность «потренироваться» по реальной цели.
Июльский успех 1956-го, когда ракетчики ПВО Москвы снесли U-2 уже во втором его полёте над территорией Советского Союза, (АИ, см гл. 6) вдохновил всех создателей зенитных ракетных комплексов. Они предметно убедились, что сделанные ими ракеты могут перехватывать не только мишени, но и новейшие вражеские самолёты-разведчики.
Поэтому Расплетин и Грушин намёк Первого секретаря ЦК уловили с полуслова и пообещали сделать всё возможное для ускорения начала испытаний.
Для маршала Бирюзова это также была возможность впервые в мире испытать тактику ракетной засады. О чём он не замедлил сообщить собравшимся.
– Пусть только сунется, мы ему так засадим... – плотоядно ухмыляясь, пообещал маршал.
– Не кажи «хоп», пока не... – осадил его Хрущёв. – У вас, Сергей Семёнович, комплекса ещё нет. Так что не торопитесь. А что у вас по 125-му комплексу? – спросил он Расплетина. – Что-то уже начали делать?
– К маю сделаем аванпроект, в третьем квартале закончим эскизный проект, – откликнулся академик. – Работа только началась, Никита Сергеич, да и доводка 75-й системы очень много сил отнимает.
– Я понимаю, Александр Андреич, – согласился Хрущёв. – Но если будет возможность как-то ускорить работу – буду очень благодарен. На базе ракеты 125-го комплекса разрабатывается морской ЗРК М-1 для крейсеров ПВО. Достройка крейсеров задерживается в ожидании этого оружия.
– Хорошо, Никита Сергеич, постараемся, насколько возможно, ускориться, – пообещал Расплетин.
– Александр Андреевич, а как насчёт самоходной пусковой установки на колёсном шасси? – спросил Хрущёв. – Мы с вами в конце 53-го года такую возможность обсуждали.
– Да, Никита Сергеич, такие работы ведутся, – подтвердил Расплетин. – Пусковая проектируется на шасси грузовика ЗиС-151. Но сейчас необходимо добиться работоспособности комплекса в целом. Когда ракета будет уверенно поражать цель в замкнутом контуре управления, тогда будет не важно, с какой пусковой установки её выпускать. Вот тогда и доведём самоходную пусковую.
– Так я ведь это к тому, что на 125-й комплекс тоже надо самоходную пусковую сделать, – сказал Хрущёв. – По тем же соображениям. Для быстроты выхода из-под ответного удара.
– Понял, Никита Сергеич, сделаем, – ответил Расплетин.
Хрущёв нашёл взглядом Главного конструктора первой в мире системы ПРО Григория Васильевича Кисунько.
Создание экспериментальной системы ПРО было инициировано «письмом 7 маршалов» в сентябре 1953 года. После успешного испытания в СССР термоядерного боеприпаса, пригодного для размещёния в авиационных бомбах и боевых частях ракет, последовал ответ США. Там уже разрабатывалась ракетная программа МХ-1593 по разработке МБР «Атлас», которой после советского термоядерного испытания присвоили титул «Приоритетная Национальная программа № 1» и новое название Weapons System-107А (Система вооружения-107А). Также в 1953 г. был создан комитет по оценке стратегических управляемых ракет ВВС США. Комитет потребовал ускорения работ по МБР «Атлас» и немедленно одобрил все предложения главного инженера фирмы «Convair» Карла Боссарта, разрабатывавшего проект ракеты.
Однако ещё летом 1953 года, получив разведданные о ракетных программах США, имея сведения о новейших открытиях и разработках отечественных ученых и конструкторов, начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза В.Д.Соколовский обратился к министру обороны Н.А.Булганину с предложением обсудить суть проблемы в Президиуме ЦК КПСС. Булганин, как член Президиума ЦК и человек осторожный, посоветовал Соколовскому составить краткую записку. Чтобы она не затерялась в кремлевских кабинетах, хозяева которых в тот момент были более озабочены борьбой за собственное выживание, нежели борьбой с какими-то там непонятными баллистическими ракетами, порекомендовал для усиления впечатления собрать под текстом записки подписи нескольких известных военачальников. От себя лично он пообещал устно разъяснить членам Президиума ЦК суть и важность проблемы.
Соколовского поддержали шесть Маршалов Советского Союза. В сентябре 1953 года Н.С.Хрущёв был избран первым секретарем ЦК КПСС, и обстановка в Кремле постепенно нормализовалась.
Обращение маршалов было по-военному лаконичным:
«ЦК КПСС. В ближайшее время ожидается появление у вероятного противника баллистических ракет дальнего действия как основного средства доставки ядерных зарядов к стратегически важным объектам нашей страны. Но средства ПВО, имеющиеся у нас на вооружении и вновь разрабатываемые, не могут бороться с баллистическими ракетами. Просим поручить промышленным министерствам приступить к работам по созданию средств борьбы против баллистических ракет.»
«Обращение» подписали маршалы: В.Л. Соколовский – начальник Генерального штаба МО, Г.К. Жуков – 1-й зам. министра обороны, A.M. Василевский – зам. министра обороны, М.И. Неделин – командующий артиллерией, И.С. Конев – Председатель Военного совета МО, К.А. Вершинин – командующий ПВО, Н.Д. Яковлев – зам. командующего ПВО. (Указаны должности на сентябрь 1953 г)
Документ был направлен для рассмотрения техническим специалистам КБ-1. Следовало вначале оценить саму техническую возможность создания системы, способной перехватить малоразмерную цель, летящую со скоростью более 7 км/с. На совещании, проходившем под председательством Василия Михайловича Рябикова, тогда руководившего созданием зенитно-ракетных систем, мнения разделились.
В это время шла подготовка к государственным испытаниям ЗРК С-25 системы ПВО Москвы, и его создателям, академикам Александру Андреевичу Расплетину и Александру Львовичу Минцу было, мягко говоря, не до того. Да и сама проблема на тот момент казалась запредельно сложной.
Возражения академика Минца сводились к тому, что военные, имеющие большой вес в правительстве, не хотят принимать С-25 в существующем виде, а потому придумывают невероятные поводы. С научной же точки зрения, по мнению Минца, перехват боеголовки МБР в космосе был такой же невыполнимой задачей, как стрельба снарядом по снаряду.
Академик Расплетин был и вовсе краток: «Чушь какая-то».
Начальник 31-го отдела КБ-1 Григорий Васильевич Кисунько, и главный инженер КБ-1 Федор Викторович Лукин, напротив, сочли проблему разрешимой и своевременной.
По результатам обмена мнениями была создана комиссия Главспецмаша по ПРО под председательством руководителя научно-технического совета Главспецмаша Александра Николаевича Щукина. В неё вошли Минц, Расплетин и Лукин.
Через месяц состоялось совещание ЦК, на котором приняли положительное решение по данному вопросу. И, как результат, в конце 1953 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О разработке методов борьбы с ракетами дальнего действия». Исследования поручалось провести двум организациям: КБ-1 и Радиотехнической лаборатории АН СССР (РА-ЛАН) под руководством академика А.Л. Минца. (Теоретические исследования проводились и раньше, но они не привели к созданию какой-либо реальной системы )
В результате этих исследований к марту 1956 года был создан эскизный проект экспериментальной системы ПРО, получившей краткое обозначение «А».
Система именовалась экспериментальной, поскольку ее основным назначением была экспериментальная проверка самой возможности перехвата ракетой баллистической цели. Но для Хрущёва, уже знавшего из «документов 2012», что такой перехват возможен, сейчас выходила на первый план правильность принимаемых в ходе разработки технических решений, поскольку от них зависело последующее создание уже боевой системы.
Выслушав доклады Кисунько и Грушина о ходе разработки компонентов системы, Никита Сергеевич попросил рассказать о ней поподробнее.
В составе системы были: радиолокатор дальнего обнаружения баллистических ракет (БР) «Дунай-2» с дальностью обнаружения целей 1200 км, разрабатываемый в НИИ-37; три радиолокатора точного наведения(РТН) противоракет (ПР) на цель, которые в свою очередь состояли из радиолокатора определения координат цели и радиолокатора координат ПР, разработчик СКБ-30; радиолокационная станция вывода противоракет (РСВ ПР разработана под руководством Главного конструктора С.П. Рабиновича) и совмещённая с ней станция передачи команд (СПК) управления ПР и подрыва БЧ, разработчик СКБ-30; стартовая позиция с пусковыми установками (ПУ) противоракет В-1000, ПУ были созданы в СКБ В.П. Бармина; главный командно-вычислительный пункт системы; радиорелейные линии связи между всеми средствами системы.
В ходе подготовки к совещанию Хрущёв и Устинов, изучив вопрос по «документам 2012», отметили ключевые неудачные решения и ошибки разработчиков.
Использованный Кисунько в ходе разработки системы «А» метод трех дальностей делал систему принципиально одноканальной по цели и ракете.
В опытной системе использовались боевые части с готовыми поражающими элементами. Это не обеспечивало надежного поражения высокозащищённых головных частей, например, проникающего действия.
Система предусматривала только один рубеж обороны, и если хоть одна головная часть прорывалась сквозь него непоражённой, это создавало неприемлемый риск уничтожения обороняемого объекта.
Но главное, в системе не было предусмотрено средств селекции ложных целей. (Задача селекции целей не решена окончательно и сейчас, но это не значит, что этот вопрос можно вообще игнорировать)
Теперь Никита Сергеевич собирался аккуратно направить мысли Главного конструктора в правильном направлении.
Выслушав Кисунько, Хрущёв уточнил:
– Я правильно понял, что координаты цели в вашей системе определяются одновременно тремя радиолокаторами?
– Да, Никита Сергеич, – подтвердил Кисунько. – Три локатора точного наведения, расположенные по окружности диаметром 170 километров, определяют координаты цели и координаты противоракеты.
– А если целей будет две? А если три? А если десять? – задал резонный вопрос Хрущёв. – Вы же понимаете, что по Москве или другому крупному городу противник будет стрелять не одной ракетой, а несколькими. Сколько тогда локаторов понадобится? По три на каждую цель?
Кисунько, смешавшись, замолчал. (В реальной истории проблему необходимости изменения метода наведения Г.В. Кисунько осознал в 1962 году, когда было выдано задание на проектирование противоракетной системы А-35, рассчитанной на одновременное поражение 8-16 баллистических целей.)
– Но... по техзаданию предполагалось, что строится экспериментальная одноканальная система, предназначенная для определения возможности перехвата боевой части МБР, – сказал он. – Это было предусмотрено Постановлением ЦК и СовМина.
– Сейчас – да, – подтвердил Хрущёв. – Но ведь надо рассчитывать на два-три шага вперёд. Я даже не сомневаюсь, что вам удастся решить задачу перехвата, тем или иным способом. В результате вам будет поставлена задача создания уже боевой системы, рассчитанной на поражение нескольких целей. Поэтому стоит уже на начальном этапе выбирать легко масштабируемый способ наведения противоракеты, иначе при создании боевой системы этот способ придётся изобретать заново и отрабатывать на ходу, а это неминуемо задержит разработку боевой системы.
– Звучит разумно, – признал Кисунько. – Но это, фактически, означает полное изменение конструкции радаров наведения и управляющей ЭВМ. Сроки полетят.
– Управляющую ЭВМ модифицировать в части расширения канальности комплекса я смогу относительно быстро, – вставил академик Лебедев.
– Сроки – это не догма, – сказал Никита Сергеевич. – И техзадание, и Постановление ЦК тоже можно скорректировать, переписать, или вообще принять новое, скажем, учитывая недавно полученные данные разведки о новых разработках вероятного противника. Я же не свои фантазии тут излагаю.
– Если в результате удастся создать на основе экспериментальных разработок работоспособную боевую систему, сроки и финансирование можно пересмотреть. Вы не рассматривали возможность применения на противоракете специальной боевой части?
– Рассматривали, – ответил Кисунько, – но пока решили ограничиться обычными боевыми частями, создающими дискообразное облако готовых поражающих элементов.
– Для экспериментальных запусков этого достаточно, – согласился Хрущёв. – Но при создании боевого комплекса стоит сразу ориентироваться на применение специальной боевой части. Если противник начнет применять на ракетах головные части проникающего действия, например, с корпусом из урана, вы такую голову никакими поражающими элементами не расковыряете. А применение таких головных частей, по данным разведки, уже рассматривается.
Здесь Никита Сергеевич откровенно соврал, до появления проникающих ГЧ было ещё лет 25-30, но он хотел, чтобы Кисунько сразу рассматривал все возможные проблемы и работал над способами противодействия.
– Понял, Никита Сергеич, учтём, – Григорий Васильевич о проникающих ГЧ явно не задумывался.
– Ну и ещё пара замечаний, которые надо учесть при разработке боевого комплекса, – продолжил Хрущёв. – Вот у вас, я вижу, в системе только один рубеж поражения. В боевом комплексе необходимо предусмотреть два рубежа – дальний и ближний.
– Мы этот вопрос рассматривали, – ответил Кисунько, – и пришли к выводу, что достаточно одного рубежа перехвата.
– Это если цель простая, – возразил Никита Сергеевич. – Вы как сейчас собираетесь отличать головную часть от последней ступени ракеты, которая летит по той же траектории?
– Э-э-э... На данный момент принято поражение обеих целей двумя противоракетами, – признался Григорий Васильевич. – Теоретически последняя ступень должна иметь бОльшую эффективную площадь рассеяния, чем головная часть, и мы надеемся в будущем различать их по этому параметру... Но это предположение нуждается в экспериментальной проверке.
– Предположение логичное, – согласился Хрущёв. – Заодно имейте в виду, что по расчетам баллистиков, для МБР ступень будет, скорее всего, лететь по траектории впереди головной части, а для ракет средней дальности – позади. Эти два обстоятельства совместно можно будет использовать для селекции целей. То есть, если цель с меньшей ЭПР летит позади, по траектории, характерной для МБР, то бить в первую очередь надо её. (По книге «Рубежи обороны — в космосе и на земле»)
–Но вот что вы будете делать, если ракета будет оснащена дополнительными ложными целями? – спросил Никита Сергеевич. – В этом случае велика вероятность, что на заатмосферном рубеже перехвата антиракета поразит ложную цель. И вот, вы думаете, что попали, обломки входят в атмосферу, и вы видите, что одна из целей явно опережает остальные. И понимаете, что ошиблись, и настоящая головная часть не поражена. Вот тут то вам и понадобится второй рубеж перехвата в верхних слоях атмосферы.
Кисунько задумался.
– Вы правы, Никита Сергеич, – наконец, признал он. – При проектировании боевого комплекса этот момент необходимо учитывать.
– Заодно учитывайте, что обломки первой противоракеты тоже надо отслеживать и селектировать, иначе вторая может отработать по ним, а не по цели. И при применении спецБЧ надо предусмотреть противодействие помехам от взрывов самих противоракет, – сказал Хрущёв. – А самое главное, надо уже сейчас начинать думать, как перехватывать сложные баллистические цели, например, тяжёлые ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.
– По расчетам баллистиков, через небольшое время после отделения боеголовок в области диаметром до 40 км и до 400 км длиной окажутся последняя ступень ракеты, до полутора десятков настоящих боеголовок – и несколько сотен ложных целей. Конечно, весь этот мусор при входе в атмосферу отстанет, но, не имея ближнего рубежа перехвата, вы рискуете расстрелять весь боекомплект противоракет, не поразив ни одной боеголовки. К тому же такие ракеты могут в перспективе запускаться с подводных лодок, то есть, практически с любого направления. (По книге «Рубежи обороны — в космосе и на земле»)
Кисунько выглядел глубоко удручённым.
– Конечно, пока такие ракеты ещё на чертёжных досках у их создателей, – сказал Никита Сергеевич. – Но не хотелось бы потратить несколько миллиардов на противоракетную систему, а потом обнаружить, что она не может перехватывать ракеты, появившиеся за время ее постройки. (Именно так и вышло при постройке системы ПРО А-35)
– Спасибо, Никита Сергеич, – сказал Кисунько. – Вопросы вы подняли крайне важные, а главное – своевременные. Поломать голову придётся изрядно. Но лучше сейчас, чем когда система будет построена и встанет на боевое дежурство. Только техзадание надо скорректировать.
– Рад, что вы меня поняли, Григорий Васильевич, – ответил Хрущёв. – Георгий Константиныч, тебе поручение, – обратился он к Жукову. – Организуй пересмотр техзадания на систему, с учётом новой информации. Ну, и Постановление надо будет корректирующее подготовить.
– Сделаем, – ответил министр обороны.
Никита Сергеевич написал что-то на бумажке и попросил своего помощника Шуйского передать записку Кисунько.
– Это мой прямой телефон, – сказал Хрущёв. – Звоните в любое время, не стесняйтесь. Вопросы ПРО будем решать незамедлительно.
– А теперь, Семен Алексеевич, – продолжил он, – расскажите, что у вас сейчас по теме «Даль»
Лавочкин вначале коротко доложил о технических возможностях предлагаемого к разработке комплекса.
Совместной инициативой ОКБ-301 Главного конструктора Лавочкина и министра радиотехнической промышленности Калмыкова предлагалось создать комплекс, обеспечивавший стрельбу с общей стартовой позиции ракетами по целям, одновременно приближающимся с различных направлений. Комплекс зенитной ракетной системы, получившей обозначение «Даль», согласно предложению, должен был производить одновременный обстрел десяти целей десятью ракетами на фантастической для того времени дальности – до 160-180 км. Это позволяло перейти от кольцевого построения элементов системы к центральному. Соответственно, радиотехнические средства должны были обеспечивать не секторное, а круговое обнаружение и сопровождение целей, наведение на них ЗУР.
Постановлением СМ СССР N 602-369 от 24 марта 1955 года на основе предложенного ОКБ-301 с учетом предложений Министерства авиационной промышленности, Министерства радиотехнической промышленности и Министерства приборостроения задавалась разработка многоканальной зенитно-ракетной системы «Даль» для одновременного наведения 10 ракет на 10 целей. Ракеты, впервые оснащенные активными радиолокационными головками самонаведения, должны были поражать цели на дальности до 160 км, на высотах 5-20 км при скоростях полета цели 1000-2000 км/ч. Радиолокационные и вычислительные средства системы должны были обеспечить обнаружение целей на дальности порядка 300-400 км, вывод ракет на удаление 12-15 км от цели.
В процессе проектирования заданные заказчиком ТТХ системы неоднократно корректировались в сторону улучшения характеристик, что отнюдь не ускоряло создание системы.
Так, постановлением СМ СССР № 1148-591 от 17 августа 1956 г. были повышены тактико-технические характеристики (ТТХ) системы «Даль» и уточнены сроки разработки, изготовления и монтажа опытного образца на полигоне.
Теперь система «Даль» должна была иметь следующие основные ТТХ: автоматическое сопровождение и выдачу в управляющую машину наведения координат бомбардировщиков и самолетов-снарядов с отражающей поверхностью, эквивалентной Ил-28, на дальности 200—220 км при высоте полета 22—30 км; с отражающей поверхностью, эквивалентной Ту– 16, на дальности 260—280 км при высоте полета 20 км и 190—200 км при высоте полета 5 км; полет ракеты в режиме самонаведения не менее 16 км; поражение бомбардировщиков типа Ту-16: на высотах от 5 до 10 км при скорости полета цели до 1500 км/ч и от 10 до 20 км при скорости полета цели до 2000 км/ч, на дальностях от 70 до 180—200 км на высоте 20 км и от 50 до 100 км на высоте 5 км; поражение самолетов-снарядов с отражающей поверхностью, эквивалентной Ил-28, на высоте до 27– 30 км при скорости полета до 3000 км/ч; одновременное наведение 10 ракет на 10 одиночных или групповых целей, находящихся в боевой зоне, и не менее пяти ракет на одну цель, а также любой порядок пуска ракет, находящихся на стартовых столах; скорострельность системы по каждому из каналов наведения – 3—5 минут на одну ракету (время полета ракеты до цели) до израсходования запаса ракет на стартовой позиции.
– Эскизные проекты на комплектующие агрегаты ракеты, кроме ЖРД, – доложил Лавочкин, – выполнены в декабре 1956 г. Однако предъявление комплексного эскизного проекта системы и ракеты пока задерживается по причине ещё не законченного моделирования контура управления и выбора оптимальной схемы ракеты. До сих пор мы рассматриваем несколько вариантов, как по типу двигательной установки, так и по общей компоновочной схеме. Задача чрезвычайно трудная...
– Да, по поводу ракет, – сказал Хрущёв. – С ракетами с жидкостными двигателями из-за массы различного оборудования, необходимого для их подготовки к пуску, на позиции действительно небольшой свечной заводик выходит, но вот в НИИ-13 недавно новое твёрдое топливо разработали, и корпуса ракет из пластика какого-то сделали, может и вам попробовать в этом направлении поработать с ЗУР? Ведь тогда с ракетами мороки меньше будет – собирать и заправлять не надо, протечек нет, да и сами ракеты в обращении легче будут, в итоге заметное сокращение необходимого обслуживания для ракет и соответствующего оборудования в комплексе.
– Ну, или же, если с твёрдым топливом почему-либо не получится, есть ещё другая идея – ампулизированная ракета, которая заправляется топливом ещё на заводе, – добавил Устинов. – Сейчас не 50-й год, уже появились долго хранящиеся жидкие компоненты топлива, не такие коррозионно-активные, как азотная кислота. Наши ракетчики, которые стратегической тематикой занимаются, эту тему уже начали прорабатывать, можно будет с ними скооперироваться. Может быть, вам, Семён Алексеевич, эта информация при выборе технического решения чем-то поможет.
– А ещё можно ведь вообще от окислителя отказаться и сделать на второй ступени прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Он, кстати, может быть не только на жидком, но и на твёрдом топливе, – подсказал Грушин. – Вариантов, как видите, далеко не один, есть из чего выбрать.
– А ведь вы, пожалуй, правы, – задумчиво произнёс Лавочкин. – Надо подумать на этот счёт. Тогда получается значительное упрощение и удешевление технической позиции, за счёт отказа от технологической линии заправки.
– Вот и хорошо, – сказал Хрущёв. – А чтобы вас немного ускорить и направить в нужном направлении, отсечём бесперспективные варианты. В общем, я, на правах высокопоставленного самодура, принимаю волюнтаристское решение. Григорий Трофимыч, запиши в протокол, – попросил он Шуйского. – Ракету делать двухступенчатую. Ускоритель твердотопливный, разработчик – товарищ Картуков, завод номер 81. Массу ракеты берём 8 тонн, ускоритель рассчитывать на массу 9 тонн. Все равно смежники в заданную массу не уложатся. А если произойдет чудо, то у ракеты будет запас по тяговооруженности.
– Со второй ступенью Семён Алексеич ещё должен определиться, – продолжил Хрущёв. – Если он остановится на твёрдотопливном варианте, тогда пусть тоже делает Картуков. Если на прямоточном – подключить товарища Бондарюка. Если на жидкостном, тогда двигатель второй ступени – двухкамерный ЖРД, разработчик – товарищ Косберг, ОКБ-154. И пусть он делает двигатель с самого начала, НИИ-88 подключать к эскизному проекту не будем, у них сейчас своих работ полно. Пусть только консультируют Косберга, если надо. Топливную систему в этом случае Семён Алексеич пусть сам решит, как делать, но я бы всё-таки рекомендовал подумать насчёт ампулизированного варианта.
Милейший и интеллигентнейший Семен Алексеевич Лавочкин прямо-таки остолбенел от столь беспардонного вмешательства в его епархию. Он только стоял, открывая и закрывая рот.
Хрущёв, заранее зная, что Лавочкин выберет именно такой вариант, своим «волюнтаристским» решением фактически сэкономил ему полтора года. С Королевым к примеру, такой номер не прошёл бы, тот мог заявить: «Если лучше меня знаете, что нужно, тогда сами и делайте систему»
– Вы, Семен Алексеевич, не обижайтесь на меня, – сказал Хрущёв. – Когда вы все тщательно просчитаете, вы и сами придете к этому варианту. Но к этому времени ракета уже будет в производстве, а без моего пинка вы бы только сроки сорвали. Ну и меня поймите правильно: если не быть самодуром, для чего тогда быть начальником?
Все засмеялись. Лавочкин, обезоруженный бесхитростным приемом Хрущёва, тоже улыбнулся:
– Теперь, Никита Сергеич, ракета точно в срок полетит.
– Если в срок полетит – с меня ящик коньяка, – ответил Хрущёв. – В качестве извинения за вмешательство в ваши полномочия. Ох и пьянку закатим... Жаль только, мне пить нельзя...
– Теперь давайте по радиотехнике поговорим, – продолжил Никита Сергеевич, – Валерий Дмитрич, – окликнул он Калмыкова. – Радар обнаружения кто делает?
– НИИ-244, – ответил министр. – Систему активного запроса-ответа и систему передачи команд – САЗО-СПК предполагается взять конструкции Римана, НИИ-648. Командный пункт делает завод номер 476, управляющую машину наведения – СКБ-245, товарищ Базилевский.