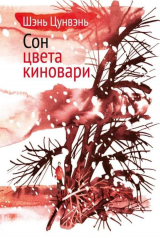
Текст книги "Сон цвета киновари. Необыкновенные истории обыкновенной жизни"
Автор книги: Шэнь Цунвэнь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Разумеется, дома так никто и не узнал о случившемся.
Через полмесяца Хуагоу потихоньку собрал свои вещи и исчез, ни с кем не попрощавшись. Дед выспрашивал у Немого, вместе с которым тот жил, почему он пропал и где он? В горы к разбойникам подался, или записался в армию, подобно Сюэ Жэньгую?[25]25
Сюэ Жэньгуй (614–683 гг.) – известный генерал династии Тан. Он происходил из обедневшей семьи и в молодости жил в пещере, занимаясь сельским хозяйством.
[Закрыть] Немой в ответ лишь покачал головой, сказав, что Хуагоу к тому же остался должен ему двести юаней, а перед тем, как уйти, даже словом с ним не обмолвился, – бессовестный. Немой говорил за себя, никак не объясняя причин бегства Хуагоу. Вся семья целый день гудела от удивления и обсуждала странный поступок работника до самой ночи. Однако он ничего не украл, никого не похитил, поэтому довольно скоро все позабыли о нем.
Сяосяо была той же Сяосяо, между тем ей не становилось легче. Было бы хорошо забыть Хуагоу, но ее живот рос и рос, и кто-то начал шевелиться внутри, заставляя Сяосяо испытывать чувство тревоги и проводить ночи без сна.
У нее испортился характер, появилась раздражительность; о переменах, произошедших в ней, знал только муж, с которым она стала обращаться строже.
Будучи по-прежнему неразлучна с мужем, она сама не очень хорошо понимала, что на нее находит, что творится в ее душе. Порой посещали мысли о том, что ей следовало бы умереть и что лучше всего, если прямо сейчас, тогда все уладится само собой. Но почему она должна умирать? Она так радовалась жизни и хотела жить дальше.
Когда кто-нибудь из домашних, не важно кто, случайно заводил речь о младшем брате мужа или о детях вообще, или же вспоминал о Хуагоу – эти слова, словно острые ножи, вонзались в сердце Сяосяо.
С наступлением восьмого лунного месяца она забеспокоилась, что правда скоро выплывет наружу, поэтому потащила мужа гулять в храм, где загадала желание и съела пригоршню пепла из курильницы. Это заметил муж, который тут же спросил, зачем она ест пепел. Сяосяо сослалась на боли в животе, при которых это средство помогает. Конечно, она все выдумала. Она молила всех святых о помощи, но те ей не внимали, и ребенок внутри нее продолжал расти.
Еще она часто ходила к ручью пить ледяную воду, что также не укрылось от глаз мужа; на его вопросы она отвечала, что, мол, просто хочется пить.
Никакие средства, к которым она прибегала, так и не смогли избавить Сяосяо от нежеланного существа. О большом животе знал только муж, но он не смел рассказать об этом родителям. Из-за того, что они так много времени проводили вместе, а также из-за разницы в возрасте, муж питал к Сяосяо смесь любви и страха – чувство более сильное, чем к собственным родителям.
Она все еще помнила клятву Хуагоу и другие события того дня. Стояла осень, и повсюду вокруг дома гусеницы превращались в куколок. Муж, словно специально дразня Сяосяо, часто напоминал ей о том случае, когда его ужалила мохнатая гусеница, тем самым каждый раз пробуждая в ней неприятные воспоминания. Из-за этого она возненавидела гусениц и непременно давила их ногой, если они попадались ей на глаза.
В один из дней вновь прошел слух о том, что в окрестностях появились студентки. Услышав эту новость, Сяосяо словно погрузилась в сон наяву и долгое время неотрывно, точно зачарованная, смотрела в ту сторону, где восходит солнце.
Она решила убежать, подобно Хуагоу; собрала немного вещей, намереваясь в поисках свободы примкнуть к студенткам на пути в большой город. Но еще раньше, чем она двинулась, ее намерения были раскрыты домочадцами. Для сельской местности это был очень серьезный проступок. Ей связали руки и заперли в чулане, оставив ее на целый день без еды.
Выяснив причину, подтолкнувшую ее бежать, семья обнаружила, что Сяосяо, которой через десять лет предстояло родить маленькому мужу сыночка и продолжить семейную линию, уже носит в себе семя другого человека. Разразился жуткий скандал. Спокойная семейная жизнь затрещала по швам. Все ругались, кричали и плакали, у всех нашлись свои дрова для общего костра. Чего только не приходило на ум доведенной до отчаяния Сяосяо: она думала о том, чтобы повеситься, утопиться, отравиться. Но она была так молода, и ей так не хотелось умирать, что она не решилась наложить на себя руки. Наконец, дед, исходя из реальной обстановки, здраво рассудил, что Сяосяо следует посадить под замок, приставить к ней надежную охрану из двух человек, и, переговорив с ее родственниками, решить, как с ней поступить: утопить или продать? Если тех волнует сохранение чести семьи, они выскажутся за то, чтобы утопить; если же они против смертного приговора – тогда надо ее продать. Из родственников у Сяосяо оставался только дядя, который работал на полях в ближайшей деревне. Когда его позвали, он поначалу думал, что его просто приглашают в гости выпить вина; прибыв и узнав, что честь семьи под угрозой, этот скромный и добросердечный глава семейства пришел в состояние крайней растерянности.
Беременность была налицо, и тут уж нечего было возразить. По традиции, Сяосяо должно было утопить. Но только главы семей, где чтили Конфуция, сотворили бы такую глупость во имя фамильной чести; дядюшка же Конфуция не читал, идея казнить Сяосяо была для него невыносима, и взамен он предложил выдать ее замуж во второй раз.
Такое наказание всем показалось вполне справедливым, ведь, согласно обычаю, стороной, терпящей убытки, является семья жениха, которая путем повторного замужества может вернуть себе хоть что-то в качестве компенсации. Сообщив Сяосяо о принятом решении, дядя засобирался в дорогу. Сяосяо, тихо всхлипывая, вцепилась в край его одежды. Дядя покачал головой и все-таки ушел, не сказав ей напоследок ни слова.
Время шло, а ни одна уважаемая семья не сватала Сяосяо; раз решено было услать ее с глаз долой, кто-то должен был согласиться ее принять, а до того момента она продолжила жить в доме своего мужа. Случай перестал казаться вопиющим и больше никого особо не волновал. Решение было принято, оставалось лишь ждать, поэтому все домочадцы постепенно успокоились. На первых порах мужу не разрешали проводить время с Сяосяо, но постепенно все стало, как прежде, и они вновь смеялись и играли, как брат с сестрой.
Муж знал о том, что Сяосяо ждет ребенка, знал также и о том, что из-за этого ее должны выдать замуж, и она уедет в далекие края. Но мужу совсем не хотелось, чтобы Сяосяо уезжала, да и самой Сяосяо не хотелось уезжать; все были совершенно сбиты с толку, и им приходилось поступать так лишь потому, что это предписывали правила. Когда задавались вопросом, кто же устанавливает правила, кто хранит обычай – старейшина рода? его жена? – никто не мог толком ответить.
В ожидании покупателя для Сяосяо прошел одиннадцатый месяц; никто не приходил, так что решили, пусть уж Сяосяо останется в семье на Новый год.
В середине второго лунного месяца следующего года Сяосяо родила круглоголового, большеглазого и громкоголосого мальчика. Все участвовали в заботах о матери и младенце; молодую мать потчевали цыплятами на пару и кашей из перебродившего клейкого риса – для укрепления здоровья. На милость богов сжигались ритуальные бумажные деньги. Всем членам семьи младенец пришелся по душе.
Поскольку родился мальчик, отпала необходимость для Сяосяо выходить замуж и уходить в чужую семью.
К тому времени, когда Сяосяо официально совершила поклоны новобрачной свекру и свекрови и начала жить супружеской жизнью, ее сыну было уже десять лет. Он выполнял половину взрослой нормы работы, смотрел за коровами, косил траву, став одним из добытчиков в семье. Мужа Сяосяо он называл дядей, и тот был не против.
Сыну Сяосяо дали имя Нюэр, Бычок. В двенадцать лет его женили, и жена была старше его на шесть лет – ведь только взрослая жена могла стать помощницей во всех делах, приносить пользу семье. Когда перед домом раздались звуки соны, сидевшая в свадебном паланкине новобрачная своим ревом просто свела с ума деда и прадеда.
В тот день Сяосяо стояла у вязовой изгороди перед домом и наблюдала за происходящим, прижимая к груди своего новорожденного крошку, – точно так же, как десять лет назад прижимала к себе мужа.
1930 г.
МУЖперевод Т. Д. Поляковой
Весенние дожди продолжались семь дней, из-за чего река вышла из берегов.
Вода поднялась. Лодки, где можно было покурить опиум и насладиться обществом женщин, обычно швартовали на речной отмели, теперь же они оказались очень близко к берегу, и их пришлось привязать к сваям домов, выстроившихся вдоль реки.
Посетитель чайной «Сыхайчунь»[26]26
«Весна бескрайняя».
[Закрыть], попивая на досуге чай и выглянув из окна, выходившего на реку, мог полюбоваться прекрасным видом пагоды, «окутанной цветами персика и пеленой дождя». А посмотрев вниз, видел, что в лодках женщины обслуживают клиентов и что там курят опиум. Дома и лодки были так близко, что спуститься вниз, подняться наверх, обменяться приветствиями не составляло труда. Когда взгляды пересекались, завязывалась беседа, с заигрываниями и недвусмысленными предложениями, вскоре посетитель заведения расплачивался за чай и, пройдя по сырому зловонному коридору, попадал прямиком в лодку.
Поднявшись на борт, он платил от половины юаня до пяти, после чего развлекался, как душе угодно: курил опиум и спал, или же предавался плотским утехам с женщинами. Эти дородные, крутобедрые молодые лодочницы пускали в ход все свои женские чары, чтобы ублажать оставшихся на ночь мужчин.
Женщины называли свой промысел «заработками», тем же словом, как и везде. Ради этих «заработков» они здесь и оказывались. Такое добывание средств имеет право на существование, как и любая другая работа, морали оно не противоречит, да и здоровью не вредит. Женщины добирались сюда из деревень, где люди пашут землю и копают огороды. Они покидали свои дома, бросали каменные жернова и телят, оставляли молодых и сильных мужей и, вслед за подружками, такими же, как они, отправлялись «на заработки». «Заработки» исподволь превращали сельских жительниц в горожанок; постепенно женщины отдалялись от деревни, а выучившись всему дурному и порочному, что только есть в городах, в конце концов губили себя. Эти изменения накапливались изо дня в день, потому-то никто и не придавал им особого значения. К тому же не было недостатка в таких женщинах, которые при любых обстоятельствах сохраняют деревенскую искренность и простоту; равно как не было – и никогда не будет – недостатка в молодых женщинах, что вновь и вновь прибывают на подобные лодки.
Все было просто: женщина, не особо спешившая заводить детей, отправлялась в город. Раз в месяц она отправляла полученные за пару ночей деньги своему мужу, который тем временем оставался в деревне и зарабатывал на жизнь честным крестьянским трудом. Такой ход вещей обеспечивал спокойную жизнь, никак не подрывал его положения как главы семьи и сулил неплохую выгоду, поэтому многие молодые люди после свадьбы отправляли своих жен в город, а сами оставались в деревне, занимаясь привычным сельским трудом. Это было совершенно обычным явлением.
Случалось, что кого-нибудь из таких мужей совсем заедала тоска по своей женушке, занимавшейся «заработками» на лодке, или же, согласно обычаям, ему необходимо было с ней свидеться на Новый год или другой праздник. Тогда муж, надев свежевыстиранную и накрахмаленную одежку и прицепив на пояс трубку, которую обычно никогда не выпускал изо рта во время работ, взваливал на плечи бамбуковую плетеную корзину, полную всякой снеди, вроде батата и лепешек из клейкого риса, и отправлялся в город, точь-в-точь будто бы проведать дальнего родственника. Он обходил все лодки на пристани, начиная с первой, и выспрашивал, пока наконец не выяснял, на какой же из них находится его жена. Он забирался в лодку, аккуратно положив свой матерчатые тапочки на навес над каютой, а затем, передав жене гостинцы, начинал разглядывать ее во все глаза, пытаясь рассмотреть в ней ту, что выходила за него замуж. Безусловно, она разительно отличалась от себя прежней.
Большой и блестящий от масла узел волос на затылке, выщипанные пинцетом и подведенные длинные брови, белое напудренное лицо, темно-красные румяна на щеках, одежда и манеры настоящей горожанки – все это настолько удивляло мужа-крестьянина, что он совершенно терялся. Женщина прекрасно понимала причины его замешательства. Она первая заводила разговор, спрашивая что-то вроде: «Ты получил те пять юаней?» или «Свинья-то наша опоросилась, нет?». И манера речи у нее теперь была иная, свободная и непринужденная, словно говорила госпожа, в которой ничего не осталось от прежней деревенской женушки.
Послушав расспросы о деньгах и свиньях, мужчина чувствовал, что эта лодка все же не лишила его статуса главы семьи, а эта горожанка еще не вычеркнула из памяти родную деревню. Осмелев, он тянулся за трубкой и огнивом, и вдруг новое диво – жена выхватывала у него трубку и вкладывала в его толстую грубую пятерню изящную сигарету фирмы «Хатамэн»[27]27
По названию ворот и квартала в Бэйпине (Пекин).
[Закрыть]. Однако же замешательство оказывалось недолгим, муж закуривал и начинал говорить.
Вечером, после ужина, он по-прежнему наслаждался вкусом фабричных сигарет… И тут приходил гость – какой-нибудь владелец лодки или торговец. На ногах высокие сапоги из сырой воловьей кожи, из кошеля на ремне свисает толстая блестящая серебряная цепочка. Гость, уже изрядно выпивший, поднимался на борт, раскачивая его при каждом движении.
В лодке он начинал кричать, требуя поцелуев и дальнейших ласк; эта громкая, но при этом невнятная речь, эта внушительная манера держаться напоминали мужу деревенских чиновников и старосту. Не нуждаясь в объяснениях, он все понимал сам и ускользал на корму лодки. Укрывшись у руля, вынув изо рта сигарету и отдышавшись, он тихонько сидел, бездумно рассматривая речной пейзаж, полностью изменившийся с наступлением темноты. Река и берег озарялись яркими огнями фонарей. Муж думал об оставшихся дома курах и поросятах, будто только они – его верные друзья, его семья. Рядом с женой он чувствовал себя куда дальше от нее, чем когда был дома. Его охватывало смутное ощущение одиночества, ему хотелось домой.
А может, и вправду вернуться? Нет, затея сомнительная. Тридцать ли пробираться в темноте – на пути могут повстречаться и красные волки, и дикие кошки, да и бойцы отрядов народного ополчения ходят дозорами. Шутки с ними плохи, так что о возвращении и речи быть не может. Кроме того, хозяйка лодки хотела сводить его в храм трех повелителей Саньюаньгун[28]28
Даос. три повелителя (неба, земли, воды), даосские божества.
[Закрыть] на вечернее представление, а после – отведать зеленого чая с печеньем в «Сыхайчунь». Раз уж он добрался до города, глупо упускать возможность поглазеть на яркие огни оживленных улиц, на городских жителей. И муж оставался на корме, наблюдая за речной жизнью, а дождавшись, когда хозяйка лодки на минуту освободится, пробирался на нос лодки по доске, закрепленной вдоль борта, держась за раму навеса, и тихонько сходил на берег. Нагулявшись, он тем же путем осторожно проползал обратно, опасаясь потревожить оставшегося в каюте гостя, который отдыхал в постели после трубки опиума.
Пришло время ложиться спать; со стороны западных гор до города донеслись звуки барабанов, возвещавшие о начале первой стражи[29]29
Традиционно в Китае время измеряли стражами. Одна стража равнялась двум часам. Ночных страж было пять, с 19:00 до 05:00. Соответственно первая ночная стража – с 19 до 21 часа.
[Закрыть]. Муж тихонько заглядывал в щелку – гость еще не ушел. Возражать он права не имел, и ему оставалось только забраться под новое ватное одеяло на корме и заснуть в одиночестве. Среди ночи, когда муж уже спал или пребывал в раздумьях, жена, выкроив минутку, выбиралась на корму и предлагала ему сладостей. Она помнила, что ее муж всегда любил сладости, поэтому – хотя тот и отказывался, мол, его тянет ко сну, или он уже поел – она запихивала конфету ему в рот. Затем, чувствуя некоторую неловкость, она удалялась, а муж катал во рту сахарный леденец, будто бы предназначенный извинить поведение жены. Жена возвращалась в каюту угождать гостю, а муж мирно засыпал.
Таких мужей в деревне Хуанчжуан много! Там много крепких, сильных женщин и честных, достойных мужчин, но при этом кругом царит бедность. Львиная доля скудных местных урожаев достается окрестным богачам. Простые же крестьяне, привязанные к земле за руки и за ноги, вынуждены три месяца в году утолять голод листьями батата пополам с мякиной. Какими бы бережливыми и трудолюбивыми они ни были, выживать все равно нелегко. При этом от деревушки, расположенной высоко в горах, было всего тридцать ли до речного порта. Вот женщины и отправлялись в город на заработки, и мужья хорошо понимали, какую выгоду сулит такая работа: жены по праву имени принадлежали им, дети также принадлежали им, а когда у женщин появлялись деньги, они получали свою долю дохода.
Лодки выстроились рядами вдоль реки, их было много, не сосчитать. Единственный, кто знал их число и порядок, кто помнил каждую лодку и каждого ее обитателя, был старый речной смотритель, глава баоцзя[30]30
Единица организации по системе круговой поруки баоцзя. Из крестьянских дворов формировались особые единицы – бао (стодворки) и цзя, объединявшие до 1000 дворов. Баоцзя – система административно-полицейской организации крестьянских дворов, основанная на круговой поруке или т. н. «коллективной безопасности». Возникла в старом Китае и была распространена до 1949 г.
[Закрыть] Пятого округа.
Старик был слеп на один глаз. Поговаривали, что он потерял глаз в молодости, когда на реке завязалась драка меж ним и каким-то негодяем. Негодяя он убил, но глаза лишился. Однако смотритель легко обходился и одним. Вся река была у него под контролем. Его власть над этими маленькими лодками была абсолютной – такой на суше не было и у самого китайского императора.
Когда река разливалась и выходила из берегов, хлопот у смотрителя прибавлялось. Обязанности вынуждали его постоянно перемещаться, ему приходилось следить за всем: на одной лодке плакал голодный младенец, которого родители оставили без присмотра, сойдя на берег; на другой начиналась перебранка, а обязанность смотрителя – утихомиривать людей; плохо закрепленные лодки грозило унести разлившейся водой… Нынче же господину смотрителю надлежало обойти всю пристань и провести тщательное расследование происшествия, случившегося хотя и на суше, но затронувшего и реку. В городе за последние дни произошло три мелких грабежа. Полиция утверждала, что прочесала все побережье, но не нашла ни единой зацепки. И поскольку поиски на берегу результатов не дали, дело легло на плечи речного смотрителя. Хитрые полицейские приказали ему сегодня в полночь встретиться с речной полицией и вместе с полицейскими обыскивать каждую лодку до тех пор, пока злодеи не будут пойманы.
Смотритель получил этот приказ еще до полудня. За день ему нужно было переделать уйму дел. Он хотел отплатить добром людям, которые нередко угощали его хорошим вином и доброй едой, а потому отправился вдоль реки, заглядывая в каждую лодку и расспрашивая тех, кто был на борту. Для начала нужно было выяснить, не укрываются ли на какой лодке подозрительные чужаки.
Речного смотрителя по праву считали хозяином реки, ничто в его владениях не ускользало от его внимания. Когда-то он, как и все, кормился от реки и действовал по ту сторону закона. Но власти наняли его, чтобы взять под контроль все происходящее на реке – так уж у них было заведено. С течением времени смотритель разбогател, обзавелся женой и детьми, стал регулярно выпивать… словом, спокойная и размеренная жизнь постепенно превратила его в добродушного и справедливого человека. По долгу службы он помогал властям, но сердцем оставался с речным людом. А для речного люда он был образец добродетели, столь же авторитетный, как чиновники, но без примеси страха и отвращения. Для многих женщин на лодках смотритель стал как названый отец.
И вот он спрыгнул с деревянного трапа на нос свежевыкрашенной «цветочной лодки»[31]31
«Цветочными лодками» называли плавучие дома терпимости.
[Закрыть], привязанной к сваям лавчонки, торговавшей семенами лотоса. Он знал, чья это лодка, и, оказавшись на борту, позвал:
– Эй, Лао Ци[32]32
Ци – Седьмая – это порядковый номер по признаку родства в пределах одного поколения, и он эквивалентен имени. Лао – уважаемый (перед фамилией, обращением; часто ирон. или фамильярно).
[Закрыть], дочка, ты здесь?
Ответа не последовало. Ни молодая женщина, ни пожилая хозяйка из лодки не вышли. Опыт подсказывал старику, что какой-нибудь молодой гость может быть на лодке и среди бела дня, поэтому он продолжил стоять на носу, осматриваясь и выжидая.
Спустя какое-то время он вновь крикнул: сначала позвал хозяйку, а после Удо, девчонку-служанку лет двенадцати, очень худую, с пронзительным голоском. Обычно она присматривала за лодкой, когда взрослые отлучались в город, бегала за покупками и готовила. Ей частенько доставались затрещины, и тогда она плакала, но скоро снова начинала напевать. Сейчас не отвечала и Удо. Он окликнул еще раз, опять безрезультатно. Однако поскольку внутри слышалось чье-то дыхание, лодка явно не была пуста. Смотритель, наклонившись, заглянул внутрь и, обращаясь в темноту каюты, спросил, есть ли кто там.
Ответа не было.
Смотритель рассердился и громко повторил:
– Кто тут?
Ему ответил незнакомый голос, принадлежавший молодому мужчине. Боязливо и робко незнакомец сказал:
– Это я. Они все на берег пошли.
– На берег?
– Да. Они…
Похоже, парень подумал, что такие короткие ответы могут оскорбить посетителя, и решил загладить свою вину. Он выбрался из мрака каюты, осторожно откинул полог и робко посмотрел на пришедшего.
Сначала его взгляд уперся в высокие и блестящие, будто натертые маслом хурмы, сапоги из свиной кожи, затем показался пояс с кошелем из мягкой оленьей кожи красновато-коричневого цвета, потом скрещенные руки с синими прожилками вен; на пальце красовался невероятных размеров золотой перстень. И наконец, он увидел квадратной формы лицо, словно собранное из множества кусочков мандариновой корки. Парень решил, что перед ним важный клиент, и заговорил, стараясь походить на горожанина:
– Господин, проходите внутрь, извольте присесть. Женщины скоро вернутся.
По говору и по накрахмаленной одежде смотритель без труда признал в нем деревенского парня. Поскольку женщин на лодке не оказалось, смотритель собрался было уходить, но этот парень неожиданно его заинтересовал.
– Ты откуда будешь? – спросил смотритель мягко, по-отечески, чтобы не спугнуть парня. – Не припомню, чтоб видел тебя раньше.
Тот подумал, что тоже раньше не встречался с этим гостем, и сказал:
– Да я вчера только пришел.
– Там наверху, на полях – еще не начали пшеницу убирать?
– Пшеницу? У нас перед водяной мельницей пшеница, ха, а наши свиньи, ха-ха, у нас там…
Тут парень сообразил, что отвечает важному городскому господину невежливо, что нужно знать свое место и не поминать «нашу мельницу», «наших свиней» и прочие приземленные вещи… и язык у него прилип к гортани.
Молодой человек робко посмотрел на гостя и улыбнулся, в надежде, что тот поймет его и простит.
Смотритель понял. Ему стало ясно, что парень – родственник кого-то с лодки. Он спросил:
– Куда пошла Лао Ци? Не знаешь, когда она вернется?
На этот раз молодой человек осторожнее подбирал слова, но ответ его был прежним:
– Я только вчера пришел.
И уточнил:
– Вчера вечером.
В конце концов он рассказал, что Лао Ци с хозяйкой и Удо отправились возжигать благовония в храм на берегу, поручив ему присмотреть за лодкой. Объясняя, почему ему это доверили, парень сказал, что он муж Лао Ци.
Поскольку Лао Ци звала смотрителя «названым отцом», то, выходит, «отец» сейчас знакомился с «зятем». Так что он не заставил себя просить; они прошли в каюту.
Там стояла небольшая кровать, на которой были аккуратно сложены в стопку постельные принадлежности из вышитого шелка и красного набивного ситца. Смотритель, согласно приличиям, присел на самый краешек. Свет проникал сюда через проем; хотя снаружи казалось, что здесь темно, внутри было достаточно света.
В поисках сигарет и огня для важного гостя молодой человек по неосторожности опрокинул кувшин с каштанами, и они раскатились по полу каюты, сверкая, как черное золото. Парень кинулся их собирать и отправлять обратно в кувшин, гадая, уместно ли предлагать такое угощение. А тот, ничуть не смущаясь, поднял с пола каштан, раскусил и съел, отметив, что высушенные на свежем воздухе каштаны и впрямь хороши.
– Очень вкусно! А тебе не нравятся? – спросил смотритель, увидев, что сам парень не взял ни одного.
– Очень нравятся. У меня за домом каштановое дерево, они оттуда. Их в прошлом году много уродилось. Видели бы вы, как они выскакивали из своих колючих домиков! Да как же они могут мне не нравиться? – Парень счастливо улыбался, будто рассказывал про собственного сына.
– Какие крупные. Нечасто такие увидишь.
– Я своими руками отбирал.
– Сам?
– Да, Лао Ци такие любит. Вот я их и приберег.
– А обезьяний каштан у вас там встречается?
– Обезьяний каштан? Не слышал о таком.
Смотритель рассказал деревенскому парню об обезьянах, живших в горах. Когда их ругали и дразнили, они швырялись в обидчиков каштанами размером с кулак. Поэтому всякий, кто хотел каштанов, шел в горы и нарочно дразнил обезьян.
Рассказом об обезьянах смотритель расположил к себе стеснительного парня. Тот стал сыпать сведениями о каштанах. Рассказал о месте под названием Лиао, Каштановая лощина, и о том, какими прочными и удобными получаются рукоятки для плуга, сделанные из каштанового дерева… Парню требовалось выговориться, а раньше не получалось. Вчера, когда он приехал, всю ночь напролет кутили и курили опиум гости; он, ютясь на корме, пытался поболтать с Удо, но та спала как убитая. Молодой человек хотел обсудить деревенские дела с женой сегодня утром, но женщины заявили, что им нужно в город, на мост Цилицяо, возжигать благовония, и велели ему стеречь лодку. Ему казалось, что он просидел в этой лодке уже целую вечность, но никто не возвращался. Он сидел на корме и смотрел на реку; хотя все было для него в диковинку, это его лишь больше удручало. Он задремал, и ему приснилось, что паводок добирается до его деревни. Сколько же карпов попало бы в запруду – вообразить невозможно! Он нанизывал рыбу за жабры на ивовые прутья и оставлял сушиться на солнце. Пытался подсчитать их, но не успел: на лодку вдруг пожаловал гость, и вся рыба ускользнула обратно в воду.
Собеседник хорошо слушал, поэтому парень вывалил на смотрителя все, что берег для жены, раз уж выпала возможность поговорить.
Он поведал смотрителю о деревне, вспомнил о непослушном поросенке, которого прозвал Малыш, о каменном жернове, который недавно обточил и подогнал каменщик, что напомнило ему байку о каменщиках. После речь зашла о маленьком серпе, который потерялся, да так, что смотрителю нипочем было не догадаться:
– Вот скажите, не чудеса ли? Везде его искал, клянусь. Под кроватью, на притолоке над дверью, в сарае. Куда он пропал? Да он будто сам убежал куда-то. Из-за этого я обругал Лао Ци, а та сразу в слезы. Но серп так и не нашелся. А потом, ну точно проделки черта, – да он же, оказывается, спрятался в бамбуковой корзине для риса, что на балке висела. Шесть месяцев в пустой корзине – оголодал, должно быть! Покрылся там весь пятнами ржавчины, будто прыщами, маленький хитрец. Я гадал: как он смог залететь в корзину полгода назад? Она там только для красоты и висела. И вспомнил: я же стругал им клин, да порезался до крови. Вспылил, ну и отшвырнул прочь… Полдня его шлифовал в воде. Теперь он по-прежнему острый, такой, что режет плоть как бумагу. С ним надо осторожнее, а то можно до крови порезаться. Я еще не рассказал об этом Лао Ци. Вот она точно не забыла, как плакала и убивалась тогда. Нашелся он, ха-ха, в самом деле нашелся.
– Хорошо, что нашелся.
– Да, я так рад. Я ж все время думал, что это Лао Ци его уронила в ручей, а сознаться постыдилась. Теперь-то ясно, что она меня не обманывала. Обидел ее почем зря, тогда ведь я сказал: «Что значит найти не можешь? Вот как поколочу тебя!» Да я-то волю рукам тогда не дал, нет. Но напугал ее сильно. Она аж полночи проплакала.
– А ты им траву косишь?
– Как? Нет, что вы, он для другого. Это же маленький серпик для тонкой работы, а вы говорите – траву косить. Вот кожуру с батата счистить или флейту вырезать, это да. Такой маленький, стоил всего три сотни медяков, а выкован на славу. Каждый просто обязан иметь при себе маленький ножичек, правда?
– Конечно, конечно. У каждого такой должен быть, согласен, – отвечал смотритель.
Сочтя, что и правда встретил понимающего собеседника, молодой человек продолжил выкладывать все, что было на душе и за душой, даже поделился надеждами обзавестись ребеночком в будущем году, и прочими мыслями, о которых стоило бы вести разговоры с женой в постели. Парень говорил и говорил, уже не стесняясь приправлять речь крепкими словечками, пока, наконец, смотритель не поднялся, чтобы уйти. Молодой человек понял, что он даже не спросил имени гостя.
– Господин, а как вас же величать? Прошу, оставьте свою карточку. Я скажу им, что вы приходили.
– Просто передай, что приходил большой мужчина, вот в таких высоких сапогах. Передай еще, чтоб вечером гостей не принимали, потому что я приду.
– Чтоб не принимали гостей, потому что вы пожалуете?
– Так и скажи. Я обязательно приду. А еще я угощу тебя вином. Мы ведь друзья теперь.
– Точно. Друзья.
Смотритель похлопал парня по плечу своей мясистой ручищей и сошел на берег, а затем поднялся на следующую лодку.
После ухода смотрителя молодой человек стал гадать, кем же был этот здоровяк. Ему впервые довелось говорить с таким благородным человеком. Он вовек не забудет этого. Этот господин мало того что общался с ним сегодня, так еще и другом назвал, и выпить пригласил! Молодой мужчина предположил, что это, должно быть, один из постоянных клиентов Лао Ци. Та наверняка вытрясла из него немало денег. Парня накрыла внезапная волна радости, ему захотелось петь, и он тут же на мотив припевок из деревни Сыси тихонько затянул:
Речные воды разлились,
В запруду карпы собрались.
Величиной с сандалии,
Большие есть и малые.
Он ждал, но ни жена, ни остальные не возвращались. Он вспомнил изящество манер и речи большого господина, вспомнил его блестящие сапоги. Не иначе, такими красивыми их сделало самое лучшее масло горной хурмы. Вспомнил тяжелый золотой перстень, который стоил больше, чем он мог вообразить. Он не знал, чем его так привлекло это украшение. Вспомнил, как гость кивал головой, как разговаривал, – важный, словно губернатор или генерал – для Лао Ци он, поди, точно бог богатства Цайшэнь! Парень начал петь другую песню, забористую, как любили жители деревни Янцунь:
Командир ополченцев усердно в лесу уголек возжигает,
В его доме тем временем староста дочке очаг распаляет,
У кого-то от жара батат набухает,
У кого-то лишь копоть лицо покрывает.
К полудню люди на лодках начали готовить обед. Сырые дрова у парня горели плохо, дым валил в разные стороны, заставляя его плакать и чихать, пластался над водой пеленой тонкого шелка. Слышно было, как повар в ресторанчике у реки стучит черпаком по кастрюле, как на ближней лодке в котел плюхается капуста. Лао Ци так и не появилась. Фокус с разжиганием сырых дров на борту молодому человеку не удался, маленькая железная печка осталась холодной. Он промучился с ней целую вечность, и, наконец, сдался.
Оставшись голодным, парень присел на низкий табурет и вновь задумался. Безрадостные мысли заполнили его голову; утренний гость, похожий на гигантский кошель, туго набитый деньгами, стоял перед глазами. Из головы не шло темное от вина, налитое кровью лицо с квадратной челюстью, пористое, будто мандариновая корка; оно вызывало отвращение и ненависть. Казалось бы, зачем ему вспоминать это? Он будто вновь услышал: «Вечером пусть не принимают гостей, я приду». Он посмел сказать их ему, мужу Лао Ци! Какой наглец! Почему вообще он это сказал? По какому праву?








