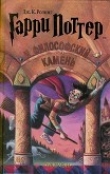Текст книги "Философский камень. Книга 2"
Автор книги: Сергей Сартаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Людмилу, неведомо почему, словно подбросило на постели. Она открыла глаза.
Не снимая промокшей жакетки, посреди кухни стояла Степанида Арефьевна, только что вернувшаяся с ночного дежурства, растирала посиневшие от холода кисти рук, говорила возбужденно:
– …вот то и дело, отец, что у нас и в ночь эту. На путях между переездом и платформой. Санитары с вокзала рассказывали. Они мертвяка как раз из вагона вытаскивали, в больницу потом на «Скорой помощи» отправили. И будто бы военного какого-то забрали, он, мол, пихнул этого человека под поезд.
– Ты гляди-ка, мать, что делается! – Епифанцев торопливо одевался. – Ну, шпана шалит всякая, понятно. А военный-то с чего же? Может, подлюга какой переодетый? Не трепня ли все это пустая?
– Да говорю же тебе, отец, с поезда по путям сейчас сама я прошла нарочно. Дождиком за ночь хотя и посмывало, но есть местами так, что и вполне еще кровь заметная. Народ все время там табунится.
– Ну, пойдем, мать, пойдем. Показывай! – Епифанцев обернулся к Людмиле. – Не спишь? Разбудили мы тебя своим говором, девица. Да, вишь, тут происшествие-то какое. А мы с тобой вчера сидели, чаи распивали, сном-духом не ведали, что, может, как раз в это самое время на рельсах кого– то убивали.
Людмила одевалась. Торопливо застегивала пуговицы на кофточке непослушными пальцами. Слово «военный» ее обожгло. Она знала: к Тимофею-то ведь это слово никак не могло относиться. Не толкнет, же он человека под поезд! А вот сердце все же заныло. Так больно заныло, что хоть диким криком в тоске закричать.
Надо скорее в Москву, в Лефортово. Повидать его, успокоиться. – Герасим Петрович, а я тоже с вами, – сказала она.
Оставаться здесь ей одной было бы невыносимо.
Дождик все моросил. Мутным туманом задернут был лес. С ветвей срывались крупные капли. Глинистую тропинку совсем развезло.
Епифанцев вдруг спохватился:
– Мать, а чего же это мы через лесок напрямую поперлись? Нам бы на линию куда лучше через переезд было выйти. Хоть и крюк загнуть, а посуше.
– Да я и не подумала. Все тут ходят.
На насыпи толпились любопытные. Но их уже оттесняла милиция. Ходили следователи вдоль рельсов, разглядывали бороздки и ямки в мокром шлаке, выдавленные каблуками сапог, рулеткой замеряли расстояния.
На правах и в форме сотрудника железнодорожной охраны Епифанцев все же протиснулся в круг. Провел за собой и Степаниду Арефьевну с Людмилой.
Потихоньку спросил кого-то из знакомых, не известны ли какие-нибудь подробности насчет пострадавшего и злодея. Тот так же тихонечко ответил Епифанцеву:
– Да на вроде бы какого-то прокурора убили.
И у Людмилы потемнело в глазах.
Степанида Арефьевна тянула ее к шпалам, показать, где остались заметными еще пятна крови. Она ничего не видела. И не могла, не хотела смотреть.
– В Москву, в Москву, Герасим Петрович, пожалуйста, отпустите меня! – просила она.
Ей нужно было как можно скорее встретиться с Тимофеем и узнать, услышать от него самого, что все хорошо, что «прокурор» и «военный», о которых толкуют здесь, никакого отношения ни к нему, ни к Петунину не имеют.
– Да уж вместе съездим давай, чего тут, я понимаю, – сказал Епифанцев. Сомнения стали одолевать и его. – День у меня как раз от службы свободный. А ты в Москве одна не ровен час заплутаешься. Мало ли куда нам с тобой поехать придется! Мать, ступай домой одна.
Но уже на Северном вокзале подтвердилось, что действительно жертвой ночного покушения оказался. Петунии. Фамилию военного назвать Епифанцеву не смогли. Сразу, дескать, его отвела милиция к коменданту.
– В Лефортово, Герасим Петрович, поедемте прямо в Лефортово! – торопила Людмила, едва шевеля побелевшими губами.
Дневальный их не пропустил в помещение, вызвал караульного начальника. Тот выслушал, сухо ответил:
– Такого рода справок о наших курсантах посторонним лицам мы не даем.
– Я не посторонняя! – воскликнула Людмила.
– А кто вы ему?
Она потупилась. Не могла произнести вслух: «Невеста!» – трепетное слово, которое и Тимофей еще ни разу ей не говорил.
– Ну, я тогда напишу ему записку. Передайте. Ну, передайте, пожалуйста! Пусть он мне ответит. – Людмила смотрела умоляюще, просительно прижимала руки к груди. Ей вторил, поддерживал Епифанцев.
Караульный начальник отрицательно качнул головой. Он знал о ЧП – чрезвычайном происшествии, но не имел права разглашать его.
– Не полагается.
Осторожно повернув Людмилу за плечи, Епифанцев вывел ее из проходной.
Куда же теперь? Где узнать? Епифанцев тер ладонью небритый подбородок; соображал. По гражданской линии справляться о военных в милиции ли, в прокуратуре ли – не ответят. Попробовать к коменданту города разве?
– Герасим Петрович, съездимте еще вот по этому адресу, – устало и как-то безнадежно попросила Людмила, вспомнив о записке, оставленной Тимофеем. – Там живут хорошие друзья, может, они чем помогут.
Окаменевшая, она сидела в трамвае, не замечая, стоит или, позванивая, катится по рельсам вагон. Не слушала, что говорит ей Герасим Петрович.
Теперь она уже, кажется, знала все. И только надо было в этом убедиться. И понять.
Но понять такое, все равно кто и что ей ни рассказывал бы, – понять невозможно. Она знала теперь, что это было. И знала твердо, что этого быть не могло.
Полина Осиповна стирала белье. Стряхнув пушистую мыльную пену. с коротких полных рук и вытерев их о фартук, она недоуменно взяла записку у Людмилы. Пригласила сесть. И стала читать. Вдруг вскинула голову.
– Ах, черт полосатый! – Подбежала к Людмиле, угнетенно ожидавшей, пока Полина Осиповна прочитает записку, приподняла со стула, принялась вертеть направо-налево. Радостно и оттого с каким-то даже присвистом сквозь щербинку в зубах восклицая: – Вот черт Тимошка! Вчера как раз про женитьбу ему говорила. Нос в землю уткнул: улыбается и ни гугу. А сам-таки присмотрел. Ну, черт полосатый! И не промахнулся: ладная! – Она смеялась, целовала Людмилу, поглаживая ей щеки и не давая выговорить ни слова. – Да живи, живи, милая, у нас сколько хочешь. Хоть до свадьбы, хоть и после свадьбы вместе живите. Только вот Даринька мой ушел сегодня с утра договор по вербовке подписывать. Не знаю, когда нас повезут, а решили мы твердо: уедем на Дальний Восток. Может, еще если время затянется, так как раз и с тобой и с Тимошкой уедем. Говорил он вчера: и его туда назначают. Ну, да ты и сама…
Епифанцев нетерпеливо вмешался:
– Товарищ Мешкова… Виноват… Ежели не спутал – Полина Осиповна? Мы к вам именно потому что девица наша ничего об своем Тимофее не знает. Пришли спросить вас про случай ночной. А насчет жилья не вопрос. Крыша есть над головой. У нас девица жить будет.
– А чего, какой ночной случай? – Полина Осиповна насторожилась. – Не знаю я ничего. Вчера посидели мы хорошо. Был Тимошка очень веселый. Даринька потом до трамвая его проводил, тоже ничего не заметил.
И когда из сбивчивого рассказа Людмилы с добавлениями Епифанцева она поняла, что произошло, ахнула и присела к столу, обессиленно бросив руки на колени.
– Ой, Тимошка! Да как же это!
Но долго оставаться бездеятельной было не в ее характере.
Полина Осиповна тут же встрепенулась, сдернула фартук, на ходу поправила перед зеркалом волосы, быстренько отжала недостиранное белье – «содой не переело бы», – кинула его в ведро с чистой водой и стала одеваться.
Побегу, поищу Дариньку. А еще – к Митиным. Очень просто, Володька Сворень уже с утра к Надежде своей заявится. Этот все будет знать. Не по дружбе, так по службе с Тимошкой. – И распорядилась решительно: – Ты, Люданька, со мной ни за что не ходи, будешь только стеснять, ты меня здесь дожидайся. Вдруг придет нужный кто-нибудь. – Повернулась к Епифанцеву. – А тебя, товарищ. Ну ты уж сам как желаешь. А со мной тебе тоже делать нечего.
Епифанцев, помявшись, решил, что тогда он поедет опять на вокзал. Через дружков в милиции, может, еще чего-нибудь выведает. А под вечер все-таки заберет Людмилу к себе, потому что зачем же ей здесь оставаться, когда есть свой дом.
– Ну, это мы еще поглядим! – заявила Полина Осиповна. – Нам бы сейчас сердце побыстрей успокоить.
Людмила осталась одна. Надо было ждать. И думать.
Почему она такая несчастливая? Будто висит над нею все время черная-черная туча с холодным дождем! И если хотя бы чуть-чуть своим горячим лучом сквозь нее проклюнется солнце, так сейчас же; налетит жестокий ветер, нагонит сызнова облака, и опять свет померкнет, и опять втягивай плечи под ледяным ливнем. Ну, что это – судьба? Или от тебя самой это зависит? Думай, Людмила.
Вот ты совсем было обрекла себя на покорную, тихую погибель в семье Голощековых. И погибла бы. Но хватило ведь силы тогда в самый тяжкий миг не поддаться, уйти. Встретились люди хорошие. И жизнь показалась хорошей. Гордостью полнилась душа от сознания, что человек все может. Лучше ли будет, если покориться судьбе, поверить, что от судьбы никуда не уйдешь?
А может, вновь встряхнуться, как было в Худоеланской, преодолеть себя? Поверить в удачу. Стиснуть зубы и – в бой! За себя, за свое счастье: И за Тиму. Потому что он-то не отступил бы. И, наверное, он сейчас не сидит так, повесив голову.
Утром как она взметнулась с постели, почуяв недоброе! Были и силы, и что-то вело же ее вперед и вперед. Что изменилось?
Людмила закрыла глаза. Ответила честно. Тогда, с утра, ей казалось, что все это простое недоразумение. И надо лишь как можно скорее развеять его. Развеять нелепые предположения. Догадки, не больше. А теперь, когда подтверждалось самое, страшное, отнялись руки и ноги. Что же ты, Людмила, способна только себя пожалеть? Только на это и хватает сил у тебя? Достаточно разве того, что ты сама и для себя отказываешься принять случившееся и сердцем и разумом? Ты докажи другим. Ты убеди других. Гора на пути будет стоять – сдвинь эту гору. Встретится море – переплыви. И не внушай себе, что это сверх твоих сил. Человек все может.
Возникло видение далекого детства. В школьной ограде, в укромном ее уголке, собралась группа мальчишек и девочек. Что-то там рассуждают о войне, о храбрых разведчиках, пытках, которым их подвергают в плену. И должен каждый доказать, что он вытерпит боль, вонзив себе под ноготь Иголку. Бросили жребий. Номер первый достался Виктору. Он взял иголку, долго примерялся и ткнул, наконец, в мизинец. Ткнул легонько, даже не под ноготь, а в мякоть пальца. И тут же отчаянно заплясал, заливаясь слезами; тогда взял иголку другой мальчик. И все увидели, словно сквозь стеклышко, как под прозрачную пластинку ногтя медленно проникает стальное острие…
Людмила трудно перевела дыхание, будто это всё сызнова повторилось у нее на глазах.
Тогда она потеряла сознание, не знает, чем закончилось жестокое испытание. Кажется, и этот мальчик кричал. Но он все же очень глубоко вонзил иголку под ноготь.
Вон на стене над комодом висит вышитая плюшевая подушечка с булавками и иголками. Возьми ту, что потоньше, и испытай себя.
Она подошла к комоду. Коснулась рукой подушечки, сразу словно бы ощетинившейся навстречу раскрытой ладони тупыми концами иголок. И отдернула руку.
Глупо! Что это, ребячье гадание? А если ты такой боли не выдержишь – и ты ведь знаешь, что не выдержишь, – значит ли это, что ты не способна на сильный, мужественный поступок?
Когда тебя насквозь прошила отцовская пуля, помнишь, в каком адовом пламени боли горела ты? Та боль пришла помимо твоей воли, и деваться от нее было некуда. Но ты ведь выдержала. А было ли это мужеством? Бойся боли, это твоя слабость, но не оправдывай этим все.
Воспоминания о пережитом вдруг вернули ее в ту страшную зиму, когда она, оцепеневшая в тифозной горячке, куда-то ехала, и сани качались, падали в глубокие выбоины на дороге.
А сбоку скакали верховые с винтовками за плечами. И кто-то– из тех верховых был Куцеволов. Так ей рассказывал Тима на берегу Одарги. Тот Куцеволов, который вырезал начисто целый таежный поселок, а вина за эту кровь в народной молве потом легла на ее отца. И на нее тоже.
Почему Тима, прощаясь с нею вчера в доме Епифанцева, с каким-то особым нажимом предупредил, что, если он не придет к ней в следующее воскресенье, значит, он ушел с Куцеволовым? В воскресенье он теперь уже не придет. Значит…
– Она закусила губу. Отчетливо представилось, как вчера у Епифанцева появился Петунии, как замер Тимофей, увидев; его на пороге, и как потом разладился весь разговор. Почему Петунин сперва хотел непременно дождаться Герасима Петровича, а потом поспешил уйти, и обязательно вместе с Тимой?
Людмила заметалась по комнате. Нет, она, убей, не запомнила ни одного из верховых, скакавших рядом с санями, но знает теперь, твердо знает, что к Епифанцеву вчера приходил, а до этого допрашивал ее на вокзале у себя в кабинете никакой не Петунии, а Куцеволов!
Надо об этом сказать, как можно скорее сказать… Но кому? В чьи двери с этим она должна постучаться? Вон в Лефортовской школе сразу, еще в проходной, ее остановили…
Все равно, она найдет того, кто должен ее выслушать! В Москве народу хорошего много…
Только что же так долго нет Полины Осиповны?
Уже совсем стемнело, когда вернулась она. Вбежала замученная, осунувшаяся. Включила свет, упала на кровать, заплакала.
– Люданька, солнышко, всё правда! Кинул Тимошка под поезд какого-то прокурора. Одно только счастье ему: – жив прокурор этот оказался…
– Я знаю, кого он кинул, – глухо откликнулась– Людмила, – И почему, тоже знаю. А что жив Куцеволов остался, счастье ли?
– Счастье, Люданька, счастье. Что же Тимошке нашему – ходить в душегубах?
И стала объяснять, что отыскала Дариньку – он, черт такой, успел уже вербовочный договор подписать, – а после они вместе видели Свореня и Гуськова, их расспрашивали. Гуськов уверяет, что все образуется, у Тимошки дело правое, а Володька Сворень твердит: дело кислое. Потому что Тимошку уже из курсантов отчислили и в его пользу совсем нет ничего.
Она приподнялась, села, утирая слезы. Поколебалась, говорить не говорить, и все же с запинкой добавила:
– Володька, проклятый парень, сказал: это ты, Люданька, закопала Тимошку…
Полина Осиповна хотела осудить Свореня за эти слова, душевно предупредить, что если Людмиле случится где столкнуться с ним, так пусть знает: не добрый он к ней человек.
И не успела закончить. Людмила схватила платок, как попало набросила на плечи жакетку и выбежала из комнаты.
Проплутала по мокрым улицам Москвы всю ночь, не зная где и не помня где. И только утром, совсем изнеможенная, прибрела в дом Епифанцева.
Ее лихорадило. Жар застилал глаза.
6Стучаться во многие двери и искать того, кто бы выслушал ее, Людмиле не пришлось. Когда она, пролежав больше месяца в постели с крупозным воспалением легких, поднялась и смогла ходить, ее ожидала уже повторная, повестка Танутрова. Подчеркивалась строгая обязательность явки, перечислялись какие-то вселяющие в душу страх статьи Уголовного кодекса и указывалось, что в случае уклонения свидетельницы от явки к следователю она будет доставлена принудительно.
Этот листок серой бумаги был отпечатан в типографии. Чернилами вписана лишь фамилия. И Епифанцев, достаточно знающий практическую силу таких грозных предупреждений, вернул бы со своей пометкой о болезни «гр. Рещиковой» эту повторную повестку, как поступил и с первой, если бы она не попала в руки самой Людмилы.
Отговаривать ее от поездки в Москву, когда еще к концу дня частенько поднимается температура, а на дворе пляшет, вьюжится первый зазимок, было бесполезно. Убеждала Людмилу и Степанида Арефьевна, убеждал и Герасим Петрович. Всяк. приводил свои очень важные доводы. Но ответ был один:
– Да как же мне не ехать! Я все расскажу, и Тиму сразу отпустят.
Герасим Петрович даже сердился:
– Кто только у Танутрова этого, не побывал, а толку что? До меня он добрался – откудова бы он узнал, где тебя сыскать? и я ему все как на ладошке выложил. Два часа просидел, рассказывал. Так он и две странички не исписал. И то опять-таки все больше про тебя, про твое появление в Москве. А какие наказы в тот день давал мне товарищ Петунии – ему вроде бы и совсем ни к чему.
– Ну вот, это все потому, Герасим Петрович, что вы о Петунине ему говорили, а я о Куцеволове стану рассказывать.
– Никакого Куцеволова я не знаю, – отмахивался Епифанцев, – и в то, что товарищ Петунии, как по-твоему получается, – офицер переодетый, не верю. В прокуратуру кого берут на работу, ему такая проверочка – мое почтение! А что, бывало, строжился товарищ Петунии – должность такая. Ей-богу, совет тебе, милая девица, на эту выдумку ты и не нажимай. Обсказывай по действительности.
– А я бы даже совсем и не так, – вмешалась Степанида Арефьевна. – Самое верное на допросе, уперлась: знать ничего не знаю. Господи! Ты, с тем-то и с другим виделась всего по часу. Сама из бед каких сибирских вырвалась, в Москву еле живая приволоклась, а тут по-новому начнешь себя мотать. Если твой Тимофей не виноватый, и без тебя его отпустят. А сейчас на вызовы прокурорские эти тверди одно: «Больная, больная я, никак не могу». И все. Больная ты и есть. Кашляешь, как топором рубишь. Схватить тебе вторую простуду?
– В запале ты говоришь. А ведь оно, конечно, мать, если с сердечной стороны подумать… – осторожно сдавал свои позиции Герасим Петрович.
– И я, отец, не бессердечная. Когда, как раз в лесочке этом нашем, впервой тебе на шею повесилась, так убивай меня тогда, ни об чем другом не подумала. Ну, а ей-то зачем же чужие глупости повторять?
Они оба душевно полюбили Людмилу. Все в ней располагало к себе: и внешность, и характер, и в особенности горькая судьба. Жили-жили они долгие годы вдвоем, привыкли к этому, и друг к другу привыкли уже до того, что вроде бы дни замечать перестали: все одинаковые. А тут хотя и заботы негаданные появились, потрудней самим в чем-то стало, но и живинка новая зато появилась от этих самых забот. О каждом дне теперь наперед думать надо: чего он с собой принесет?
К болезни Людмилы они отнеслись сострадательно, без тени недовольства, какое могло бы быть у других: вот, дескать, свалилась же обуза на нашу голову! Не о себе, о Людмиле подумали – не дает бог счастья человеку.
И теперь, не успев еще проникнуть как следует в ее внутренний мир, разгадать те чувства, которые ею владели сильнее голоса рассудка, они чистосердечно стремились уберечь Людмилу от новых горестей, не понимая, что этим самым, наоборот, лишь причиняли ей наибольшее горе.
– Пусть едет, – первым сказал Герасим Петрович. И покряхтел: – Вообще-то, зря. Ох, зря!
– Тогда уж и я провожу все-таки, – согласилась и Степанида Арефьевна.
Ей в этот день надо было все равно заступать на дежурство.
Заставив Людмилу одеться потеплее, а не все из запасной одежды Степаниды Арефьевны ей годилось по росту, и надо было ушивать, подметывать на живую нитку, – они вышли, из дому. Снежная метелица кружилась возле ног, колючими крупинками стегала, в лицо. Поворачиваясь то боком, то спиной к резком у встречному ветру, шагали молча. Степанида Арефьевна строго-настрого запретила Людмиле даже рот открывать, чтобы не наглотаться холодного воздуха. И хотя сама изнемогала от желания заговорить, крепилась: не надо вводить в соблазн другого.
Людмиле это было кстати. Она мысленно восстанавливала в памяти все, что произошло за время самой тяжелой поры ее болезни и стало известно потом по рассказам Герасима Петровича да со слов навестившего ее недавно Никифора Гуськова.
Мешковы уехали на Дальний Восток. Приходили прощаться. Но она тогда металась в беспамятстве, ничего не запомнила. А Мардарий Сидорович будто бы говорил, что обо всем написал комиссару Васенину и что Алексей Платонович обязательно вступится, не оставит Тимофея в беде. Только вот почта подолгу возит письма, и неизвестно, точный ли адрес комиссара дал им Сворень. Очень долго ломался.
Гуськов с грустью рассказал, что Анталова временно отставили от командования. Во-первых, случилось в школе ЧП из ряда вон выходящее, а это никому не прощается. Во-вторых, по слухам, нашли в сейфе какие-то бумаги, тоже Анталова компрометирующие. В-третьих, здоровье сразу после этого у него пошатнулось. И только теперь курсанты оценили Анталова, каким хорошим был он начальником школы.
А Людмилу волновало другое. Допрашивали многих, но Тима все не на свободе. Почему никто не сумел своими показаниями повернуть ход дела? Ведь ясно же, что надо было арестовать не Тиму, а Куцеволова! Ведь ясно же, что Тима не мог ошибиться, он видел; знает Куцеволова! И если этого никто до сих пор не сумел доказать, она это сделает. Она обязана сделать. И знает как, и может!
Занятая лишь этими думами, Людмила как-то совсем не заметила ни метельного пути до остановочной платформы пригородного поезда, ни прокислой духоты вагона, переполненного одетыми уже на зимний лад людьми, ни многих пересадок с трамвая на трамвай, пока она со Степанидой Арефьевной добиралась до военной прокуратуры, расположенной на короткой, светлой, нарядной улице.
Лицо у Людмилы горело. Росинками выступил пот на лбу. Ей было, жарко. То ли от шерстяной вязаной кофты, которую заставила-таки надеть под жакетку Степанида Арефьевна, то ли от нервного напряжения.
Первым холодом Людмилу обдало, когда, расставшись у подъезда прокуратуры со своей провожатой, спешившей на работу, она предъявила повестку дежурному, сидевшему за маленьким столиком сбоку от скрипящей пружинами входной двери.
Дежурный прочитал повестку смерил взглядом Людмилу:
– Здесь сказано: явиться к девяти ноль-ноль.
– Я и пришла.
– Ну? А сейчас одиннадцать, сорок. Не знаю, допустит ли товарищ Танутров.
– Да как же не допустит! Я ведь из-за города на поезде ехала. Часов у меня нет. – Она закашлялась. – И я больная.
– А больная, так надо лежать, больные не обязаны являться… Часы не отговорка. Могла бы и пораньше выехать, коли за городом живешь.
Он долго выговаривал ей. Потом с такой же яростью крутил ручку телефона, звонил Танутрову и, повесив трубку на рычаг, объявил с некоторым удивлением:
– Допросит. В четырнадцать ноль-ноль. Гуляй пока.
И Людмила вышла на улицу, теперь показавшуюся неимоверно длинной, холодной, серой.
Она не подумала попросить разрешения у дежурного дождаться назначенного времени хотя бы в коридоре и, чувствуя, как ноги наливаются усталостью; медленно бродила по заснеженной мостовой.
Ветер, продувал жакетку и вязаную кофту, колючие мурашки; иногда пробегали по спине, но разве это было существенным, ведь главное – Людмила радовалась – следователь допросит ее, выслушает и Тиму освободит.
Ах, как долго она по-глупому провалялась в постели, не смогла из-за этой болезни явиться сюда по первой же повестке'. Виноват Сворень. Это его жестокие слова, переданные Полиной Осиповной, бросили ее тогда в ночные скитания по мокрой Москве и довели до воспаления легких.
Почему Сворень так ненавидит ее? И почему она сама всякий раз от его слов готова бежать куда глаза глядят, хоть в речку кинуться, как это чуть не случилось в Худоеланской! Сворень о других заботится, других жалеет. В тот раз, в Худоеланской, он сказал, что из-за «белячки» может пострадать комиссар Васенин, теперь Сворень жалеет Тиму, которого опять-таки, выходит, она же «закопала». А что подумать бы Сворень о ней: как ее без конца закапывают! И самый первый – Сворень закапывает.
Вот побывает она у следователя, а потом пойдет к нему, вылепит нее прямо: в лицо.
Настроив себя так и на разные лады воспроизводя в своем воображении разговор, который у нее состоится со Своренем, Людмила убыстрила шаги. Но прилива энергии хватило ненадолго; бросило в сильную испарину, ноги отяжелели.
Долго ли еще ожидать? Хотелось есть, а еще больше – пить. Почему она отказалась взять с собой хотя бы ломоть хлеба, как настаивала Степанида Арефьевна? Думала, скоро вернется домой. Ан дело-то складывается по-другому.
Раза два она входила в подъезд. Дежурный поглядывал на часы: «Нет, рано еще», – и Людмила закрывала за собой басисто скрипящую дверь.
Казалось странным, что по улице без конца проползают звенящие у перекрестка трамваи, словно стреляя из пистолета; извозчики-лихачи взбадривают бичом своих расстилающихся на бегу рысаков; вышагивают и торопливые и медленные пешеходы; все-все движутся к какой-то точно определенной цели, только она одна слоняется, как неприкаянная, вдоль каменных, продутых ветром и присыпанных снегом стен.