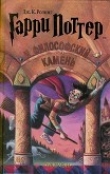Текст книги "Философский камень. Книга 2"
Автор книги: Сергей Сартаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
…Было как-то необычно вновь надеть шинель и туго, подпоясать ее кожаным ремнем, ощутить под пальцами холодок эмалевых «кубиков» в петлицах. Прошагать потом по широкому двору Лефортовской школы, козыряя на ходу встречным курсантам, новым, незнакомым. И постучать в дверь кабинета Анталова, еще до суда восстановленного в прежней должности.
– Товарищ начальник школы, разрешите?
Анталов не стал держать его навытяжку. Усадил, сам принялся привычно расхаживать по кабинету. И сразу приступил к делу.
– Формально два месяца учебы за тобой долгу, Бурмакин. Что же, как второгодника-дылду с малышами за одну парту сажают, так и тебя причислить к очередному набору? А ведь ты имел уже назначение в Особую Дальневосточную… Черт тебя попутал столкнуться с этим… Не знаю с кем.
– Куцеволовым.
– Да уж ясно, не Петуниным. Знал, что ты именно так; мне подскажешь. Ну, что же делать с тобой?
– Выполню любой приказ, товарищ начальник школы.,
– Ишь ты, как истосковался по дисциплине! А я сегодня согласен, если меня, с глазу на глаз и просто Николаем Ивановичем назовешь и сам себе приказ подпишешь. Выбор тебе вот какой предлагается. Ну, о двух месяцах я для страха сказал, это не в счет, коли назначение в свое время было тебе уже готово. Есть разверстка на Московский военный округ. В одну дивизию с Гуськовым тогда попадешь. И… – Анталов остановился, поднял палец кверху, – …можно постараться, опять же, насчет Дальнего Востока. Стой, стой! Небось, сразу вспомнил Алексея Платоновича. Понимаю. Еще бы – служить опять, вместе с ним. Так сейчас откровенно я тебе, Тимофей Павлович, вот что скажу. Оказывается, специально о твоей персоне хлопотал он давно уже. Согласовал все в наркомате, а там только и ждали решения трибунала…
Анталов был в веселом настроении. Его. обычно льдистые, пронзительные глаза теперь светились лукавинкой. Он выжидал. И трудно было выдержать.
– Что же зависело от трибунала, Николай Иванович?
– Вот тебе на! Так могли бы и посадить! Все тогда бы и разрушилось. А суть такова: в наркомате согласились при благополучном исходе дела уволить тебя в запас. Для поступления в Московский государственный университет. Вот теперь и выбирай. Думать тебе пять минут. Не потому, что некогда, времени мало, – командирский ум должен быстро работать. Свой собственный. В военном деле с женами не советуются. Они у красных командиров не командиры над ними, а боевые подруги.
Это ошеломляло своей неожиданностью. Университет всегда казался самой заветной, фантастической мечтой. И вот распахнуты двери туда. Похлопотал Алексей Платонович, дорогой человек. Не писал об этом ни слова, растравить боялся душу – вдруг действительно посадили бы! – в тысячу раз горше было бы тогда от мечты своей отказаться.
Вспомнились давние слова комиссара, сказанные при расставании: «Словом, Тима, пока походишь в шинели, а потом непременно станешь и отличным ученым». Вот он теперь и снял с него шинель и открыл дверь в большую науку.
Да-а! Самому-то Алексею Платоновичу не вышла эта счастливая доля: его доля – до конца жизни ходить в шинели, не выпускать оружия из рук, потому что в мире очень уж неспокойно.
«Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон…» – зазвучали в ушах слова строевой песни, е которой он, Тимофей, прошагал немало сотен верст. Белая армия разбита, и «черный барон» смылся за границу, там и окочурился. Царский трон им уже не вернуть. Нет этих старых врагов, на смену им явились новые. Иные просто переоделись в новую одежду. И только зазевайся, задремли – враз навалится со всех сторон темная сила.
«Так пусть же Красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой…» В этом, и только в этом, надежда Советской державы отстоять то, что добыто тяжелой борьбой в огне революции.
Алексей Платонович еще и так говорил: «Не век ты будешь носить шинель, хотя сейчас это нужно Родине. Не век будут терзать человечество жестокие войны…»
Не так-то много времени прошло с тех пор. И разве уже сейчас может Родина обойтись без него, Тимофея Бурмакина, одетого, как и прежде, в военную шинель? И новая война совсем никому не грозит?
Комиссар Васенин, понятно, на всю свою жизнь доброволец. Ему не нужны приказы, его голос сердца, голое гражданской совести всегда призывает стоять на том посту, где опаснее всего. Мардарий Сидорович, человек тоже военной выучки, пожил, пожил в Москве на спокойной работе, да и потянулся на Дальний Восток. Там труднее, и, как рабочий, он там нужнее. К тому же близ границы всегда сильнее порохом пахнет.
Эх, Алексей Платонович, все ты по щедрости душевной своей рассчитал, все хорошо подготовил! Бери только, получай твой подарок. Но ведь из памяти не вытравишь и эти твои слова: «Понимаю, тебе в науку хочется побыстрее. Так ты совмещай. Поставь себе это второй целью в жизни». Поставил. И совмещал. Рабфак окончил. А сколько книг прочитал, как раз по университетской программе?
Почему-то и Анталов не с этого начал. Зачем-то сказал «выбирай». Мог бы просто: «Вот тебе лист бумаги, пиши рапорт с просьбой об увольнении в запас». И так далее. Он это любит – предлагать писать рапорты.
Нет, конечно, и не играет он и не проверку делает…
– Пять минут, Бурмакин, закончились.
– Я прошу, товарищ начальник школы, подтвердить прежнее мое назначение. На Дальний Восток.
Анталов уселся на свое место за столом. И сразу сделался, как всегда, холодным и строгим.
– Думал ты долго. Потому вопросов к тебе не имею. Давай пиши рапорт.
И пододвинул перо и лист бумаги…
9Тимофей перевернулся на другой бок. На деревянном полу все-таки жестковато. В открытом поле, на земле, и то как-то лучше. К тому же еще и дует из-под двери. Ну да ладно, в полете наверстает, свое возьмет.
А Виктор спит, что называется, без задних ног. Это водочка, зелье проклятое. И усталость с непривычки, конечно. Дипломаты, они к комфорту приучены. Дома живет он, разумеется, по-барски. Весь какой-то изнеженный, словно в молоке вымоченный. Человек совсем другого мира. Показать бы Людмиле его. Помнит она брата. И обрадовалась бы, очень обрадовалась. Родной – всегда родной. Только у него-то, у Виктора-Вацлава, не особенно пылают к сестре родственные чувства. «Привет передай» – и достаточно.
Впрочем, что судить с первой встречи, с перепутанного разными разностями первого разговора? Можно и его понять: отыскались рукописи отца, в которых ему неведомо какие откровения чудятся, а тут ушат холодной воды на голову. И кто льет? По какому праву?
Ничего, разговор этот завтра, хочешь-не хочешь, а опять продолжится. В самом деле, не сидеть же всю дорогу до Иркутска бирюками. Виктор, может быть, и не станет скучать. У него есть веселая собеседница. Пилоты рассказывали: Ирина Ткаченко, оказывается, только что с мужем развелась. Ну и дурит, бедовая головушка, не то с радости, не то с отчаяния.
Если все пойдет хорошо – пилоты ворчат на сильную перегрузку, – послезавтра Верхнеудинск. Там Хабаровск, Владивосток, своя дивизия, свой полк, и – Люда. Милая, милая! Самому даже странно представить себе этот путь от Теруэля до Тихого океана, из одного конца материка в другой!
Сколько же раз Люда, наверно, водила пальцем по карте, догадываясь, близ какого кружочка с названием чужого города находится сейчас ее Тима. А он, на-ка тебе, внезапно из Москвы телеграмму: «Вылетаю». И подписался многозначительно: «Полковник Бурмакин». Ахнет Люда… Провожала, не зная, куда, майором…
Дрема сильнее одолевает Тимофея. Он поплотнее натягивает шинель. И видит себя опять, словно со стороны,
…На Восток, на Дальний Восток…
Экзамены, сборы в дорогу – все это промелькнуло совсем незаметно. Томила одна неотвязная мысль: а как же быть с Куцеволовым? Столько лет искать его, найти и дотом выпустить? Да еще торжествующего победу: он остался неразоблаченным. Из Владивостока его и совсем не достанешь, если здесь, из-под руки ушел. Ушел ли?
Никто из друзей не мог подать толкового совета. Чаще говорили: «Да брось ты мучить себя! Ведь и в самом деле ты мог ошибиться. А если и вправду столкнула тебя жизнь с Куцеволовым, так он достаточно наказан. На том свете, считай, побывал».
Так рассуждал даже Никифор Гуськов.
– Допустим, подать тебе заявление в гражданскую прокуратуру, – говорил он. – Дескать, обнаружил я замаскированного врага. Судили уже меня по этому делу. Только судили, не под тем углом зрения. Посмотрите на дело с другой стороны. Но бумаги-то, документы пойдут в оборот те же самые! И свидетели выступят опять-таки те же самые.
– Не могу отступиться, Никифор! Говоришь: Куцеволов наказан. Да ведь не по суду, не перед лицом народа. Он с суда ушел гоголем. Он мне еще хотел на бедность пятак подать. Нет, пусть Куцеволов посидит на скамье подсудимых. И прокурор пусть вслух перед народом прочитает имена людей, которых он замучил. Вот чего я хочу! А быть ли ему расстрелянным – это дело суда. Как он решит, по справедливости. На любой приговор я и слова тогда не скажу,
– Ну, подашь заявление. Состоится суд. А обвинение останется недоказанным. Значит, ты оклеветал честного гражданина. С каким лицом ты тогда уйдешь?
– Буду снова доказывать! Без конца, пока жив Куцеволов. И пока жив я сам.
– Тимофей! Это же несерьезно.
Возражать было трудно. А не возражать было нельзя.
В эти дни пришло письмо от Васенина. Радовался комиссар, радовался старший брат Алексей сделанному выбору. Хотя и попенял в конце: «А я-то старался! Думал, стану читать в газетах под старость: „Профессор Т. П. Бурмакин или, черт подери, академик Бурмакин Т. П. выступил с сообщением…“ Ладно! Еще придет время, выступишь. Суть не в газетной строчке, которая прочитается и забудется, а в том, что ты для Родины, для человечества, для светлой – жизни на земле полезного сделаешь».
На полях листа, во всю его длину, были приписаны строчки: «Тут недавно на границе поймали бандита, бывшего каппелевца. Оказалось, он как раз из отряда Рещикова. Припрятал, те самые чемоданы, что мы с тобой искали, а теперь задумал их из тайника извлечь. История занимательная. Приедешь, я тебе подробно все расскажу, как помчался я туда ознакомиться с содержимым этих загадочных чемоданов. Да и на допросе бандита поприсутствовать. Я спросил, не помнит ли он поручика Куцеволова? Не смог бы он опознать его при случае? И бандит сказал: „Как не помнить, помню. Из карателей. От самого Мариинска по тракту ехал с ним. Один раз по морде плетью меня полоснул. Запомнилось. Поглядеть – узнаю“. Намотай это на ус, если мысль о том, что ты схватился именно с Куцеволовым, а не Петуниным, тебя не покидает».
Словно бомба рядом разорвалась – письмо с такой припиской.
Но осели комья земли, и дым рассеялся, можно было оглядеться и подумать спокойно. Есть теперь свидетель! Есть. Нужен следователь…
10…Вериго не очень-то и удивился его приходу. Принял без задержки. Засмеялся дружелюбно:
– Здравствуйте, товарищ дорогой! Можете и вы теперь совсем, свободно называть меня товарищем Вериго. С чем пришли? Чувствую, покоя вам нет. Посоветоваться? Пожалуйста!
– Я вам очень верю.
– Естественно. Иначе не появились бы у меня. И я вам верю. Иначе не принял бы вас, допустим, по причине чрезвычайной занятости. Итак, комплиментами мы обменялись. К делу! – Хлопнул ладонями. – Что именно, боитесь вы, я разболтаю?
– Товарищ Вериго!
– А для чего же тогда слова: – «Я вам очень верю»? Старого воробья не проведешь на мякине.
– Это был Куцеволов.
– Ваше заявление для меня не новость. Но чтобы и мне повторить ваши слова, дайте некоторое время. Как видите, я не боюсь, что вы разболтаете. Потихонечку все сызнова проверяю. Сам по себе, без прямого мне поручения. А это труднее. Ну, иногда и легче. – Он погладил свои седые волосы, улыбнулся. – Очень уж тогда вы мне пришлись по душе, товарищ Бурмакин, исключительной своей убежденностью. Хотя суд потом показал, что, кроме нее, собственно, ничего на вашей стороне и не было. Но не смущайтесь. Именно эта страстная убежденность вам дело не испортила. Для будущего. Впрочем, ничего определенного не предсказываю. И Петунина пока я сам для себя называю Петуниным. Вы оскорблять человека подозрением можете, а мне такого права не дано. Выкладывайте на стол, если есть, ваши новые козыри.
На стол легло письмо Васенина. Его приписку Вериго долго и внимательно перечитывал.
– Ну что же, – сказал он раздумчиво, – для игры в подкидного дурака это туз козырной, а для игры в преферанс… Н-да, я. полагаю, с: Куцеволовым-Петуниным играть в дурака нам не удастся. Вы, товарищ Бурмакин, уезжаете на Восток? И счастливой дороги! Но я должен знать каждый час, где вас найти при надобности. И уж, разумеется, о всех новостях, подобно этой, вы меня сразу же извещайте. А от меня не требуйте докладов… Вам знать совсем ни к чему методику нашей, право, нелегкой работы. Терпеливо ожидайте ее результатов…
…Уже распрощались и с Гладышевыми: «Увидитесь с Мардарием Сидоровичем, наш поклон ему».
Последний вечер перед отъездом решено было провести у Гуськова. Прийти к поезду он не мог. Служба! Надюша приготовила угощение. Устроившись с Людмилой в дальнем уголке, она посвящала ее в какие-то свои секреты. Антошка в кроватке, заслоненный от яркого света байковым одеялом, тихо посапывал. Все говорили вполголоса, боясь его разбудить.
Никифор рассказывал о том, какое сильное пополнение пришло в его батальон по осеннему призыву. Ребята крепкие, здоровые, смышленые.
– Ты понимаешь, – говорил он, – какая разница. Вспоминаю, после школы дали мне взвод. Ну, комроты представил меня бойцам, как полагается, и ушел. А я давай общие слова говорить. Потом о себе что-то рассказывать, где и как воевал в гражданскую. О дисциплине напомнил, о бережном отношении к оружию. Стоят ребята, что называется, вдохновенно слушают. Остается времени минут двадцать. Чем занять? При себе свежая газета была. Статья интересная в ней на сельскую тему. А ребята деревенские. Думаю: надо громкую читку устроить. Но не самому же читать! Поднял газету, спрашиваю: «Кто; желает?» Стоят, молчат. Ясно: робость одолела. По себе знаю: как это иногда получается. Повторяю вопрос. Тишина. Стало быть, чтеца назначить надо. Командую: «Грамотные, шаг вперед!» Стоят. И тут только доходит мысль: весь взвод у меня из неграмотных…
Он не успел закончить, В дверях появился Сворень с женой.
– Ну и свинья ты, Тимка! – закричал еще с порога. Антошка беспокойно заворочался в кроватке. – Через третьих лиц узнаю, что ты здесь, у Гуськова. Мог бы и ко мне сначала зайти, по старой дружбе. Удивляюсь… Злопамятный ты, Тимка! А я к тебе всем сердцем. Вот жену мою спроси.
Наде было неловко. Она дергала мужа за рукав. Потом вышла вперед и остановилась неуверенно: подаст ей или не подаст Тимофей руку? Подал без колебания. Надя другого склада человек. Поздоровался и с Владимиром. Ладно! Что уж тут перед расставанием, может быть, навсегда, особо выдерживать свой характер! До него это все равно не дойдет. Ишь, загородился: «Жену спроси!»
– Никогда нельзя быть уверенным, Володя, в том, что скажут о тебе свидетели.
Так и знал: не дошло. Сворень самонадеянно ухмыльнулся.
– Надя у меня не подведет. – Она раздраженно отмахнулась, но Сворень продолжал: – А ты знаешь, Тимка, мы о тебе сегодня тоже очень хорошо поговорили. С этим самым, с Петуниным. Случайно на улице встретились. Остановил. У меня уши горели, как он тебя расхваливал. За твою честность, мужество. Вот, говорит, человек стальной закалки. Таких надо на самые высокие посты выдвигать.
Слушать это было невыносимо. Тимофея трясло от ярости.
Но Сворень и еще добавил:
– Правильно! – и я ему говорю. Но вы, говорю, тоже держали себя благородно, и Бурмакин это вполне оценил.
Сворень тогда еле устоял на ногах – чуть не свалился от крепкой пощечины.
…В день отъезда падал мягкий редкий снежок. По воинскому литеру едва-едва получили места в общем вагоне. А ехать одиннадцать суток, если еще не остановят надолго заносы в пути, и потому зевать нельзя. Не ворвешься среди самых первых в вагон, чтобы занять на двоих хотя бы одну верхнюю полку, и будешь всю дорогу сидеть в проходе, носом клевать.
С провожающими попрощались поэтому заранее. И пока подавали к перрону состав, люди уже облепили все подножки и тормозные площадки.
Помогал втиснуться в вагон Епифанцев, у него на этот счет была разработана надежная тактика. И все получилось отлично.
Ехали блаженствуя. И компания попутчиков подобралась хорошая, и вагон не развалюха, и, главное, на душе хорошо.
Иногда думалось: что ожидает их впереди?
– Теперь я все знаю. Какими глазами на жизнь посмотреть, такой ее и увидишь, такой она для тебя и сбудется, – сказала Людмила.
Им обоим путь казался радостным. И каждый вспоминал свою первую дорогу в Москву. Тоже к новой жизни и тоже в общем-то дорогу счастливую.
Даже за Уралом зима только-только еще начиналась. На больших стоянках у лесных разъездов можно было, играя в снежки, побегать поодаль от состава. И наломать душистых пихтовых лапок, украсить ими окно вагона. И можно было просто постоять на рельсах, прислушиваясь, как подрагивают они на далеком еще подходе встречного поезда.
Хорошо пелось под ночными звездами, такими теплыми и яркими, каких не увидишь в больших городах.
Может быть, именно тогда, в этой дороге, ощущая на себе плотно обтягивающую плечи шинель – знак его принадлежности к Рабоче-Крестьянской Красной Армии – и видя вокруг бескрайные просторы родной страны, тихо лежащие в вечерней мгле, а позади, за спиной, в вагоне, слыша мерный людской говорок, наполненный размышлениями о больших делах, какие ожидают каждого там, в конце пути, – именно тогда он с особой остротой осознал, что такое мир на земле, что такое свободный, радостный труд на земле и как высока его личная ответственность за все это,
И еще. Хорошо, что он выбрал себе такую беспокойную жизнь…
11Интересно, что-нибудь видится сейчас во сне Виктору? Какие заботы владеют его подспудно работающей мыслью? Или так – лег, будто провалился в черную яму.
В детстве это бывало. Теперь обязательно что-то снится, видится, думается.
Смешно. Когда-то мальчишкой сказал Виктору: «Будем как братья». И вот стали братьями – свояки!
Два совершенно чужих человека. Что же, теперь и в анкетах надо писать: имею родственников за границей?
Да-а, родственников за границей у него много. Вся Испания стала родственницей. Что там сейчас происходит? Где, на каких высотах дерется друг Мигель? С какой душевной болью приходится ему отступать! Но голыми ладонями не упрешься в броню фашистского танка и не остановишь его. Не схватишь в небе вражеский бомбардировщик рукой, не сшибешь его винтовочной пулей. То есть сшибали, случалось. Но разве это имеет серьезное значение в большой войне?
Тимофей ощупал шрам на шее. Еще болит, ноет. Отметина из синевы испанского неба, очередь фашистского пулемета. Пуля распорола, обожгла кожу. Чуть-чуть правее – и перебила бы сонную артерию. Не попадись ему под горло острый камень, когда он падал на землю, укрываясь от налета, и не подвинь он голову, пуля вонзилась бы ему прямо в череп, В бою всегда так, смерть всегда ходит рядом с тобой.
Когда проехали Тайшет и полотно железной дороги, казалось, еще плотнее обступили сибирские дремучие леса, Людмила заволновалась. Все время не отходила от окна, на котором легкий морозец выписывал по уголкам свои нежные узоры. Лицо у нее было серьезное, строгое. Да и ему эти места напоминали многое. А разговор как-то не ладился. У обоих в душе происходила словно бы взаимная примерка своих прав и обязанностей. И вдруг Людмила спросила:
– Тима, откуда ближе попасть на Кирей, из Шиверска или из Худоеланской?
Она точно отгадала его мысли. Да, ему очень хотелось сделать здесь остановку, как это было, когда он ехал с Володей Своренем в Москву. Но тогда стояло теплое лето, и времени в запасе оставалось больше. Сейчас сойти с владивостокского поезда – значит потерять неделю или ехать потом «на перекладных», с пересадкой в Хабаровске. И удобных мест в вагонах уже не займешь. При себе небольшой, но багаж, и Люда для ходьбы по таежным дорогам не очень-то подходяще одета.
– Из Худоеланской всего двадцать пять километров, а из Шиверска – вдвое больше. Но там есть какая-никакая дорога, от Худоеланской же, ты сама помнишь, как тогда мы ехали. А теперь там, конечно, и следа человеческого нет.
– Я ничего не помню, Тима, где и как тогда мы ехали. Ты сам выбирай, как нам лучше.
И это значило, что нет спора, остановиться или не остановиться. Надо решить лишь одно: где это сделать…
…От Шиверска они добрались на попутных подводах до Солонцов. Остальной путь шли пешком. Погода баловала. Мороз не обжигал, а только румянил щеки. На молодых сосенках громоздились снежные шапочки. Тронь рукой – и тебя окутает легкое облако искристой ледяной пыли.
Уда замерзла, должно быть, совсем недавно. Торосы льда под шиверой еще не забило метелями, солнце весело играло на их острых гранях. На самой шивере, как всегда, клубилась белым паром узкая, длинная полынья и мелкой рябью дрожали в ней быстрые потоки воды.
А над домами курились голубые дымки. Жизнь вернулась в них снова. Кто же там теперь, в этих домах?
Горло сдавило судорогой горя. Он, Тимофей, стоит на берегу такой милой сердцу реки, где прошло его детство, и, как прежде, бурлит шивера, и над крышей родного дома тянется к небу тонкий дымок, и тропа от проруби по косогору поднимается прямо к дому. Но не выйдет на крыльцо мать, не встретит сдержанно-радостным вскриком.
– Люда, если ты не озябла, пройдем сперва к ней.
Они пересекли Уду. Тонкий ледок иногда звенел и попискивал, змеясь трещинками у них под ногами. Людмила вздрагивала, однако, принужденно улыбаясь, шагала вперед как ни в чем не бывало.
Братская могила теперь была обнесена оградой. Четыре низких столба, и на них положены круглые слеги, пропитанные жидкой горячей смолой, отчего они сделались темно-красными. А в изголовье могилы вкопан вытесанный на четыре грани из огромного лиственничного бревна обелиск, высокий, заостренный вверху. Тоже багровый, в цвете самого дерева, и еще – от смолы. Чьи заботливые, добрые руки сделали это? Спасибо им!
В вершинах деревьев возились, прыгали какие-то птички, Стряхивая на землю плотные комки снега, тонкие жилки засохшей хвои. Дятел долбил своим тяжелым носом сухостоину, звонкое эхо прокатывалось по лесу и походило на короткие пулеметные очереди.
Чем помешали проклятому убийце Куцеволову все эти люди, лежащие сейчас здесь в промерзшей глине?
Чем и кому мешают люди, которых то в одном, то в другом конце земли изо дня в день косят безжалостные пулеметные очереди?
Затихает одна война, и тут же в другом месте возникает другая. Война – войне! Но сколько же еще будет пролито крови; пока, как в песне поется: «владыкой мира станет труд»!
Слезы туманили зрение, вспоминался тот страшный день…
Трудно было переступить порог родного дома, в котором теперь жили чужие.
Нет, почему чужие? Ведь это они огородили могилу и поставили над нею прочный, как гранит, лиственничный памятник.
Все в доме было, как прежде. И тот же стол, и кровать, и скамейка. Женщина, пеленавшая малыша в зыбке, подвешенной на длинном и гибком березовом «очепе», удивленно взглянула на них. Кто такие? Но страха не было у нее в глазах.
Оказалось, из переселенцев. Псковские. К таежной охотничьей жизни еще не привыкли. Мужики уехали на лесозаготовки. Это понятно. Верный заработок. Не то что удача-неудача на пушном или ореховом промысле.
– Хорошо присматриваете за братской могилой. Спасибо!
– Да ведь как же. В гражданскую, почитай, все наши тоже повоевали. Ну и решили миром о жертвах революции память навечно сберечь. Беляки тут резню учинили. Ни единого человека из здешних в живых не осталось. А мы в их дома, как в свои, поселились. Уважить обязаны.
– Остался житель здешний один. Вот я, поглядите.
И глубоко-глубоко поклонился тогда он той женщине.
…А Васенин не согнулся и не постарел. Только сильнее выбелила у него. виски седина. Пожаловался: иногда донимает бессонница. Оно и неплохо: лишнюю книгу в такие часы прочитаешь. Но утром встанешь – ноги тяжелые. А сердце при каплях Зеленина ничего себе, стучит, стучит еще.
Встретились, по уставу откозыряли друг другу, руки крепко, сверх уставного стиснули, а Людмилу Алексей Платонович в лоб поцеловал.
– Тима, береги ее! Не только человека, это само собой, но и красоту женскую имею в виду. Это ведь от мужчины в первую очередь зависит. Только знаешь ли ты, в чем подлинная женская красота?
Людмила застеснялась, смутилась.
– Алексей Платонович, не надо…
– Потерпи. Это экзамен ему. Видишь, как он голову ломает, не знает, с чего начать, с каких признаков. Какой формы носик или цвет волос… Красота женская, брат мой Тима, в выражении счастья на лице. При любом цвете волос и при любом носике.
Прав оказался Алексей Платонович. Именно в такие часы Люда сияла особой красотой, когда ничто не томило, не угнетало ее.
…Сибирь, сибирская тайга…
Будто тонкая струнка нежно звенела в душе, когда о ней думалось. Нет ничего дороже мест, где прошло твое детство. Но и Дальний Восток тоже стал милой сердцу стороной.
Сами названия эти: Галенки, Липовцы, Раздольное, Амурский залив, Первая речка, Вторая речка, Седьмая верста, Русский остров, бухта Золотой Рог, форты над нею – как все это глубоко свое. И золото осенней листвы, и парная теплота февральских туманов.
Выходы на учения со стрельбами в каменистые сопки, по утрам раскатисто-гулкие.
Привалы на обрывистом, скалистом берегу Тихого океана, когда в источенных прибоем камнях урчат и ворочаются горбатые: волны, а длиннокрылые чайки, постанывая, проносятся мимо усталых бойцов.
Первые месяцы командования ротой с необыкновенным ощущением ответственности за каждого человека. Тревожное ожидание утреннего рапорта старшины: прошла ли ночь благополучно?
А ночи случались всякие. Тревоги бывали не только учебные. И не только бойцов Красной Армии касались они: здесь, в пограничных районах, каждый житель готов был вступить в бой в любую минуту.
Было такое. Выпросили у командира стройбата на выходной день мотоцикл. И поехали с Людмилой по над берегом океана. Просто так, прокатиться. Мотор у машины оказался с капризами. Но заехали все-таки далеко. К ночи хлынул ливень, отчаянный, дальневосточный. Дорогу развезло, в скользкой глине мотоцикл бросало из стороны в сторону. Мотор работал с перебоями, а потом и совсем заглох. Машина повалилась набок, и Людмила страшно закричала: подвернулась нога.
Дождь все хлестал и хлестал. Темнота, хоть глаз коли. До казарм оставалось больше десяти километров. А Людмила даже встать не могла, не то, что пешком пойти.
Он попробовал понести ее на руках, но тут же, поскользнувшись, упал. Да-а, брести по вязкой, глинистой дороге и падать, падать беспрестанно – только причинять Людмиле страдания. Она тоже просила: «Пойди, Тима, и вернись с санитарной повозкой».
Оставить Людмилу одну? Под дождем в темноте? Но другого выхода нет. Он отстегнул кобуру с наганом, положил возле нее, сказал нарочито небрежно: «На всякий случай», – и сам зашагал торопливо. На душе у него кошки скребли: «всякие случаи» здесь не редки, а Людмила – плохой стрелок.
Он сумел приехать за нею лишь на рассвете. Дождь перестал. Людмила лежала далеко в стороне от залепленного жидкой грязью мотоцикла. Почему бы это?
В правой руке у нее был зажат вытащенный из кобуры наган. Тимофей покрутил барабан – все до единого патрона израсходованы. Он понимающе улыбнулся, поднимая и укладывая застонавшую Люду в повозку: трусишка, палила в воздух, в темноту.
И замер от испуга. Правый бок Людмилы был залит кровью.
Позже она рассказывала: услышала приглушенные голоса. Говорили на чужом языке, шли от берега к дороге. Чужие? Затаиться бы, авось не заметят, но она окликнула: «Стой! Кто идет?» И в нее выстрелили. Обожгло бок. Тогда она тоже стала стрелять, переползать по полю, меняя позицию, и стрелять. Она не знает, сколько это продолжалось, – сверкали в темноте красные огоньки, и пули тупо ударялись в землю возле нее. Она помнит лишь, что из «тех» кто-то упал, было слышно, как закричал человек, и его потащили к берегу.
Еще позже выяснилось: пограничная охрана сумела перехватить нарушителей в прибрежной полосе океана. Они плыли в шлюпке. Один из них был при последнем издыхании.
– Люда, зачем ты их окликнула? Они же могли тебя убить. Трое матерых бандитов…
– Но ты, Тима, ведь тоже их окликнул бы!
Вот такая она во всем…
Васенин ее похвалил: настоящая жена командира.
Еще Алексей Платонович сказал тогда: «Между прочим, личный пример, Тима, – лучший способ обучения своих солдат. Ты можешь со второго выстрела попасть в десятку из любой винтовки? Трудно требовать от других меткой стрельбы, если сам стреляешь плохо. Как ты на этот счет?»
В Лефортовской школе стрелять из нагана он научился. А вот от винтовки действительно, малость отвык. И сколько же часов, дней, недель пришлось потратить на самостоятельные тренировки, чтобы потом фантастическим мастерством удивлять бойцов на учебных стрельбах, а на инструкторских – высший командный состав! Даже самого Климента Ефремовича Ворошилова в дни приезда народного комиссара на Дальний Восток…
Его рота, рота Бурмакина, считалась лучшей в дивизии. Год работы с личным составом. Почему в других подразделениях за тот же год командиры не смогли добиться таких же результатов? Интересный ответ: «Кому-то надо же быть и последним». Вообще логика неопровержимая: в ряду, где есть первый, должен быть и последний. Как раз для софистики Виктора…
…А через год – в военную академию. Говорили: наркому понравился. Может быть, может быть… Что ж, стрелять, надо хорошо. А главное, просто работать, работать.