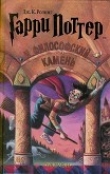Текст книги "Философский камень. Книга 2"
Автор книги: Сергей Сартаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Виктор оторвался от окна. Заметался по комнате. Да, да, все было так. Но ведь, сообщив адрес Руберовой, он же не предал ее. Нелепо и думать об этом. Если Анка убита Пахманом или его друзьями, им ничего не стоило найти ее и без такой подсказки. Она жила, не таясь.
Виноваты Мацек и Шпетка! Это они втянули ее в свою компанию и не сумели уберечь. Если бы они не привезли «испанский дух» и не ввязывались в бессмысленную борьбу с правительством, с генлейновцами, Анка была бы жива…
Яркий свет ослепил Виктора. Он не заметил, как скрипнула дверь, и щелкнул выключатель. Вошла Ткаченко, озябшая, постукивая каблуками сапог, озоровато щуря глаза.
– Браво, Вацлав! Вы тоже, оказывается; поднялись. А мы по морозцу хорошо погуляли. И все поглядывали: окна темные. Ну, значит, гость наш еще отдыхает. Пожалели будить. Ну, как вы себя чувствуете, как выспались?
– Мне хотелось бы это сначала услышать от вас, пани Ирена. И попросить у вас прощения, если я в чем-либо перешел вчера границы. – Он ласково взял ее холодную руку и поднес к губам.
– Чувствую я себя превосходно, – ответила Ткаченко. – А что касается границ, после того, как вы пересекли государственную, других границ для вас, я замечаю, просто не существует.
Слова ее можно, было понять и как колкое подтверждение того, что он действительно переступил дозволенное, и как кокетливый намек на то, что именно для него нет ничего запретного. Ткаченко не спешила отнять свою руку, это было похоже на приглашение действовать смелее. И Виктор быстро поцеловал ее в губы.
– Пани Ирена, вы такая милая…
– А вы большой нахал. – Она и хмурилась и смеялась. – Сейчас нам принесут завтрак. Подойдут; остальные, товарищи. И, может быть, мы вскоре улетим.
– Моторы работают так давно, пани Ирена, что мне казалось: мы уже целую вечность в полете. Но почему вы сказали «может быть»? Разве есть какие-то сомнения в этом?
– А, у летчиков всегда сомнения! – Ткаченко расстегнула шинель и стояла перед окном, как перед зеркалом, поправляла волосы. – То им в машине что-то не нравится, то в сводках погоды. – И пояснила: – Не в этом случае. Я вообще говорю..
– А в этом случае?
– Не знаю. Начальство аэродромное с экипажем решают, как быть. Кажется, циклон какой-то надвигается. А связь по маршруту ;плохая. Вот и выясняют: успеем ли проскочить, или надо сидеть у моря и ждать погоды. Вы что, боитесь?
– С вами, пани Ирена, я ничего не боюсь. Вы мой ангел-хранитель.
– Ну… в прямом смысле, напоминаю, ваш ангел-хранитель Стекольникова. Она ведь, а не я, получила удовольствие официально сопровождать вас от Москвы до Иркутска.
– Мне больше нравится то, что неофициально.
– И зря. Фаина, правда, малоразговорчива, но она все время беспокоится о вас. И сейчас вот ходит, извините, сует свой нос во все немедицинские дела. – Ткаченко подошла к столу, принялась наводить порядок. Да, Вацлав, вы не объясните мне, откуда вы знаете полковника Бурмакина? Вчера вы с ним так задушевно обнимались и долго спорили о чем-то. А ведь вы сами сказали, что первый раз в Советском Союзе, и Бурмакин, по-моему, кроме Испании, тоже нигде не бывал за границей.
– О, это сложная история, пани Ирена, – сказал Виктор, – в двух словах ее не объяснишь. Когда у нас с вами будет достаточно времени… А разве полковник был в Испании?
– Да, он и рану свою… – Показала на шею. – Я узнала, там получил.
И осеклась, сообразив, что проболталась, что незачем ей было рассказывать то, о чем сам Бурмакин посчитал необходимым умолчать.
А Виктора от слова «Испания» сразу бросило в жар. Оно связалось с недавними воспоминаниями об Анке, о Шпетке и Мацеке и вообще с политическими страстями, раскаляющими сейчас весь мир, страстями, которые всегда были ему так нежеланны, потому что трудно было от них увиливать, а какой стороны вернее придерживаться, он не знал.
18Завтракали торопливо и весело. Прибежал дежурный и сообщил, что удалось связаться с Иркутском. Есть возможность обойти быстро развивающийся циклон стороной. Если не задержаться с вылетом, взять южнее.
Первый пилот, совсем молодой, его вчера как следует не успел разглядеть Виктор, удовлетворенно потер руки:
– Нам бы только небо открыли, а там мы и сами дорогу найдем!
Оказалось, что он по этой воздушной трассе летит не первый раз и очень любит ее. Хорошие ориентиры: линия железной дороги, а поперек пути – большие реки.
Тайга? Ну что же, тайга сверху – очень красиво. Особенно Саяны, если уклониться подальше на юг.
– А вот еще Хамар Дабан за Байкалом, вот красотища! – восторгался он. – Жаль, что наш гость летит только до Иркутска. Я бы из кабины своей Байкал ему показал.
– Господин Сташек, закусывайте плотнее, – советовала Стекольникова, Горячей пищи до иркутских ресторанов не будет. Есть настроение – и выпейте, по-вчерашнему. Вы были просто молодцом.
Она Виктору теперь не казалась совсем уж безобразной, черствой, неприветливой. Отдохнула за ночь и посветлела. А может быть, подумалось ему, и ослабло душевное напряжение. Наверно, быть сопровождающим при иностранце здесь, в России, не так-то просто. Чувство ответственности. Создай ему все удобства, окружи вниманием и заботой, а сама не скажи лишнего слова. То-то она так была молчалива.
– Пани Стекольникова, я принимаю с благодарностью ваши наставления. Аппетит у меня превосходный. Все очень вкусно. Могу и выпить. Но для этого все должно быть по-вчерашнему. – Он выразительно посмотрел на Ткаченко.
Та лукаво вздохнула, налила по полстакана водки ему и себе, чокнулась.
– За ваше здоровье, Вацлав! Все остальные, поняла я за ужином, совсем безнадежны. И пусть.
– И пусть! Только мы с вами, пани Ирена, будем здоровы. Извините, пожалуйста; пани Стекольникова! Извините все, господа!
Он почувствовал, опрокинув стакан, что равновесие, наступившее после опохмеления в одиночку, нарушено. Эта порция водки снова бьет ему в голову, туманит сознание. Однако он ухарски улыбнулся. И даже не проследил за ловким движением Ткаченко, каким та отставила свой стакан в сторону.
– Друзья! У нас осталось очень мало времени, – напомнил Бурмакин. – Я никого не тороплю, но ровно через десять минут мы взлетаем.
За окном снова заработали моторы, и стекла в окне отозвались тонким звоном.
По летному полю Виктор шел, словно на пружинах, так легко и приятно было ему. Над лесом слабо желтилась заря. Выше лежали тусклые серые тучи. И, как вчера вечером, сыпалась с неба мелкая изморозь. Но было совсем не холодно. Может быть, это зависело и от выпитой водки, и от прекрасного настроения. Лицо у Виктора пылало.
Ткаченко мурлыкала вчерашнюю песенку, только без слов. А когда они оказались на середине пути между домом и самолетом, вдруг отбежала в сторону, шаркнула подошвами и покатилась по гладкому ледку, заливисто смеясь.
Ах, черт возьми, ведь дразнит, дразнит!.. Виктор с легкой грустинкой подумал, что веселому путешествию скоро придет конец. И вряд ли ему удастся хотя бы еще разок прикоснуться губами к свежим, прохладным щекам пани Ирены.
В самолете разговаривать Виктору не хотелось, тяжело было кричать сквозь грохот моторов. У него еще после вчерашнего спора с Тимофеем немного саднило в горле. И лучше всего бы устроиться среди мягких тюков где-то так, чтобы можно было спокойно лежать, а заодно тихонько любоваться приятным личиком Ткаченко.
Но возле него сразу же оказался Тимофей, сел вплотную.
– Знаешь, Виктор, – сказал он, морщась от шума, – вчера у нас с тобой какой-то беспорядочный и во многом абстрактный был разговор. А больше нам вдвоем побыть, как видишь, и не довелось. Я рано встал, бродил по морозцу и много раздумывал о нашей встрече. Вечером мы уже расстанемся. Но мне хотелось бы кой в чем поставить точки над «i». По-военному, что ли, привык к дисциплине во всем. В том числе и в мышлении.
– Давай, давай, полковник, командуй: «Смирно!» – вяло отозвался Виктор. Он боялся, что снова начнется затяжной спор. И прибавил, словно бы вскользь: – Между прочим, мой тесть, генерал Грудка, по этой части совсем недисциплинированный человек. Видимо, дисциплина мышления не обязательное свойство военных.
Виктор прибавил это для вящего эффекта: вот как непринужденно отзывается он об умственных способностях известного генерала!
– Мне хотелось бы, Виктор, прежде всего выяснить, кто мы: родственники, друзья, знакомые или случайно встретившиеся люди? – Тимофей не придал никакого значения игривым словам Виктора. Говорил очень серьезно. – Что я должен рассказать Людмиле? Я понял, ты ведь не стремишься повидаться с ней.
– А ты сам, к какой категории нас относишь?
– Что ж, я готов, если ты этого пожелаешь, отнести нас ко всем четырем категориям одновременно. Два знакомых человека, связанных прежней дружбой и нынешним родством, случайно встретились в дороге.
– И тогда придется множить твои вопросы бесконечно, – прибавил Виктор. – Почему я не стремлюсь повидаться с сестрой? Почему я раньше не пытался ее разыскивать? Будем ли мы переписываться с тобой? И так далее. Может быть, нам достаточно будет одной категории: случайных попутчиков? Разумеется, после того, как в Иркутске мы попрощаемся. Ведь здесь же, сейчас я не могу отрицать, что мы и родственники, и друзья, и, конечно, знакомые. Не думаю, что пути наши сойдутся и еще где-нибудь. А коль так, мы не больше как случайные попутчики. И тому и другому проще и легче. Как ты должен будешь рассказывать о нашей встрече Людмиле? Как найдешь нужным. Но мне кажется правильнее – ничего и никак. Вряд ли ты станешь рассказывать ей о Стекольниковой или Ткаченко. Вот причисли и меня к безликим твоим спутникам. Или так: летел с нами какой-то чех…
Виктор все это говорил с настойчивостью. Ничего интересного в будущем встреча с Тимофеем ему не сулила, и уж сам-то он, безусловно, дома о ней рассказывать. Густе не будет.
А Тимофей сидел, потирая ладонью подбородок. Хмурился.
– Мне как-то не думалось, Виктор, ни вчера, ни сегодня о том, что проще и легче, – проговорил он. – Жизнь, она жизнь и есть, какая сложится – трудная или легкая. И у меня совершенно не укладывается в сознании, что ее таким вот способом можно регулировать. Для личного удобства. Все-таки Люда моя жена, а ты ее брат. Это изменить никак нельзя…
– И тебе придется писать в анкетах: «Имею родственников за границей», – перебил его Виктор. – А, насколько мне известно, это у вас не очень-то поощряется.
– При любых обстоятельствах я теперь буду писать в анкетах, что имею родственников за границей, – возразил Тимофей. – Лгать я не приучен. А не поощряется у нас иметь за границей только плохих родственников. Впрочем, и у себя в стране тоже.
– Полагаю, что ты уже сделал вывод: для тебя я плохой родственник. Капиталист. И некоммунист, во всяком случае.
– А меня, Виктор, со вчерашнего дня, с первых наших слов не покидает мысль о том, что ты можешь и должен вернуться на родину. Сколько эмигрантов уже вернулось! А ты ведь даже и не эмигрант – щепка, которую забросили волны на чужой берег. С Чехословакией у нас хорошие, дружеские отношения, и решить все формальности, наверно, не составит труда: Ты, говоришь, некоммунист. Ты станешь коммунистом, когда вольешься душой в интересы родной земли и своего народа. Ты помнишь, какая была Россия, когда вы мотались по дорогам бегства колчаковских армий? Ты видел, какая она стала сейчас! И ты можешь представить себе, насколько краше сделает ее свободный советский народ?
– Мне незачем напрягать свою фантазию. И память о минувшем тоже, – сказал Виктор. – Это всхлипы сентиментальных старушек и чувствительных поэтов: «Земля родная, родной народ…» Глина, песок и перегной везде одинаковы. Земля – это почва, на которой растет трава. Народ… Извини, не понимаю, чем полковник Бурмакин мне ближе, нежели генерал Грудка? По-чешски я говорю так же хорошо, как и по-русски. И для чего мне становиться русским коммунистом и надеяться на какое-то отрадное будущее, если я в буржуазной Чехословакии имею уже сейчас достаточно хорошее настоящее. А когда папа Йозеф уйдет в мир иной, оно станет и еще лучше, потому что его пивоваренный завод перейдет ко мне по наследству.
– Виктор! И ты можешь так цинично об этом говорить? – Тимофей отшатнулся. – Это же страшно!
– Можно подумать, что ты, окажись на моем месте, отказался бы от наследства! – с насмешкой сказал Виктор. – Куда же тогда должно деваться все нажитое нашими отцами и дедами? Я знаю, вы эту проблему решили отлично. Поэтому я и не горю желанием вступить в ряды коммунистов. Лучше быть пивоваром. А что сами слова мои тебе показались циничными, я виноват, я не решился сказать о папе Йозефе: «Когда пан Иезус и святая Мария-дева примут его бессмертную душу…» В России не любят упоминать святых. А жизнь и по законам природы так складывается, что старикам, в общем-то, дано умирать раньше, чем молодым. От этой мысли, не облеченной в мои циничные слова, я думаю, и ты не откажешься.
– У меня было предчувствие, что именно к этому мы и придем в конечном счете, – хмурясь все сильнее, проговорил Тимофей. – А вчера я так искренне обрадовался: встрече. Уже видел тебя в нашем доме…
– …комнате, – язвительно поправил Виктор. – У вас никогда не будет собственного дома.
– В нашем доме, где мы живем, – резко сказал Тимофей. – На мой слух это звучит не хуже, чем «собственный». И видел, я, как Люда хлопочет, старается сделать, для тебя приятное…
– Ей приятнее будет все это сделать для тебя. Зачем ворошить то, что начисто забыто?
– Она тебя не забыла! Я же вчера говорил: мы часто тебя, вспоминали.
– А я вчера как будто просил передать ей привет. Теперь я беру, свои слова обратно. Тем более что Людмила помнит Виктора Рещикова, а я Вацлав Сташек. Виктора сначала бросил на гибель в ледяной тайге один его свежеиспеченный брат, а потом этот Виктор вместе с прочей белогвардейской сволочью где-то на дороге подох от сыпного тифа. Теперь все точки над «i» поставлены?
Виктор сказал все это в редкой для него запальчивости, почуяв риторическую выигрышность своих слов. Сказал и внутренне сжался, ожидая, что Тимофей немедленно ударит его. :
Но тот даже не шевельнулся.
Скосив глаза, Виктор заметил только, что он словно бы потемнел, изменился в лице.
19Молчание длилось довольно долго. Надсадно выли моторы, словно бы винты самолета вкручивались во что-то густое, плотное. По дюралевой обшивке машины пробегала частая, дрожь, Иногда самолет кренился на одно крыло и потом очень медленно выравнивался.
Ткаченко и Стекольникова в обнимку лежали, втиснувшись между тюками. Возможно, они спали, Виктор перешел бы к ним, но здесь, на этом своем месте, он очень хорошо пригрелся. И, кроме того, сильнее нравственная победа, когда не ты, а твой противник, побежденный в споре, сам от тебя уходит.
Но Тимофей не уходил. Он снова заговорил. Очень жестко.
– Ты прав, Виктор, – сказал он. – Даже в четырнадцать лет можно наделать таких ошибок, которые не простишь себе потом всю жизнь. Я взялся вывести через тайгу отряд твоего отца. И вывел. Это была моя ошибка. Мне следовало бы завести отряд в такие дебри, из которых он не выбрался бы. Но я не жалею об этой ошибке. Потому что отец твой был хороший человек. Так подумалось мне тогда. 'Гак и теперь я считаю. Среди его солдат были разные. Не знаю их судьбы, но один, по имени Федор Вагранов, оказался, говоря твоими словами, прочей белогвардейской сволочью. Я выручил тогда твоего, отца, а этот Вагранов, по существу, его прикончил. Погибли моя мать и все мои соседи, охотники. Как тогда ни поступил бы я, гибель близких мне людей я не сумел бы предотвратить. Куцеволов вернулся с половины дороги, и остановить его все равно оказалось бы не в моих силах. Я долго искал Куцеволова, нашел его, и он наказан. Федор Вагранов тоже наказан. Нет, я не жалею о той своей ошибке.
– Ты нелогичен. Признал мою правоту, – с насмешкой проговорил Виктор, – а теперь пытаешься вывернуться. И очень к себе снисходителен. Конечно, тебе приятнее было бы ласкать себя мыслью, как ты повторил подвиг Ивана Сусанина, а сам остался жив.
– Мне врезались в память слова Куцеволова об Иване Сусанине. Тогда я не знал, кто это такой. Но если бы знал, я все равно бы сделал по-своему. Тогда я пожалел твоего отца. И всех солдат, какие были с ним, Повел их через тайгу, не думая, сам останусь ли жив. Повторяю, ошибся, но об этом я сейчас не жалею. Была вторая ошибка. Вот ее я себе простить не могу. Я должен был от зимовья увести тебя с собой. Силой. Как угодно, даже морду тебе набить, а увести. Ведь я тогда сказал: «Будем как братья».
– Если ты так долго мучился, я с удовольствием тебя от этих слов освобождаю. Уж это ты можешь не считать своей второй ошибкой! Я благодарен судьбе, что не пошел с тобой.
– Я должен был тебя увести, – упрямо сказал Тимофей. – И сейчас мы разговаривали бы иначе. Как братья. И ты не отрекся бы от сестры. И ты любил бы родную землю – не просто глину и песок. Ты радовался бы вместе со своим народом тому, как хорошеет она. И память твоего отца Андрея Петровича Рещикова была бы тебе дороже его рукописей, за которыми ты едешь – я буду тоже резок, извини – как за выгодным имуществом человека, ушедшего в мир иной и оставившего это имущество тебе в наследство.
Виктор трудно сглотнул слюну. Он не ожидал такого поворота в разговоре. Ему казалось, что Тимофей признал свое поражение и лишь делает хорошую мину при плохой игре. Но тут вдруг он ощутил какое-то еще неясное ему самому томление совести. Вот будто бы он и приподнялся сейчас над Тимофеем высоко, а стоит, качаясь, словно на ходулях, все время опускающихся в зыбучий песок. Тот самый, который, по его убеждению, везде одинаков. Но где же твердая земля? Куда ступить ногой, чтобы не чувствовать этой засасывающей зыбкости?
Самолет лег в крутой вираж, и центробежная сила притиснула Виктора к Тимофею. Он попытался оттолкнуться от него и не мог, пока машина не пошла круто вверх. Стало легче.
– Ты все повторяешь: родная земля. – Виктор не мог примириться, чтобы последнее слово осталось не за ним. – Но чем она привязывает лично тебя? Только страхом суда за измену ей. А ты маскируешь это и называешь любовью. Так и каждый. Если быть вполне откровенным, и я так говорю о той земле, на которой сейчас живу. К несчастью, за измену родине судят везде. И этого всякий боится. Но, право же, есть много на свете стран гораздо лучших, чем Россия или Чехословакия, и куда ты, я, каждый с удовольствием переехал бы, если не фальшивить перед самим собой и не называть страх любовью.
– Теперь я должен спросить тебя, Виктор: все точки над «i» поставлены? – Тимофей сидел по-прежнему словно каменный, а лицо его все темнело и темнело.
– Да! Впрочем, пожалуй, нет. Если ты так любишь свою родную землю, именно любишь, а не скован цепями страха перед ее властителями, зачем тебе нужно было ехать в чужую Испанию, где сатана хватил тебя своим горячим когтем?
– С чего ты взял, что я был в Испании?
– Какое это имеет значение? Важно то, что ты там был.
– Хорошо, не стану отказываться. Стыдиться мне нечего. Там были добровольцы со всей планеты. Там достойно сражались и чехи. Испанский народ никогда не забудет их славного подвига при взятии Бельчите, самого сильного укрепления фашистов в Арагонии. Мне рассказывали, одну из улиц этого городка испанцы назвали именем, помнится, Алоиса Шпетки. Он командовал чехословацкими добровольцами, взводом, который, первым прорвался в крепость. И если меня сатана только когтем хватил, то многих он спалил насмерть своим смрадным огнем. Кажется, и этого прекрасного парня, героя.
– Шпетка, к сожалению, остался жив, я знаю, – сумрачно и зло вставил Виктор. Он не мог удержаться. – Но улицу эту, предчувствую, скоро снова переименуют.
– Табличку домов нетрудно сорвать. А из сердца народа добрую память о герое не вытравить. Ты спросил, зачем мы туда ехали? Помочь честным испанцам! Не дать фашистскому племени расползтись по земле, И для того, чтобы ты, бросив по трусости и ребячьему недомыслию родную Россию, не предал потом сознательно еще и усыновившую тебя Чехословакию. Потому что, ясно уже, с сатаной ты легко бы мог сговориться. Во всяком случае, одна из его омерзительных фраз: «Я освобождаю человечество от унизительной химеры, называемой совестью», – целиком вливается и в твой символ веры. Только человек без совести может сказать, что для него не существует понятия Родина и что не искренняя сыновняя любовь к родной земле, а страх суда за измену заставляет его не покидать эту землю. Наш разговор окончен?
– Он мог бы продолжаться. Но ты коммунист, а я противник ваших идей. Середину нам, пожалуй, не удастся найти.
– Середина – борьба. Если ты хочешь продолжать борьбу, я согласен. Но имей в виду: ни на волосок от своих убеждений я не отступлюсь. Не надеюсь сделать тебя коммунистом, но пробудить в тебе засыпающую совесть буду стараться.
– Не стоит труда, – раздраженно сказал Виктор. – Побереги свои силы для строительства коммунизма в России, поскольку в Испании сатана, слава Марии-деве, не позволил этого сделать. А о моей совести не заботься. Спит она у меня или не спит, но я живу, и живу хорошо, не вступая с нею в конфликты.
– Стало быть, у тебя совесть очень покладиста.
– Пожалуй, закончим этот бесполезный диалог. Поговорим о погоде. Тебе не кажется, что самолет стал сильно скрипеть и словно бы корчиться? В чем дело? Меня тошнит.
– Сейчас схожу к пилотам, узнаю. Но я думаю, будет уместнее, если с этой минуты вы меня будете называть «полковник Бурмакин», а я вас – «господин Сташек».
Тимофей поднялся и, преодолевая все усиливающиеся толчки при падениях самолета в воздушные ямы, скрылся за дверью.
А Виктор откинулся на спину и тяжело перевел дыхание.
Теперь, когда неприятный разговор, так или иначе, завершился, воля расслабла, дурнота стала одолевать с особой силой.
Он переполз к женщинам, разбудил их и попросил у Ткаченко мятных таблеток.