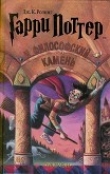Текст книги "Философский камень. Книга 2"
Автор книги: Сергей Сартаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Заложив руки за спину и напружинив прямую короткую шею, полковник Ямагути прохаживался по кабинету.
Федор стоял навытяжку, ждал вопросов.
Лицо у Ямагути было непроницаемо. Наконец он остановился.
– Сордат, совершивший, подвиг, достоин уважение, – сказал он. – Это верно, что другие сордата Вагранова не уважают?
– Они завидуют, господин полковник, ответил Федор. – Не каждый солдат способен на подвиг.
– Это хоросо. – Ямагути слегка склонил голову набок. – Нехоросо, когда сордаты ргут.
– Виноват, господин полковник. Сказал не точно. Есть и такие, которые жалеютКосоурова.
Ямагути удовлетворенно засмеялся. Подошел к столу, взял лист бумаги, карандаш.
– Их имена?
И Федор, напрягая память, с холодной злобой, в отместку за переменившееся к нему отношение товарищей, стал называть одну за другой фамилии, пока Ямагути не остановил:
– Доворно. Это осень много. Но это так?
– Так точно, господин полковник!
Второй раз просить извинения за ошибку Федор не посмел.
– Хоросо. – Ямагути вертел в руках лист бумаги, разглядывая свои записи. – Осень хоросо. Просу сордата Вагранова объяснить, поцему он стреряр своего друга, не взяр живым?
– Он не был моим другом, господин полковник, – ответил Федор. – Когда я на службе, у меня нет друзей. А Косоуров далеко прополз к границе. Я не успел бы его схватить.
Стриженная под бобрик голова Ямагути наклонилась в знак согласия, но взгляд у него был холодный, сверлящий.
– Мертвые морчат, – сказал он, как бы продолжая объяснения Федора, – живой может пробортаться, как его уговаривар друг.
Холодок пробежал по спине Федора. Догадывается Ямагути или ему все точно известно?
Кто мог подслушать, кто мог донести о его, Федора, разговорах с Ефремом? Слышали стены, ветер, земля. Выходит, Ефрем сам пооткровенничал с кем-то.
Так или иначе, теперь доверия от Ямагути не жди. Федор в злобе стиснул кулаки: дешево было пустить Ефрему пулю в затылок! Сдавить бы рукой глотку и слушать, как он задыхается!
Ямагути медленно прохаживался по кабинету; Делая короткие паузы, говорил:
– Хоросо, когда сордат дерает так. Нехоросо, когда сордат обманывает. Но я не буду наказывать. Его наказари другие сордаты потерей своей дружбы. – Ямагути многозначительно поднял палец вверх. – Сордаг Вагранов поруцил бы строгое наказание. Теперь я прощаю. Но я хоцу, цтобы сордат Вагранов всегда рассказывар правду. Все, цто он видит и срышит.
Полковник улыбнулся, обнажив крупные крепкие зубы, и сделал знак: можно уйти.
У Федора потяжелели руки, наполнившись горячим током крови. Но он быстро овладел собой. Поблагодарил господина полковника и попросил, разрешения обратиться к нему.
Ямагути наклонил голову.
И тогда Федор, тщательно выбирая слова, стал говорить о том, что владело его мыслями все последние дни. Рассказывал веско, обстоятельно, хитро уводя полковника от предположений, что эту просьбу он связывает и с какой-то личной надобностью.
Ямагути не перебивал Федора и ничем не выразил своего отношения к его рассказу. Просто повторил прежний знак рукою: можно уйти.
А через несколько дней на занятиях поручик Тарасов приказал Федору выйти из строя и объявил, что он арестован на трое суток за плохое обращение со своим оружием. Тут же с Федора сняли ремень и увели на гауптвахту.
Он недоумевал. Оружие в отменном порядке. Значит, тут что-то другое.
Федор не ошибся. В тот же вечер его посетил Тарасов. В маленькой каморке с зарешеченным окном они были только вдвоем. От Тарасова слегка припахивало спиртным, поручик зевал, потягивался, заведя сцепленные кисти рук за голову.
– Ты понял, почему ты здесь? – спрашивал он Федора. – Ты здесь потому, чтобы другие не поняли. Тебе вменяется сегодня ночью – ты понял? – выполнить один приказ. Если отличишься, с тобой будет говорить полковник Ямагути, сам знаешь о чем. Сегодня ночью ты перейдешь границу – ты понял? – я покажу тебе где, и ты пробудешь там целый день. Вернуться должен ты послезавтра, но задолго до рассвета – ты понял? – я снова буду тебя ожидать. Твоя одежда крестьянская, твое оружие – нож. Поймают красные, живым не сдаваться, так и так хана тебе тогда. Только на этот случай, ты понял? – тебе пистолет. С одним патроном. Фальшивых бумаг при тебе никаких. Без бумаг, без легенды останешься на той стороне, – ты пропал. Это проба, ты понял? Потом, если полковник Ямагути захочет, ты пройдешь школу.
– Я все понял, господин поручик, – сказал. Федор. Тарасов ушел. А когда стемнело, – Федору принесли узел с одеждой, кисло пропахшей махоркой, дали узкий и остро отточенный нож, пистолет с одним патроном.
Он вспомнил: точно так были одеты люди, которые тащили на себе взрывчатку к мосту, когда все напоролись на красных пограничников, а Ефрем очень ловко срезал из них одного. Дурак – и не попользовался своей удачей!
Ему делают пробу. Что ж, хорошо. Он сделает все так, как требует Тарасов. Надо полностью восстановить доверие Ямагути. Только тогда можно рассчитывать на хорошие бумаги и легенду, с которыми после будет не страшно уйти вглубь красной России. Он – не Ефрем и перейдет границу не затем, чтобы целовать землю и сапоги у тех, кто выгнал, его с этой земли. А сейчас он проведет, на ней только один день, так нужно, но и в этот день не дай им бог никому изведать, насколько остер его нож. Тут же в мыслях со злой жестокостью он поправил себя: «Дай бог, дай бог!»
К границе они верхом приблизились в середине ночи. Ехали втроем: Тарасов, Федор и еще один, незнакомый солдат, должно быть, человек Ямагути.
Ночь была ветреная, беззвездная, тяжелая мгла окутывала все кругом. Шумно хлестались одна о другую ветви орешника, оторванные ветром, сухие листья летели навстречу, больно секли лицо.
Остановились недалеко от того места, близ которого Федор не так уж давно лежал в кустах, ожидал Ефрема, держа его под прицелом ручного пулемета. Федору хорошо запомнился этот овражек.
Прихлестнув коней поводьями к коренастым дубкам, дальше они направились пешком. Тарасов карманным фонариком подал: налево какой-то сигнал, и это, видимо, означало: идут свои.
На дне овражка было тихо, ветер метался над ним где-то в тяжелом, черном небе. Тарасов еще раз повторил Федору его задачу и сказал, что до границы он дойдет с другим солдатом, а там ползти уже ему одному. Но если на самой границе со стороны красных вспыхнет тревога, этот солдат будет его: прикрывать. Прикроют огнем и с ближних постов.: Тогда отходить. Он похлопал Федора по плечу:
– Давай! Прикрытие буду держать три часа.
И словно бы под конвоем, как на расстрел, Федор пошел впереди, а прикрывающий его солдат, неся винтовку наизготовку, в двух шагах сзади. Они брели молча, спотыкаясь в темноте о глыбы проросшей травою земли, скатившейся на дно овражка с верхних кромок обрыва.
Федор шел и думал: как раз вот здесь недавно полз Ефрем, надеясь на какое-то свое счастье. Он был дурак. Хотел распластаться перед красными, жить потом в тишине. В покорности счастья себе никогда не найдешь. И силой его не возьмешь, В самой силе – счастье. Знать, что ты сильнее другого, – вот счастье.
Его словно бы бросило в сторону. Он узнал бугорок, возле которого остался лежать Ефрем. Испуганно повторяя движения Федора, метнулся вбок и шедший за ним солдат. Федор невольно чертыхнулся.
Он опустился на землю, передохнул немного и ползком перевалился через бугорок. Хоть ночь и черна и ветер суматошно мотает безлистые кусты, на два десятка шагов не видно уже ничего, но осторожность все-таки не мешает.
Было бы лучше пересечь границу у поста «22»: там Федору все же запомнились некоторые лощины, поляны, островки виноградника. Но после неудачи со взрывом моста поручик Тарасов суеверно боится тех мест. А здесь много мелких овражков с гремящей галькой, оставшихся от весенних ручьев, в них недолго запутаться и напороться на дозоры красных. Зато ночь хороша. Если с умом, смекалкой и еще с фартом, можно пробраться под самым носом у любой охраны. Только не надо спешить.
Федор медленно полз по колючей, выжженной зноем траве и вдруг замирал, осторожно поворачивал голову вправо, влево, вглядывался, прислушивался. Нож у него был наготове. Он знал: если придется столкнуться один на один, его никто не одолеет. Избежать бы лишь выстрелов.
Ныли локти, колени, содранные в кровь о щебенистую землю. Один раз Федор чуть не вскрикнул от сильной боли, когда, подтягиваясь на руках, острым камнем разорвал себе кожу возле запястья.
Он чувствовал, как все время из ранки сочится теплая кровь, и злился на свою оплошность. Перевязать бы, да черт с ней, засохнет и так. Важно, что каждый вершок вперёд приближает его к задуманной цели. Поручик Тарасов пугал, что без фальшивых бумаг, без легенды он пропадет. Бумаги, и не поддельные, потом он добыть сумеет, была бы сила в руках. Где-нибудь в глубине, подальше от границы, у таежной реки, дом одинокий…
И легенду он может придумать себе не хуже, чем ему придумает поручик Тарасов. Онрусский, свой язык не позабыл, а все остальное приложится, когда есть голова на плечах.
Но, кажется, можно подняться и на ноги: по всем расчетам, опасная черта далеко позади. Теперь не пограничников бойся – бойся лишь собственной глупости.
Федор с наслаждением разминал словно бы стянутые веревками плечи, так они занемели от долгого ползания.
Он стоял на склоне невысокой сопки, очень похожей на те, что остались сейчас за спиной. Что же, послезавтра вернуться? Назад, к Тарасову, к Ямагути, которые все равно никогда по-настоящему не поверят ему, а будут только посылать, на самые опасные дела. Вот он счастливо пересек эту границу. Встретится ли снова такая возможность? Даже с хорошей легендой, придуманной самим Ямагути.
Вглядывался в глухую темень ветреной ночи и соображал, в какую сторону ему лучше направить первые шаги.
Земля эта не манила Федора своим теплом. Солдат пришел не беречь, не лелеять ее. Она для него чужая. Но все же носить eгo она должна. И пусть пока не знает эта земля, что Федор для нее тоже чужой.
Куда пойти? Ну, подскажи, земля!
Что ж ты молчишь? Или ты так и будешь немая?
26От керосиновой лампы с надетым прямо на стекло бумажным абажуром падал на стол неровный круг желтого, усталого света. Пахло паленой бумагой и типографской краской, абажур сделан был из газеты. И оттого, что световое пятно занимало даже на столе совсем малюсенькое место, казалось, что ни стен, ни потолка в комнате вовсе нет, а над головою и за спиной открытое, бескрайное, холодное пространство.
Набросив на плечи куртку и зябко поеживаясь, хотя в комнате было тепло, Мардарий Сидорович сидел и писал письмо Тимофею. Времени он не замечал, хотелось поговорить с хорошим другом, высказать все, и листы бумаги, крупно исписанные с обеих сторон, заменяли ему сейчас живой разговор.
«Здравствуй, Тимофей, Тимофей Павлович! – писал Мешков. – Ну, вот и похоронил я позавчера свою Полину. Рука моя вздрагивает, когда я пишу тебе эти слова, и дышать нечем. Спроси, почему я остался? Зачем я остался? Такого не думалось мне никогда, что стану я кидать сыпучий песок на ее могилу. Оно так, люди живут вместе, а умирают поврозь, только нам и помереть надо бы вместе. Один я теперь – все равно, что нет меня на этом свете. Говорят: привыкать надо… привыкнешь. К чему привыкать-то? Были мы с Полиной друг к другу, привыкшие. А к одному: себе чего привыкать? Тянуть надо. Буду тянуть.
Понятно, когда самые тяжелые эти дни я перемучаюсь, стану работать снова, как было, может, и посмеюсь веселому слову когда, но тому, что сломилось внутри у меня, уже не поправиться. И это горе-тоску до своего гроба буду носить с собой. Не шутка же это – отнять у человека самое дорогое. А дороже Полины никого на свете у меня не было. Умерла бы еще сама, а то ведь отняли, отняли, звери, враги проклятые!
Расскажу я тебе, сейчас: долго страдала она, а скончалась при полном сознании, тихо. В последний ее час мы даже и поговорили. Все оставляла она меня жить на земле, хорошей жизни для меня просила. А жизнь хорошая – это что, это просто во всем честным быть человеком. Тогда никакая ни грязь, ни хула к тебе не пристанет. Это будет жизнь твоя для других. А себе, в чем себе-то жизнь хорошая будет, если в дом придешь, а вокруг тебя пусто?
О тебе тоже говорила Полина, сам ты знаешь, с каким верным сердцем она всегда была к тебе. Очень просила она, чтобы ты сейчас поберегся, по горячности своей сам себе новой беды не наделал бы. Пропади он пропадом, каратель этот! И еще говорила Полина, чтобы и Людмилу тоже ты поберег, может, чем она и не удалась, мало ее Полина видела, а только в жизни своей лучше ее тебе не найти, потому как душой она чистая. Это и с первого взгляда всегда понимается. Сыновьям в деревню велела все описать, как получилось. Потосковала она, что не простится с ними. И у меня тут тоже камень на сердце. Не вызвал я сыновей сразу-то. Не верилось, ну, никак не верилось мне, что помрет Полина. А им добираться из своей дали сюда более двух недель надо. Так и похоронили без них. Вот. Последние слова ее были: „Даринька, вижу солнышко“ И засмеялась счастливо. Со смехом на губах и застыла. А никакого солнышка не было. Перед утром, по-тёмному еще, в палате больничной она умирала. Закрыл я Полине глаза. Пусть всегда ей видится солнышко.
Похоронили Полину с воинскими, почестями, приказал командир дивизии. Потому, все одно как в бою погибла она, от вражеской пули. Играл духовой оркестр, и перед знаменем полковым ее пронесли, над могилкой в воздух стреляли, и почетный караул потом прошел. Рекаловский над гробом прощальное слово сказал, не помню что, уши глухие были тогда у меня. Любили ведь люди Полину, вот как любили!
Почтили ее многие командиры наши, венки принесли. Она ведь тоже как о каждом заботилась! День за днем в работе всегда проходил, было, может, оно и незаметно, привычно. Что там столовка! Да ведь суть вся в ласке к людям, с какой она дело делала. И вышло – заметили, все заметили. Не по команде, по своей доброй воле пришли, и честь ей отдавали.
Особо скажу я тебе, Тимофей, насчет комиссара Васенина.
Из Владивостока приехал он, рядом со мной над могилой Полины стоял, руку мне пожимал с сочувствием. Это же, понимаешь, как горло мне защемило. Помнит походы, помнит бои и дружбу нашу, если по чинам, такую неравную, а по-человечески верную и простую. Узнал про горе мое и приехал. Не допытывался я, как он узнал: не до опросу тогда было. Может, из наших командиров кто ему телеграмму отбил. Видели ведь люди, как мы с ним обнимались, когда Васенин при самом командарме товарище Блюхере раз один сюда приезжал. Тоже люди от чистого сердца и от уважения сделали. Как это забыть? Хотя и не забыть мне самого главного. Нету Полины моей.
Торопился Алексей Платонович по обязанности, долго задерживаться не стал, с первым поездом обратно к себе вернулся. Но вспомнили мы и о тебе. Ты прости, что в угнетенности своей толком не мог я переспросить комиссара нашего, но сказал он как-то так в разговоре: „Вместе с Тимофеем мы еще долго послужим“. Это, должно, в том смысле, что известно ему – дело твое хорошо кончится.
Ну, а теперь о Рекаловском. Разное было у меня на сердце к нему в первые дни, как Полину привезли окровавленную.
Не договорись он с колхозом насчет меду, может, ничего бы с Полиной не произошло, свет светил бы ей и сейчас. Понимал я: случай. И все же томился недобрым чувством к нему. А Рекаловский вот как поступил: с полдороги вернулся и отпуском своим пренебрег. Из Москвы по делам стал звонить командиру дивизии, тот помянул в разговоре, какая беда у нас приключилась. И Рекаловский сказал: „Не могу ехать к морю, не будет мне там чистой радости, станет мысль точить – из-за меня, затеи моей Мешкова пострадала“. И вернулся. Такой человек.
И вот пишу я тебе, Тимофей, пишу обо всем, потому что надо мне поделиться, как, бывало, делился я с Полиной моей. Жить мне надо. Так Полина велела. Да и земля она для того, чтобы люди жили на ней, и в очередь по желанию своему, кому и когда помереть, не запишешься. А если жить надо, то и думать о жизни надо всегда.
Думаю я сейчас. Тишина в доме такая, что даже от лампы в темноту обернуться боюсь. И вижу я себя будто совсем со стороны, издалека. Сидит Мардарий Мешков за столом и мыслью своей ушел, ну, скажем, на пятьдесят лет вперед. А мысль у него: полный мир на земле. Все люди равные, нету ни бедных, ни богатых, ни капиталистов, ни пролетариев – один трудовой народ; и воевать народу этому не с кем и незачем – значит, не стало и солдатского племени; живется сытно, спокойно, потому что как же иначе, если все трудятся честно и между собой не воюют – разве земле всех не прокормить? Одним словом сказать, наступил коммунизм. И за эту вот жизнь, для всех сытую и спокойную, ходил Мешков в бой и походы военные, и голодал, и был стреляный, и на работе из себя жилы выматывал и не хотел пригреться на теплом месте, если знал, что ради общего дела надо ехать кому-то и в сырость, и в холод, и на лишения всякие, – ехал. Одним словом сказать, выполнял свои обязанности.
А потом гляжу я на него, на Мешкова, со стороны, издалека, вроде бы как раз из этих будущих пятидесяти лет. И думается мне: а. вдруг окажется, допустим – если глядеть с той вершинки, – обсчитался Мешков, в нетерпении своем неверно по срокам приблизил счастливую жизнь на земле. Нету полного мира еще, войны идут, а раз войны, стало быть, силой друг у друга отнимают земли отцов, рушат села и города; выходит, нету и равенства, люди многие опять и страдают и голодают, короче, не наступил коммунизм. А ведь что-то и сделано было до этого, потому что, если назад поглядеть, всегда оказывается что-то сделанным, и, значит, уже получше все же живется тем, будущим людям, чем, скажем, жилось Мешкову. И, послушай-ка, Тимофей, вдруг эти люди не поймут его, Мешкова? Зачем, скажут они, ему виделся коммунизм, и зачем он, не жалея себя, боролся за коммунизм, когда и так можно не худо прожить уже на половине дороги? И что, если тогда не найдется у них желания выполнять свои обязанности так, как выполнял, скажем, Мешков, то есть беззаветно биться за общее дело, не думая о себе? И не станут ли рассуждать будущие люди об этом самом Мешкове: какой, дескать, он был чудак, не понимал ничего по малой своей образованности, верил в наступление коммунизма на земле уже через короткие сколько-то лет, тогда, как времени на это надо побольше? И не то что совсем легко посмеются над ним, но все же и с полным уважением к нему не отнесутся, потому что за идею свою он где-то шел так. напролом, как эти будущие люди, по их соображению, сами бы не пошли.
Вот какие горькие мысли приходят мне в голову. И скажи-ка, может так быть, если, к примеру, в сроках Мешков, просчитался?
А теперь из этой дали времени опять вернемся к тому Мешкову, что сейчас сидит за столом и уносится мыслью своей вперед. Он людям хочет всего полной мерой, а они – „ладно, пока и на четвертушке всего остановимся“. Как ему о них думать? Для, чего же он изо всех сил обязанности человеческие свои исполняет?
Для Мешкова коммунизм – живая идея. Она для него всегда впереди. Манит, ведет за собой, И если бы в скором времени наступил полный коммунизм, так надо бы тогда строить, коммунизм и еще полнее, потому что если не пойдешь вперед, обязательно назад начнешь пятиться. Стало быть, надо вести свою линию жизни только вперед и вперед. А каждое время обязательно станет тебе прибавлять свою частицу, которую сейчас тебе и не угадать. И чем больше ты сам постараешься, тем частица эта будет крупнее. Так или нет?
Вот и тревожусь я мыслью, не успокоились бы трудовые люди, когда малость полегче им станет, а пошли бы побыстрее вперед. Ведь, если они замедлятся, к цели своей пойдет вперед капитал. Третьего тут не выберешь.
Комиссар Васенин все дразнил меня, называл „теоретиком“. Может, и сейчас развожу я свою, мешковскую, теорию, а поправить некому. Напиши, Тимофей. Ты ведь книг разных побольше моего прочитал. Но, между прочим, книги книгами, а в жизнь тоже всегда поглубже вдумывайся, потому что книги как раз по жизни пишутся. Ну конечно, не отказываюсь, в чем-то и жизнь потом по книгам делается.
А теперь опишу я про случай на : нашей погранзаставе. Утром сегодня случай этот произошел. Рекаловский. рассказывал, вот недавно оттуда приехал.
Поймали бойцы наши бывшего беляка, перешел границу из Маньчжурии, В крестьянской нашей одежде, но при нем был и нож бандитский, и пистолет с одним патроном. Это чтобы в лоб пулю пустить, если поймают. Пулю эту он пустить себе не успел, а ножом двух пограничников сильно поранил. Ну конечно, дальше какой будет с ним разговор, ты сам понимаешь.
А на первом допросе он долго отмалчивался, потом начал ругаться так, что, прямо сказать, у всех уши повяли. Всех он проклял тут. И землю, на которой родился, и власть нашу, Советскую, за то, что земли этой его лишила, и даже Колчака, Каппеля, которые, дескать, не сумели красную власть победить. Словно тигр уссурийский метался. Ему руки связали, так он пинал всех ногами. Вот не такая ли гадина и Полину мою загубила?
Так и не поняли по-настоящему с первого допроса на заставе, кто он. Просто ли бандит озверевший; диверсант или хитрый японский шпион? Снаряжен оружием вроде бы по-шпионски, но отвергает. Притом действительно без бумаг. А что с патроном одним – это чисто самурайская штучка. У них самоубиваться в почете.
Да и черт с ним, я не стал бы тебе про него и голову замусоривать: таких случаев на границе здешней немало бывает. Но этот бандюга в своей дикой истерике, как рассказывал Рекаловский, стал плести чепуху про имущество того самого капитана Рещикова, ну, выходит, отца твоей Людмилы. Про те самые чемоданы, что мы с тобой и комиссаром Васениным без толку на Корейской дороге у спаленного зимовья искали. Будто всю эту поклажу он в каком-то селе под амбаром поспрятал, а чемоданы полны чистым золотом. Понятно, здесь он хотел себе цену набить, может, соображал жизнь свою сохранить В обмен на это золото. Только, помнится мне тогда мы искали в лесу багаж ни с каким не золотом, а с редкими книгами. Или я запамятовал?
Вот пишу и пишу, этим самым отвлекаю себя, а в начало письма заглянуть не смею. И обернуться к пустой постели своей не могу. Вчерашнюю ночь совсем не ложился. И сегодня от стола не отойду, пока керосин весь не выгорит. Упаду головой на доску. Ах, Полина, Полина!
С неделю назад, еще при Полине, от Гладышевых пришло письмо. Не ответил я. Спрашивают, броня на комнату нашу московскую кончается, когда мы вернемся. Надо опять добиваться им жилья где-нибудь или могут пока понадеяться на эту комнату? Передай им, Тимофей, пусть живут, ни о чем не думая. В Москву возвращаться нам некому. Полина здесь успокоилась, а я от нее тоже никуда не уеду.
Низко кланяюсь Людмиле твоей Андреевне. Долгого тебе счастья с ней. Обнимаю, Мешков».