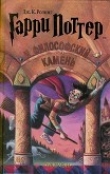Текст книги "Философский камень. Книга 2"
Автор книги: Сергей Сартаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Конечно, высокую тумбочку под тяжелый глиняный бюст одного из бойцов, павшего от рук нарушителей границы, можно было бы наскоро сколотить гвоздями из необструганных досок, а после, как это обычно и делается, задрапировать собранным в складки кумачовым полотнищем. И все. Стоять потом и стоять в ленинском уголке такой тумбочке годы долгие.
Но именно потому, что застава с достоинством носила имя героя-бойца, гордилась этим, а бюст был мастерски вылеплен его товарищем по службе, Мардарий Сидорович тоже не мог ударить в грязь лицом. Он отобрал наилучший материал и вложил в работу все свое умение. Подумал: тумбочку отполировать? Нет, это едва ли подойдет к общему строгому убранству ленинской комнаты и к бюсту, вылепленному из простой глины. Лучше сделать так: протравить выструганные доски, навести на них матовую шлифовку, а полированными пусть будут лишь накладные буквы – Иван Сухарев – и даты его рождения, гибели.
Панфил Гуськов с помощью набора стамесок и своего поясного ножа готовил, вырезал буквы начерно. Мардарий Сидорович доводил их до совершенства мелким рашпилем и стеклянной шкуркой.
Они сидели под навесом. День выдался жаркий, безветренный, глазам было больно смотреть на ярко освещенный солнцем плац, посреди которого занималось на спортивных снарядах отделение пограничников. Сбросив поясные ремни и расстегнув воротники гимнастерок, бойцы ходили по буму, выделывали замысловатые упражнения на турниках и параллельных брусьях, крутились на подвешенных кольцах и прыгали через обитую черной клеенкой «кобылу».
Глядеть издали, все получалось слаженно, четко, но руководивший занятиями старшина то и дело недовольно покрикивал: «Больше жизни, товарищи бойцы, больше жизни!»
Сам он был застегнут на все пуговицы и в рюмочку затянут ремнем, хромовые сапоги лучились на солнце. Расхаживал он как-то по-особенному, торжественно печатая шаг.
Панфил прилежно занимался своим делом, но на губах у него блуждала тонкая, снисходительная улыбка: «Ну и взмылит сегодня он вас, ребята! А я вот – кум королю».
Когда на заставу приезжали шефы, Панфила, немного умеющего столярничать, освобождали от строевых занятий и политучебы, назначали в помощь Мешкову. Однако в наряд по охране государственной границы, если наступала очередь, Панфил обязан был идти при любых обстоятельствах.
Предстоящую ночь ему как раз и полагалось провести в дозоре.
Он мог бы, пользуясь этим, вообще весь день отдыхать, чтобы уйти в наряд не притомлённым. Но Панфилу очень нравилось столярное ремесло – пригодится потом, на «гражданке», а от Мешкова можно было многому научиться. И поэтому Панфил с дозволения того же старшины, над которым теперь ядовито подсмеивался, до обеда столярничал, а после обеда положенный всем «мертвый час» для себя мог растянуть до самого ужина.
Не каждый боец отправлялся в ночной наряд с особой охотой – надо так надо, – но Панфилу, наоборот, очень нравилось осторожно переступать по знакомым тропам в таинственной тишине, беззвучно отводить ветви орешника, пересекающие путь, вдруг замирать и чутко слушать, слушать. А больше всего любил он, затаясь, следить, как медленно поворачивается усеянный мерцающими звездами небосвод, наблюдать, как постепенно к середине ночи упруго набухает трава, покрываясь прохладными каплями росы, любил прислушиваться к сполошному переклику кем-то встревоженных сонных пташек и к прерывистым шорохам мелких лесных зверушек, выискивающих добычу.
Бывало иногда и страшновато. Уж если столкнешься впотьмах с врагом или сам набредет на тебя нарушитель границы, доброго от этой встречи не жди.
Но именно физическое ощущение границы, начала родной земли, куда нельзя, никак невозможно впустить чужака, сменяло холодок страха яростным желанием схватиться с незваным пришельцем, доказать ему силу свою, свое над ним превосходство, смять его, скрутить. И все это без нудных слов старшины: «Товарищи бойцы…» Только полагаясь на собственную смекалку и ловкость.
Панфил сознавал, конечно, что в таком его отношении к пограничной службе есть существенная доля и непреодоленной еще им самим обыкновенной мальчишеской самонадеянности, но тут же внутренне как бы отмахивался от такой мысли. Быть самонадеянным все-таки лучше, чем жить чужим умом.
Ему хотелось, очень хотелось свершить подвиг, во всяком случае, нечто необыкновенное. Но это необыкновенное в его глазах имело цену лишь в том случае, когда оно могло быть достигнуто без посторонней помощи, ни с кем не деля славы, потому что всякий истинный подвиг – это, как бы там ни было, личная слава, а этим-то она особенно и привлекательна.
Он думал так. Не углубляясь ищущей мыслью в сложности жизни, в ее неожиданные повороты, требующие очень точных и зрелых решений. Он размышлял о жизни большой и ответственной просто и беззаботно, совсем еще не имея в ней никакого опыта. И это его ничуть не смущало.
– На снарядах работают ловко ребята, – заметил Мешков, отшлифовывая стеклянной шкуркой очередную букву. – Прямо завидки сейчас берут. А давно ли сам был молодым? И вроде похлеще этих ребят крутился тогда на трапециях.
Панфил с затаенной усмешкой покосился на Мешкова.
Хм! Не очень-то похоже, чтобы дядя Мардарий даже и в молодости мог крутиться легко на трапециях, да еще «похлеще» нынешних бойцов-пограничников.
И, не отдавая себе ясного отчета, зачем он это делает, Панфил соскочил с верстака и выбежал на плац, улучив как раз такой момент, когда старшина вышагивал, повернувшись к нему спиной,
Он добежал до ближайшего бума, сделал стойку на руках и так, вниз головой, влез на шатающийся брус, озорно побалтывая в воздухе ногами.
А старшина, словно кто ему подсказал, оглянулся. Как раз в тот момент, когда Панфил опрокинулся на руки.
Теперь он стоял, спокойно наблюдая, как, проделав эффектный соскок с бума, Панфил встал на ноги и козырнул неизвестно кому.
– Боец Гуськов, подойдите.
Кое-как заправив выбившуюся из-под ремня нижнюю рубаху, в которой он столярничал под навесом, Панфил послушно приблизился к старшине. Уже по всем правилам устава внутренней службы.
– Так, боец Гуськов, – медленно проговорил старшина, – так, значит, цирк на занятиях по физподготовке разыгрываете?
– Разрешите доложить, товарищ старшина! – не мигнув глазом, отчеканил Панфил. – По приказанию начальника погранзаставы я сегодня прикомандирован к шефской бригаде и от занятий по физподготовке освобожден.
– Тогда почему вы, боец Гуськов, оказались на буме и вниз головой?
Гуськов молча шевельнул плечами. Ответить было нечего.
– Я жду.
– Разрешите вернуться к исполнению обязанностей, возложенных сегодня на меня, – помогать шефам, после обеда отдохнуть и выступить, согласно расписанию, с ночным нарядом по охране государственной границы?
Старшина козырнул.
– Разрешаю. – И, чуть наклонясь, отечески упрекнул: – Вы могли бы извиниться передо мной, боец Гуськов.
– Извините, товарищ старшина! – уже с полной искренностью выговорил Панфил.
Возвращаясь под навес, растерянный и сконфуженный Панфил увидел, как к Мешкову подошел начальник заставы и что то взволнованно стал ему говорить. Панфил заторопился
Должно быть, случилась какая-то беда. Мардарий Сидорович стоял, понурив голову. Губы у него вздрагивали.
– … подробнее сам ничего не знаю, – рассказывал начальник заставы, бросив взгляд в сторону подошедшего Панфила и автоматически вскинув руку к козырьку фуражки в ответ на его приветствие. – Звонок по телефону. Из дивизии помполит. Передайте, мол, Мешкову, столяру нашему, что его жена тяжело ранена…
– Ранена… ранена… – Мешков непонимающе крутил головой. – Где же? Кто посмел? Быть того не может!
– Сказал помполит: на лесной дороге. С пасеки колхозной одна ехала, что ли. В спину стреляли. Вроде бы контрабандисты. Да, черт, одинаковая им всем цена – бандиты…
– С пасеки? Зачем ей было на пасеку! – вскрикнул Мешков. И вдруг осекся, что-то припомнив: – Ну да, на пасеку… Только Рекаловский-то что же одну ее отпустил?
– Рекаловский за час перед тем, как Полину Осиповну, раненую, привезли, сам уехал. Так мне сказали.
– Вон чего, – тихо сказал Мешков. И повторил в тоске. – Вот как бывает.
Он попросил начальника заставы немедленно отправить его домой. Может, еще удастся что-нибудь сделать для Полины, может, удастся чем-то ей помочь.
Непослушными руками Мешков то хватался за инструмент, как попало укладывая его в свой, специально приспособленный для поездок фанерный ящик с высокой ручкой, то бессознательно брал осколочек стекла и зачищал им на подготовленных для полировки буквах еще какие-то мельчайшие заусенцы. И все вздыхал, тяжело, надсадно:
– Эх, Полина, Полина…
Панфил не знал, какими словами можно утешить Мардария Сидоровича. Он знал лишь одно: свершилась безмерная подлость. Стрелять безоружной женщине в спину! Пусть это даже сто раз бандиты.
Ну ладно же…
И молча помогал Мешкову в сборах.
6Для них обоих – и Мешкова и Панфила – ночь наступила тревожная, неспокойная.
Панфил ушел в наряд по охране государственной границы, не сомкнув после обеда глаз. Ему все время виделась узкая, глубокая падь, где стреляли в Полину Осиповну. И еще – Мардарий Сидорович, обмякший, пришибленный…
…Мешков стоял посреди комнаты, не зажигая огня. Так было чуточку легче. Его пугали пустая кровать, стулья, немые стены. Комната, казалось, еще не утратила пряного запаха укропа, петрушки, гвоздики, который, возвращаясь с работы, Полина Осиповна всегда приносила с собой. Теперь он воспринимался по-особому остро: в этих стенах надолго – насколько? – воцарится тоска и одиночество. Дивизионный хирург, к которому прежде всего прибежал Мешков, не пообещал Полине Осиповне скорого выздоровления. Пуля бандитов, сказал он, задела очень важные органы.
Но как же, как все это случилось? Что за нужда повела Полину Осиповну на дальнюю колхозную пасеку, путь к которой лежал через опасную глухую падь, где, случалось, не раз пограничники вылавливали закордонных контрабандистов, нагруженных плоскими флягами с душно пахнущей ханжой либо обмотанных тонкими китайскими шелками. Контрабандист, удачливо пробравшийся через границу в советский поселок и выгодно сбывший там свой товар, – ласковая кошечка; застигнутый с запрещенным грузом на таежной тропе – лютый зверь. В лесу для него ничего нет святого. Полина Осиповна ехала одна в военной повозке, закрепленной Рекаловским за комсоставской столовой. Ездового почему-то она не взяла. Вроде бы прихворнул парень, а Полина Осиповна на свою сноровку понадеялась. Что там, в тайге, произошло, толком никто не знает. Лошадь прибежала в городок с пустой повозкой, взмыленная от пота. Полину Осиповну потом нашли, подобрали беспамятную, истекавшую кровью.
Мардарий Сидорович вспоминал свой недавний разговор с Рекаловским. Помпохоз пригласил его к себе на квартиру, угостил водочкой – редкостным напитком в ларьках «Военторга», выставил отменную закуску. В неторопливой беседе, перескакивая с одного на другое, принялся нахваливать Полину Осиповну; таких инициативных, смекалистых и с золотыми руками работниц надо очень ценить, всячески поощрять. Наговорил много добрых слов и о самом Мардарии Сидоровиче, Мешков цвел. Что ж, по справедливости. Полину Осиповну хвалили все. А он, Мешков, сумел Рекаловскому обтянуть дерматином старенький чемодан так, что тот стал походить на новый кожаный. В отпуск едет человек – как не уважить?
– Пять лет не мог к морю синему, теплому вырваться, – сказал Рекаловский мечтательно. – Э-эх, и проведу я на юге времечко!
– Это конечно, – подтвердил Мешков. – Хотя покупаться можно вполне и в Амурском заливе. Но когда, такое довелось – в отпуск пойти, – не грех в самую дальнюю даль закатиться. Тем более, человек вы еще не в тяжелых годах. Белый свет посмотреть интересно.
Посмотреть, но, между прочим, и себя показать.
– Есть такая поговорка. К вам она точно подходит.
Они выпили еще по маленькой. Закусили селедкой, маринованными ивасями. Рекаловский, тыча вилкой в тарелку, проговорил:
– Хороша! А я все-таки больше люблю сладенькое. Между прочим, раздобыл я для столовой, диетникам нашим, меду на пасеке. Не успел сказать Полине Осиповне. Ты ей передай: пусть съездит. Все с колхозом договорено. Только взять.
– Это можно. Передам.
Передал… А знать бы, что случится так, лучше бы тот разговор начисто запамятовать: Потому что у Полины сразу загорелись, глаза.
– Вот это мастер! – закричала она. – Ну, просто из-под земли достанет. А у нас ведь есть и язвенники. Доктора им очень советуют мед. – Засмеялась: – Рекаловский, знаю, тоже любит.
– Потому, поди, и постарался.
– Ну, потому не потому, – а прежде для других. И если в дорогу взять кусочек сотового… Выпрошу на пасеке!
– Завтра в отпуск уезжает.
– Завтра я и съезжу. Успею. Вот как раз ты – к подшефникам, я – на пасеку.
– Торопиться-то чего? Может, после вместе съездим.
– Ну, подумаю…
И вот теперь…
Мешков стоял посреди темной комнаты, перебирая все это в памяти, и сердце у него ломило от боли.
Не дождалась, чтобы вместе, поторопилась, поехала одна, даже без ездового. Приятное хотела сделать человеку.
Мечется теперь на госпитальной койке. И выживет ли?
Кто же, кто виновник такого несчастья?
«Рекаловский! – хотелось крикнуть зло, осуждающе. – С него все началось… С его затеи с медом…»
Ну, а если бы Полина успела пересечь распадок прежде или чуть попозже того, как оказались там эти злодеи бандиты? Тогда ведь ничего бы не случилось, и начисто забылся бы тот разговор на квартире Рекаловского и легкий спор с Полиной. Так ведь? Выходит, все дело в случае. И жизнь вея. только случаи, счастливые и несчастливые. Счастливые не замечаются, как воздух, которым дышишь всегда. Несчастье, оно колюче, цепко, впивается, как клещ, его легко не оторвешь.
Мешков убеждал, уговаривал себя не травить душу свою разбором того, чему все равно не сыщешь истинного начала, а мысль вопреки этому работала и работала.
Припомнились сорвавшиеся у хирурга мимоходные слова: «Зачем ей все это было нужно!»
Все. То есть душевная забота о том, чтобы сделать человеку приятное, забота не: по прямым ее служебным, обязанностям, а от всегдашнего своего правила жизни.
Мардарий Сидорович, потер лоб рукой. Так, стало быть: «зачем ей все это было нужно»? Конечно… Да только, нет уж, если судить о случившемся, то не с такого подхода!
Были войны. Тяжелые были походы. По этим же сопкам. И пули роились, как мухи. Случалось, и задевали… Но почему же самая злая из них теперь попала в Полину? Да, в жизни встречалось немало черных дней, когда казалось, что небо рушится, но все. же смерть так близко не маячила еще ни разу. И как-то всегда само собой разумелось, во всяком случае для него, что если в землю первому кому и лечь – так только ему, Мардарию. На то он и глава семьи, чтобы всюду быть первым.
Мардарий Сидорович медленно приблизился к постели, смутно белевшей в темном углу. Присел на самый край, бережно откинул одеяло; надо было прилечь. Завтра рано вставать, на работу. А сна все равно не будет. Долго не будет крепкого сна. Он привык засыпать, чувствуя близ щеки теплую руку жены. Холодом льда отталкивала его сейчас белая наволочка подушки. Лучше уж недреманно просидеть до утра, привалясь плечом к железной спинке кровати.
Вдруг представился Панфил нахмуренно-растерянный. Для него, вероятно, вот так, когда он услышал весть о тяжелом ранении тети Полины, впервые небо упало.
7Заняв свое место в густой заросли дикого винограда, откуда протянуты были на заставу провода сигнальной связи, и молча расставшись с напарником, залегшим недалеко от него в таком же, оплетенном лианами островке винограда Панфил, казалось, совсем потерял ощущение времени.
Он не замечал ни бегущих низко густых облаков с пробивающимся порой между ними ярким ликом полной луны, ни росы, от которой постепенно плотной и тугой, теснящей дыхание становилась гимнастерка. Ему виделись только узкая сосновая падь, глубокие колеи лесного проселка, раскачивающаяся на выбоинах повозка. И еще: дуло винтовки, из придорожных кустов подло выжидающее, когда повозка проедет мимо и выстрел придется женщине в спину – так для стреляющего бандита безопаснее…
Панфилу ни разу пока не доводилось сталкиваться с нарушителями границы лицом к лицу, пускать в ход оружие, и тем, более убивать. Все это, он знал, случается на заставах. И нередко. Совсем незадолго до его прибытия сюда погиб в бою Иван Сухарев, имя которого теперь всякий раз называется на утренних перекличках и потом отдается скорбным солдатским эхом: «Пал смертью героя». Да, смерть на заставе – привычное слово. Привычное и все же далекое, пока не увидишь ее своими глазами. А видеть не приходилось. Разве лишь под командой старшины насмерть крушил он «врагов», упражняясь в штыковом бою на соломенных чучелах. Теперь Панфилу жадно хотелось побывать в настоящем деле.
Отомстить за Полину Осиповну? Нет. Так было бы очень мало. И много. Мало потому, что эти переползающие на брюхе границу бандиты, стреляя в любого советского человека, мысленно убивают Советский Союз. И много потому, что ползающим на брюхе, стреляющим в спину не мстят – честь велика! – их просто уничтожают.
…Никогда еще злость на затаенного врага не охватывала Панфила с такой силой. Никогда еще не ложился он в секрет с таким холодным спокойствием и твердой: решимостью.
Он знал, что, помимо напарника, поодаль и справа и слева, на сторожевых постах, находятся его товарищи. И помнил каждодневный инструктаж начальника заставы: «Хотя на охране государственной границы ты всегда не один, считай, что именно ты один отвечаешь за надежность замков на нашей священной границе». Он помнил наставления: к напарнику без особой надобности не подходить и с ним не разговаривать; не обнаруживать свой пост ни при каких обстоятельствах, особенно, если границу нарушит значительный по численности отряд. Тогда подать кодированный сигнал по проволочной связи. И ждать. Внимательно следить за местностью. Ждать и следить. Вступать в бой лишь по прямому приказу командира.
Или, на самый крайний случай, по собственной инициативе; сообразуясь с обстановкой, когда нельзя допустить безнаказанного отхода врага,
Он все это давно уже затвердил наизусть и обычно, готовясь в очередной ночной наряд, точно бы закладывал себе уши ватой на то время, пока шел инструктаж. Но в этот раз слова начальника заставы поразили его так, как если бы он услышал их впервые. Припомнилось и одно из писем старшего брата Никифора: «Я тоже, как и ты, терпеть не могу неправды, неискренности, долбежки правил поведения и службы, короче, того, что стесняет мою личную свободу, но я не буду сейчас вести с тобой разговор о всех сложностях жизни. Это как-нибудь после. Сейчас обращаюсь к совсем еще молодому бойцу Красной Армии. Брат! В военном деле, в бою ли или на охране мирных рубежей, все равно – рисоваться перед врагом в открытую мужеством своим не всегда годится. Оно должно проявляться только в самой борьбе. Война не парад. В полный рост будешь маршировать над окопами – убьют. И все. Заруби себе на носу: враг хитер. И поэтому нужно тоже хитрить.
Приходится поступаться открытой ясностью своих действий. Да, да, обманывать. А обман, сам знаешь, правдой не называется. И вот уже ты не можешь, как хотелось бы, в идеале, – буквально во всем и со всеми быть предельно открытым, прямым. Пойми: нет общей правды, единой и для нашей Родины и для ее врагов.
Согласен я: не все уставы и приказы хороши. Но все же лучше, когда они есть. Умный не посетует на то, что в них худо, он просто поступит как надо, а туповатого уставы удержат от непоправимых глупостей».
Никифор окончил Лефортовскую военную школу на «отлично», командует ротой в одном из полков Московского гарнизона и жизнь вообще знает побольше. Ему нельзя не поверить… в жену Мешкова, тетю Полину, стреляли враги. И это рядом, здесь. И здесь же был убит Иван Сухарев.
Зримо представилось беззвездное небо в ту ночь, загадочно тихие кусты, и люди, словно мрачные тени, скользящие под их прикрытием.
Теперь Панфил лежал и ждал.
«Не исключено, что именно сегодня будет предпринята серьёзная попытка просочиться через границу где-то на нашем участке, – предположил начальник заставы, оценивая выстрел близ колхозной пасеки как возможный отвлекающий маневр. Сомнительно, чтобы в Мешкову стреляли обыкновенные контрабандисты».
Ну что ж, неизвестно, как это будет, если будет, но он, Панфил Гуськов, готов ко всему. А главное, он обязан видеть и слышать все, что будет тихо совершаться вокруг него ночью в этом непроницаемо темном лесу, даже дыханием не выдавая врагу своего присутствия.
Так следовало по приказу.
И он приказ выполнял. Но видел все-таки не островки дубняка, проросшего диким виноградом, и не открытые поляны, серебрящиеся папоротниками, а узкую глухую падь, в которой, казалось Панфилу, еще не растаяли дымки от выстрелов и не затих цокот подков испуганно метнувшейся лошади.
Поэтому в первый миг, когда еще там, за чертой границы, возникли какие-то еле слышные звуки, будто невесть отчего сами по себе стали ломаться, сочно хрупая, набухшие от влаги стебли зонтичников, Панфил не придал им никакого значения. Мало ли бывает в лесу всяких непонятных шорохов ночью!
И не от беспечности, а скорее от чрезмерной перенапряженности ожидания чего-то такого, что можно даже неосторожным поворотом головы спугнуть, рука Панфила в первый момент не потянулась к сигнальному проводу. Но зато сразу исчезло видение далекой пади и перед глазами открылись так хорошо знакомые ему силуэты ближних кустов.
Разорвались облака. Катящаяся в их ряби луна фантастически испестрила матовым светом поляну с высокими папоротниками. Непонятно, пробежала ли по их чутким узорчатым листьям тень облака и оттого померещилось, что качнулись они, или на самом деле там, извиваясь, кто-то скрытно ползет? Панфил застыл в неподвижности, уже отчетливо сознавая, сколь осторожен и зорок должен быть он сейчас.
Тысячью цветных искорок вдруг заблистали капельки росы в траве. Совсем близко папоротники немо расступились, и – нет, нет; не обман зрения – прямо на Панфила уставились беспокойно вопрошающие глаза.
Он тихо перевел дыхание. Страха не было. Хотя сердце сразу и отозвалось неровными сильными толчками.
Напряженно работала мысль… Метнуться бы туда, в папоротники. Два-три прыжка. И не успеет враг оторвать голову от; земли…
Но – нельзя. Даже шевельнуться не смей. Убивай его взглядом.
И считай теперь, хорошенько. подсчитывай все новые и новые шорохи. Все запоминай, чтобы потом, когда шорохи, стихнут совсем, оказавшись уже у тебя за спиной, подать на заставу условный сигнал тревоги.
Он сделал все как полагалось.
Ожидание томило. С какою злой целью переползли запрещенную черту эти люди? Их много… Успеют ли их всех переловить, если они намерены разбрестись поодиночке, став оборотнями? А если это диверсионный отряд? Сумеют ли наши вовремя их обезвредить? Ночь нехорошая, луна так и. купается, ныряет в облаках, запутывая бегающие по земле тени.
Панфил теперь волновался. Холодный затвор винтовки Обжигал ему руки. Он несколько раз проверял, спущен ли предохранитель. Готов был выскочить из своего укрытия и броситься вслед стихшим шорохам. К черту надо было послать все. наставления командиров, когда враг вот он и свободно проползает мимо!
Припомнились глаза, в смятении уставившиеся из папоротников прямо на него. Почему этот человек не стрелял, если понял, что напоролся на засаду? Почему он сам, Панфил, пропустил его? Приказ, приказ… Всегда ли правильными бывают приказы? Ведь даже Никифор, немало по-настоящему повоевавший, написал: «Умный поступит как надо». Умно ли он поступил? Не наделал ли непоправимых глупостей?
Что, если ему все это просто померещилось? И он напрасно подал бы на заставу сигнал тревоги? Тогда, проверив, скажут: струсил! Ведь и сейчас порою при лунном свете мерцают средь папоротников росные огоньки, похожие на те, что заставили сердце забиться сильнее, а в траве возятся какие-то мелкие зверушки.
Не в силах больше ждать, он приподнялся, собираясь переползти к напарнику, с ним поделиться сомнениями. Но тут, на своей стороне, где-то близ железнодорожной насыпи, сухо щелкнул винтовочный выстрел, а вслед за этим, высоко в небо взвилась пронзительно яркая красная ракета. И через несколько минут открылась накатывающаяся стремительным валом беспорядочная стрельба. Воздух наполнился перекликом испуганных людских голосов. Дробным стуком отозвалась земля под копытами скачущих коней.
– Ага, попались, голубчики! Здорово им всыпают, – облегченно и торжествующе подумал Панфил.
Теперь он весь был там, в жаркой схватке.
Нервно покусывая губы, он следил по звукам за тем, как склоняется вбок, в сторону от него погоня. Лишенный возможности и права вступить в открытый бой, он силился представить себе, что происходит там, где гремят выстрелы и позванивают клинки.
Увлекшись этим, он в первое мгновение не заметил, как на открытой поляне появились двое. Во весь рост. Запинаясь в высокой цепкой траве и задыхаясь от быстрого бега.
Панфил увидел их, когда они почти поравнялись с ним, неясные в пепельном свете луны, падающем ему прямо в глаза.
Винтовка заранее изготовлена как раз в том направлении, куда они бегут. Пропустить бандитов мимо себя и выстрелить им вслед. Поляна широкая, поймать на мушку обоих времени хватит. И свет не будет мешать точнее прицелиться.
Но эта мысль едва мелькнула и тут же уступила место другой, такой же быстрой. Более властной.
Им в спину он выстрелить не сможет. Не сможет, ну ни за что…
Панфил торопливо рванул винтовку. Повернул ее, проталкивая ствол сквозь плотную листву дикого винограда навстречу бегущим и теряя цель. Спустил как попало курок. С досадой понял, что промахнулся. Вогнал новый патрон…
И тут же почувствовал, как страшная сила, тупо ударив прямо в грудь, отбросила его назад. Луна вспыхнула невыносимо жарко, похожая на солнце.