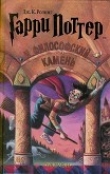Текст книги "Философский камень. Книга 2"
Автор книги: Сергей Сартаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
Потом началась для него томительная и невыносимо длинная полоса бездейственных дней. Вериго его не вызывал. Тимофей ничего не знал о том, что происходит за стенами камеры. Он надеялся, что, может быть, пробьется к нему на свидание Мардарий Сидорович, и тогда удастся что-нибудь узнать о Людмиле, или придет Никифор Гуськов и расскажет, послал ли он письмо о случившемся комиссару Васенину. Но выяснилось, что на этой стадии следствия всякие свидания запрещены. Запрещена и переписка.
Почему же не вызывает к себе Вериго? Если он действительно расположен к нему, он должен бы понять, как мучительна такая безвестность. Он мог бы вызвать на допрос или не на допрос, как угодно, а мог бы вызвать. Почему Вериго этого не делает? Тимофей терялся в догадках.
Он многого не знал.
Не знал, что Валентина Георгиевна, потрясенная известием о покушении на ее милого Гринчика, кипящая гневом, подняла на ноги всех своих влиятельных друзей и потребовала от них решительного нажима на работников военной прокуратуры, чтобы расследование было проведено со всей строгостью и беспощадностью. Она добилась даже того, что ей неофициально дали прочитать начальные документы следствия: протокол, составленный милиционером на Северном вокзале Москвы, и первые показания Тимофея, записанные Вериго. Прочитала и пришла в еще большую ярость.
– Маньяк! Разве это непонятно из самих его показаний? Плести более чем на десяти страницах какую-то фантастическую историю. Он помнит! Он уверен! И все это, чтобы оправдать свою патологическую подозрительность. Имей он иное социальное происхождение, я предположила бы в этом покушении политическую подкладку: выбить наших людей. Объективно это ведь так. И что это за подход к ведению дела, когда следователь между строк допускает достаточно ясную мысль о том, что мог действительно существовать какой-то Куцеволов, а этот маньяк мог быть введен в добросовестное заблуждение и внешним сходством, и поведением Григория Васильевича? Что он, Вериго, намерен выгородить преступника? Вчитайтесь, вчитайтесь хорошенько, это же показания не обвиняемого, а скорее жертвы покушения!
И сделала все, чтобы немедленно отстранить Вериго от дальнейшего ведения следствия.
Напор Валентины Георгиевны был неотразим не только потому, что она, опытная чекистка, действовала в привычной, профессиональной стихии и всюду встречалась с безграничным доверием к себе со стороны своих друзей и друзей покойного мужа, но и потому главным образом, что ею руководила любовь. Глубокая, страстная любовь.
Валентина Георгиевна в свое время поддалась этому чувству не слепо, не с первого взгляда. Познакомившись с интересным, еще молодым следователем на одном из клубных вечеров и уловив его стремление прочнее закрепить их знакомство, она осторожно навела все необходимые справки не только в Москве, но и в Иркутске. Внимательно прочитала анкету, автобиографию и целую кипу разнообразнейших документов, безоговорочно подтверждающих пролетарское происхождение и честный трудовой путь Григория Васильевича Петунина. Посочувствовала внутренне той драме, которую он пережил в годы падения колчаковщины, найдя в своей будке путевого обходчика заледеневший в крови труп жены. Посочувствовала и тому, что судьба свела его потом с Евдокией Ивановной, женщиной, бабой даже, совсем-совсем не подходящей ему ни по своей внешности, ни по умственному развитию, ни по общественным интересам. При новой жене он остался все-таки по-прежнему вдов. А человек он талантливый, несомненно, с большим будущим. Такие расцветают необыкновенно быстро, стоит только обогреть вниманием, доверием и заботой. Вон он как далеко шагнул за последние только годы! Захотелось помочь человеку и еще крепче стать на ноги. Вспомнилось: ей тоже ведь помогали. Как же иначе? А потом, покоренная душевной открытостью своего Гринчика при их уже интимных встречах, одолеваемая тоской по мужской ласке, она и влюбилась в него по-настоящему
Любовь Валентины Георгиевны оказалась сильнее сопротивления Вериго, пытавшегося защищать правомерность своих действий и сохранить за собой до конца ведение следственного дела.
Навестив своего друга в больнице и придя в ужас при виде какой-то немо лежащей загипсованной мумии, окутанной почти всплошную белыми широкими бинтами, и услышав от врачей малообнадеживающие предсказания, Валентина Георгиевна в душе поклялась, что единственной справедливой мерой возмездия маньяку, погубившему ее Гринчика, может быть только расстрел.
Мысль об этом она старалась внушить каждому, кто имел какое-либо отношение к делу курсанта Бурмакина, и прежде всего Танутрову – вновь назначенному следователю. Валентина Георгиевна, между. прочим, и всегда в личной практике своей полагала, что путь самого сложнейшего расследования прокладывать, надо ни в коем случае не наугад, по мере раскрытия тех или иных обстоятельств, а идя к точно и заранее заданной цели.
Томясь в догадках, почему его так долго не вызывает Вериго, Тимофей ничего этого не знал.
Не знал он и того, что в руках нового следователя дополнительно оказалось несколько документов, сразу бросивших на показания Тимофея иной, невыгодный для него свет.
Это был протокол заседания ячейки ВЛКСМ села Худоеланского, подписанный А. Флегонтовской и когда-то предъявленный Тимофею начальником школы Анталовым, но оставленный им в сейфе без всяких последствий. Тут оказался рапорт Тимофея с объяснениями относительно его знакомства и переписки с Людмилой и другой рапорт в защиту несправедливо обложенного «твердым заданием» дяди Никифора Гуськова. И еще один рапорт о том, что Тимофей случайно увидел едущего на подножке трамвая поручика Куцеволова, виновного в гибели многих людей. Затем был рапорт курсанта Свореня, обличающий любовную связь Тимофея Бурмакина с «белянкой» Рещиковой, и приложенное к нему письмо Людмилы. И наконец, запросы Анталова в надлежащие ведомства относительно судьбы капитана Рещикова и поручика Куцеволова с ответами, из которых можно было сделать вывод, что тот и другой погибли где-то на путях панического бегства каппелевской армии.
К Танутрову все эти документы попали так. Разбуженный среди ночи телефонным звонком дежурного по школе, сообщившего ему о чрезвычайном происшествии аресте военным комендантом курсанта Бурмакина по подозрению в убийстве, Анталов почувствовал себя плохо. Сдавило сердце мучительным приступом. Он вызвал своего заместителя и попросил сделать все неотложные распоряжения по школе. Отдал ключи, в тяжелом забытьи не вспомнив о бумагах, которые хранились у него в сейфе, по существу, без всякой надобности.
Заместитель стал их просматривать и затрепетал. Всё, как на подбор, бумаги в одной из папок связаны с Бурмакиным. И очень похоже, что следствию они помогут.
Вручая их Танутрову, заместитель начальника школы несколько раз подчеркнул: ;
– Поверьте, я никогда и ничего не знал об этих документах. Поверьте, и товарищ Анталов хранил их, вероятно, не с дурной целью. Он позже сам вам объяснит. Но я считаю своим долгом…
Танутров вежливо поблагодарил. А разобравшись в бумагах, понял, что они весьма и весьма подкрепляют проницательную мысль Валентины Георгиевны о необходимости самого строгого и жесткого подхода к делу Бурмакина. Он, оказывается, не просто маньяк, но еще и запутан в любовной связи с какой-то «белянкой» Рещиковой, о чем в своих показаниях умалчивает. Защищал тяготеющего к кулачеству и совершенно постороннего ему дядю курсанта Гуськова. Что за странные симпатии? А рапорт о случайной встрече с каким-то Куцеволовым, разве не мог он быть известной подготовкой к тому, что Бурмакин потом сделал на рельсах? Танутров тут же приступил к розыску и опросу лиц, помянутых в бумагах из сейфа Анталова.
Не знал Тимофей и того, что по повесткам Танутрова у него побывали Никифор Гуськов и Володя Сворень, а Мардарий Сидорович и сам явился, без вызова, узнав от Свореня о случившейся с Тимофеем беде.
Гуськов, сразу почуяв в Танутрове недоброжелателя, отвечал очень осторожно. Он сказал, что с Бурмакиным подружился' только лишь в школе, что это очень хороший, надежный товарищ…
– Аттестацию в этом плане можете ему не давать, – перебил Танутров, – она мне известна из его рапорта, где он вступился за раскулаченного вашего родственника, к нему не имевшего ни малейшего отношения.
– Мой дядя Антон Гуськов не раскулачен, он был незаконно обложен твердым заданием, – возразил Никифор. – Теперь все это исправлено, и он вступил в колхоз. Состоит в партии. А Бурмакин…
– Достаточно. Ясно. Когда вы его видели в последний раз? И что он вам говорил тогда?
– В тот вечер я стоял дневальным в проходной. Бурмакин вернулся из отпуска в город. Во время его отсутствия какая-то девушка оставила записку для него. Я передал ему записку, не читая. В этот момент вышел товарищ Анталов, начальник школы. Он сделал отметку на увольнительной Бурмакина о продлении отпуска. Кроме как о записке, мы с ним ни о чем больше не говорили.
– Кто эта девушка? Она приходила к Бурмакину часто?
– Не знаю. Я ее видел всего один раз.
– Так я вам скажу. Она из Сибири, – и впился взглядом в Гуськова. – Не Людмила ли Рещикова?
Гуськов слегка покраснел. Да, это так, записку он читал, о Людмиле Тимофей тогда же что-то объяснял Анталову. И вообще, по рассказам Тимофея он отлично знает, кто такая Людмила. Но если бы этот следователь хотел добра Бурмакину, с ним можно было бы и пооткровенничать. А так, пока…
– Не знаю.
И, помотав Гуськова еще минут десяток короткими и быстрыми вопросами, но не добившись исчерпывающих ответов, Танутров его отпустил. А на особом листке записал: «Гуськов – ненадежный, тенденциозный свидетель».
Зато Владимир Сворень все разрисовал, как желалось Танутрову. Прокомментировал и свой рапорт Анталову, и письмо Людмилы, приложенное к рапорту. Постарался в подробностях припомнить заезд вместе с Тимофеем в Худоеланское и все разговоры, какие когда-либо велись вокруг фамилий Рещикова и Куцеволова. Речь его лилась неудержимо. Танутров едва успевал записывать главное. «Говорил я Тимке…», «Тимку я предупреждал…» – такими вкраплениями то и дело пересыпал свои показания Сворень. Он не то чтобы стремился слишком уж очернить Тимофея, хотя какое-то чувство злого удовлетворения – в нем и шевелилось, он на этом силился, прежде всего, возвысить себя. Да и отвести на всякий случай возможные предположения о какой-то и его причастности к «делу Бурмакина».
- Но если не вглубь забираться, так Тимка – парень, может быть, и неплохой. Вы это запишите, пожалуйста, – выговорившись полностью, попросил Сворень. Он вдруг спохватился, что его показания когда-нибудь станут же известны Тимофею: А кто его знает, как потом повернется жизнь, какой своей стороной. – Мы ведь с ним всю гражданскую вместе прошли, вместе кровь проливали. Упрямый он очень, товарищ следователь, так это, может, от всех тяжелых переживаний, которые у него были. Переживания Бурмакина я подтверждаю. Это, товарищ следователь, тоже, пожалуйста, запишите.
Мардарий Сидорович начал свой рассказ с дня, когда к их полку прибился Тимофей, заморенный, почерневший от горя.
– Этот самый Куцеволов, про которого теперь прослышал я, говорят, едва не убит Тимофеем, он страшное зло ему. причинил. Было дело такое, долго искал он его…:
– Ах, искал? Значит, внушил себе? Но, к вашему сведению, Мешков, «едва не убитый» – ответственный работник транспортной прокуратуры Петунии. У вас имеются доказательства, что это и есть Куцеволов?
Мешков развел руками.
– Да нет, какие же у меня доказательства! Ни. Куцеволова, ни Петунина этого я в жизни и в глаза-то не видывал. Я пришел к вам потому, что завербовался на Дальний Восток, уезжаю и хочу, чтобы вы все слова мои в пользу человека, прямо скажу, как родного мне, взяли и оставили у себя на бумаге.
– А если оставлю не в пользу? – с легкой иронией спросил Танутров.
– Такого быть не может, – убежденно и с достоинством ответил Мешков. – Не знаю, чего и как там на рельсах у них получилось, но только Тимофея Бурмакина в злодеи вы не зачисляйте. Честнее не знаю я парня. А что сказал я: «Искал Тимофей Куцеволова», – так вы слова мой наоборот не поворачивайте. Искал он его, попервости, может, под горячую руку и пришиб бы, а теперь – только затем, чтобы судить судом народным. Это уж точно я знаю. Годы первую ярость его пригасили, рассудительный стал. Да лучше я по порядку вам все: обскажу.
– Обсказывайте. Но покороче. И факты, факты!
Он некоторое время слушал Мардария Сидоровича, кое-что и записывал, потом недовольно бросил перо.
– Вот что, Мешков, это все беллетристика, жизнеописание благородного рыцаря. Вели хотите, изложите самостоятельно на бумаге. И к делу это не приобщу. Так, поимею в виду. А как свидетель, по существу, вы ничего показать не можете. Например, о нынешних связях Бурмакина с той самой Людмилой, дочерью белогвардейского офицера, вы что-нибудь знаете?
Мешков поднялся. Его оскорблял сам тон вопросов Танутрова, явное желание вытянуть невыгодные для Тимофея ответы и их записать как важные показания свидетеля. Вот он сейчас назвал Людмилу. Было, прибегала она. Да уж столько эта девчонка в жизни горя всякого навидалась, что и пожалеть бы ее пора.
– Могу я пойти, товарищ следователь? Таких фактов, каких вам надо, я и впрямь не знаю. А это самое жизнеописание, позвольте, я дома нестесненно сделаю и после вам занесу. Только прошу, приобщите. Как там полагается, протокольно, непротокольно…
Всего этого и многого другого, так или иначе работавшего и прямо или косвенно влиявшего на ход расследования, Тимофей не знал.
И хотя томился в. долгом неведении, но истолковывал, в конце концов, все в хорошую сторону: очень уж добросердечным был первый разговор с Вериго.
4Проводив Тимофея до двери, Людмила вернулась в комнату, переполненная счастьем. Такой чистой и светлой радости она не испытывала давно, с самых далеких дней детства. Ей чудилось, будто просверкнула какая-то слепящая, острая молния, отрезала и сожгла, испепелила всю ту черноту, которая давила ее эти годы, а теплое свое сияние теперь оставила ей навсегда.
Она ходила, ощупывала оклеенные веселенькими обоями стены, такие тихие после скрипучих товарных вагонов. Не могла налюбоваться на чисто вымытые полы, стол, накрытый вышитой льняной скатертью, на опрятно заправленную постель с горкой пуховых подушек в изголовье железной кровати, украшенной по углам никелированными шишками. Жмурилась от яркого, щекочущего света электрической лампочки похожей на маленькое солнышко. Любая вещь в доме была теперь предметным напоминанием о том душевном и радостном разговоре, который только что состоялся здесь е Тимофеем.
Людмила ходила по комнате и улыбалась. Она теперь не одна. Есть на кого положиться. Есть кому довериться во всем.
Присела к столу, упала счастливой головой на сложенные руки. «Ну, думай же, думай, Людмила, – заставляла она себя. – Вот день наступит завтрашний. Куда ты пойдешь?»
И не хотелось думать о дне завтрашнем. Так хорош был этот минувший день.
Попалась на глаза записка Тимофея. Людмила прочитала ее вслух несколько раз. И опять не могла сдержать улыбки. Какой заботой и ласковостью звучит в ней каждая строчка! Ей слышался голос Тимофея.
«Ну что же, завтра пойду к Мешковым, – решила она. – Тима рассказывал, Мардарий Сидорович знает меня. Еще когда я у Голощековых, раненая, лежала, обо мне с Тимой у них был разговор. Ох, дали бы уголок, да еще бы устроили на работу!»
Хлопнула дверь на кухне. Людмила вскочила. Она ведь на радостях забыла накинуть крючок. Но оказался свой – вошел хозяин дома.
Отряхивая перед распахнутой дверью мокрую одежду, Епифанцев немного поворчал. Наставнически, но не сердито. Дескать, случается всякое, шатаются по ночам мазурики разные, долго ли до беды. И тут же, заметив на лице Людмилы застенчиво-тихую улыбку, заулыбался и сам.
– Чего это ты, девица, раскраснелась, как маков цвет? Не столь и жарко у нас, а ты эвон как полыхаешь. Не простуду ли в щелястом вагоне своем подхватила? Она, осень, такая, не заметишь, как с хворью подберется. Горлышко не болит? Самоё в озноб не кидает?
– Герасим Петрович, да совсем я здоровая! – воскликнула Людмила. – Ну я не знаю, отчего это. Наверно, от счастья большого. Тима недавно здесь был! Нашел ведь, нашел, так я и знала!
– Ишь ты! – Епифанцев подмигнул. – Знакомо дело. Сам по молодости ночь не ночь, дождь не дождь, к своей Степаниде Арефьевне бегал. А чего ж он недолго нагостился?
– Так у него записка увольнительная, Герасим Петрович, кончается в полночь. И еще приходил тут как раз товарищ Петунин, – с лёгким оттенком огорчения, что приход постороннего им, конечно, все-таки помешал, сказала Людмила. – Вместе, к поезду чтобы успеть, и ушли. Товарищ Петунии немного досадовал, что вас не застал дома, Герасим Петрович.
– А чего же ему досадовать? – с удивлением проговорил Епифанцев. – Мне-то больше резону осерчать на него. Как уговорились, от Лефортовской школы сразу к нему обратно я и поехал, обсказать чтобы все, как там, в школе этой, у нас с тобой происходило. Приезжаю на вокзал – в кабинете его и след простыл. Чего ему не стерпелось? Договорились же? А я вот, выходит, только зря лишнее время мок под дождем.
– Я рассказывала товарищу Петунину, что вы к нему поехали. И он сперва согласился вас здесь подождать. А потом заторопился, заторопился и с Тимой вместе ушел.
– Ну и бог с ним! махнул рукой Епифанцев. Захлопотал возле плиты, щепая на растопку лучины. – Давай-ка, девица, мы чайку согреем. Собирай на стол. Погляди, чего там найдется в буфете. Степанида Арефьевна, кажись, колбаски какой-то в очереди выстояла. Набери из кадушки – на крыльце, под брезентом – капустки квашеной. С капустой колбаса – милое дело. А йогом чайку с сахарином. Если не веришь, что от него зубы чернеют. Посмотрим еще, тут чего имеется?
Было забавно видеть, как Епифанцев, подпоясавшись полотенцем, передвигает на плите законченные с донышка кастрюльки, да ничего в них не находит и только крякает разочарованно. Господи! Колбаса с капустой да чай. Чего еще желать?
Людмила радостно принялась помогать Герасиму Петровичу в его хлопотах. Не очень уверенно открыла дверцы буфета, нашла кусок колбасы, завернутый в синюю вощеную бумагу, и. подала Епифанцеву. Он бросил его в кипяток. Запахло чесноком. Потом Людмила набрала в глубокую миску капусты, ознобно поскрипывающей, когда в нее втыкаешь вилку, расставила фаянсовые тарелки, сняв предварительно со стола вышитую льняную скатерть. И все боялась: не набедить бы по непривычности, не разбить бы, не опрокинуть чего. У Голощековых-то посуда была жестяные консервные банки – бей, не разобьешь.
А Герасим Петрович от плиты поощрительно покрикивал:
– Молодец, девица! Чувствуй себя как дома. В гости теперь от нас, а не к нам будешь ходить.
Он покрикивал, как-то враз успевая заглянуть и в кастрюльку, где, припухнув, толкаясь в белопенном кипятке, всплывала розовая колбаса, и в чайник, зудящий, как муха ночью на оконном стекле, успевал и подбросить тонких поленьев в плиту. Видать, не впервые приходится ему заниматься домашними делами. Да и как иначе, если Степанида Арефьевна через двое суток на третьи дежурит, блюдет чистоту, шурует мокрой шваброй с опилками полы на том же вокзале, где охрану на линии несет Герасим Петрович.
Людмиле, подумалось: «Как хорошо бы вот так же куда-нибудь поступить на работу, где шумно и людно, за долгий-долгий день уставать сильно, а потом возвращаться сюда, в теплый дом, и весело, запросто хозяйничать у плиты!» Совсем тоненькой нитью вплелась и еще мысль: «Приходил бы Тима, с ним вместе бродить по лесу. И пусть себе дождик льет или кружит снежная метелица…»
Сейчас ей хотелось только трудной работы и после нее сладкого отдыха, теплой постели в доме и ласковых слов от людей.
За ужином Епифанцев с пятого на десятое рассказывал о своем житье-бытье. Об этом попросила Людмила. Но больше он слушал ее. И удивлялся:
– Ну, девица, ты прямо-таки все огни, и воды, и медные трубы прошла. Более уж, кажется, нечего. Теперь тебе по справедливости самая пора и по гладкой, спокойной дорожке потопать. Все образуется. И работу найдем. И на улицу не выгоним. А жених, добрый молодец, тоже, вот он, есть уже. Когда свадьбу играть станем?
Людмила раскраснелась от счастья. Чтобы перевести разговор на другое, показала записку к Мешковым, оставленную Тимофеем. Епифанцев поморщился.
– Это ты, конечно, как знаешь. Выбор твой. А только места и у нас хватит. Мы со Степанидой жизню прожили, а потомства своего не оставили. Была одна дочечка, да трехмесячная и померла. Взяли тогда приемышку из подкинутых. И тут не вышло радости: : мать-кукушка объявилась, отобрала. Совесть ее, сказала, заела. – Он как-то жалобно позвенел ложечкой в стакане чая. – Увезла. А потом слух прошел: опять где-то канула. Искали мы, искали во всех местах, да без пользы. Выходит, и нас вдругорядь осиротила и счастья дочернего кровинке своей не дала.
Слезы Людмиле туманили глаза, И от грустной истории, рассказанной Епифанцевым. И от той отеческой доверительности, с какой он принял ее у себя в доме. То была она никому не нужна, всем постыла, в петлю лезть головой хотелось, и вдруг свет засиял.
– Герасим Петрович, да вы… Я не знаю, как и ответить вам… – заговорила она, сбиваясь в щемящем сердце волнении. – Вы же меня вовсе не знаете… И потом, что же я… Вот и товарищ Петунии тоже с лаской ко мне… За что?
– Стало быть, ты всем сразу пришлась по душе, – с удовлетворением проговорил Епифанцев, будто сам он вырастил и воспитал ее. – Ну и не стесняйся этого. – Засмеялся: – Хотя и стесняйся. Девице это лучше подходит. И опять говорю: нам ты в доме не в тягость, а в радость будешь, ежели и дальше такой себя поведешь. Как иначе? А что и товарищу Пeтунину ты понравилась, – это вот в редкость. Не так часто я с ним дело имею, а знаю, человек он куда как строгий, холодный. Даже, сказал бы я, жестокий к другим нарушителям. Одно слово: прокурор. А, гляди, к тебе как растаял. Стало быть, стоишь того. Поддержку тебе он сильную может дать.
– Он и с Тимой хорошо, поговорил. С уважением. Даже на поезд вместе пошли.
Людмиле виделось, как там дружески беседовали они, может быть, да, конечно, о ней говорили. А если с Петуниным Тима по-доброму познакомится, кто его знает, как это в жизни может потом для них пригодиться.
Она в мыслях уже не отделяла себя от Тимофея.
Беседа затянулась до глубокой ночи. И хотя разговаривать с Епифанцевым было очень интересно, дрема стала одолевать Людмилу. Это же только подумать, день выдался какой необыкновенный! Такого полного дня, отбирай по крупицам, и за год не. соберешь, не составишь.
Разморенная от тепла, сытного ужина и домашнего уюта, она сидела и пьяно пошатывалась, готовая повалиться, как попало, на стол и мертво заснуть.
Герасим Петрович наконец это заметил.
– Э-э, как тебя, девица, растомило! Ну, давай подыматься.
Все в таком же сонном оцепенении Людмила помогла ему прибрать со стола, вымыть посуду, думая только: ох, не побить бы! – и прислонилась устало к стене.
Епифанцев порушил горку пуховых подушек на постели, выдергивая полосатый, простеженный шпагатом матрасик. Сказал, где постелить постель, где взять свежую простыню, Людмила механически принимала все, что давал ей Герасим Петрович. Устроилась она на узеньком диванчике за переборкой в кухне. Там от плиты было особенно тепло. Качнулась, и словно бы потянуло ее в глубокую, расселину между скалами. Так захватило дыхание.
Напоследок Людмила едва расслышала заглохшими вовсе ушами:
– Спи спокойненько! Утро вечера мудренее.
– Спасибо, Герасим Пет…
И упала на самое дно. Поплыла, счастливо покачиваясь на пологих волнах.