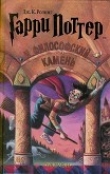Текст книги "Философский камень. Книга 2"
Автор книги: Сергей Сартаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Тимофей остановился. Над ним высоким столбом толклись комары, но не кусали – признак устанавливающейся ведренной погоды. Здесь, за городом, на опушке березового леса, перемешанного с ельником и рябиной, дышалось особенно легко, напоминало Тимофею его родной Кирей.
Обгоняя его, протопал неуверенными, тяжелыми шагами мужчина в распахнутой косоворотке. Кепкой, скрученной в дудочку и зажатой в руке, он похлопывал себя по груди, не то нагоняя прохладу, не то просто от удовольствия.
– Денечек, да? – спросил хвастливо, будто он подарил Тимофею хорошую погоду, – Как, товарищ военный?
– Отличный день, – согласился Тимофей, все еще не трогаясь с места.
– А папа римский кулаками сучит, крестовый поход против нас все шибче подогревает. В Мемеле фашисты подняли бунт против власти. К большой войне, говорят, что ли? Когда вы дадите по рукам фашистам да крестоносцам, этим всяким? Читал сегодня газеты?
– Нет, не читал, – сказал Тимофей.
– Надо читать. – Мужчина сделал рукой круг в воздухе. – Долго ли злой силе такую вот тишину, благодать в мире порушить? Смотри, на вас, на нашу армию, ведь вся надежда! А мы, у станков заводских, надо будет – не подкачаем.
Он был немного навеселе. Тимофей проводил его сочувствующим взглядом – пришлась по душе доверительность, с какой тот обратился к нему.
И все-таки слова рабочего чем-то задевали. Может быть, тем, что он, Тимофей Бурмакин, не только газет не читал сегодня, но он, по сути дела, и не военный, в обиходном смысле этого слова, потому что с воротника у него петлицы спороты; и пока еще не рабочий от станка, как этот нечаянный его собеседник, а так – просто лишь гражданин. Вдобавок подследственный…
Но он тут же подавил эту мысль. Станет он и рабочим и петлицы на воротничок себе снова нашьет. День сегодня погожий, вот что главное. Комары толкутся в небе долго будут дни хорошие. Люди попадаются тоже только хорошие. И дорожка, та же самая, только нынче, не тоскливая и слякотная, ведущая в неизвестность, а знакомая, радостная.
Людмилу он увидел еще издали, как только тропинка вывела из лесу к стоящим в ряд маленьким домикам, словно бы взявшимся за руки и готовым выбежать через зеленую поляну к нему навстречу.
Немного приседая, Людмила красила штакетную оградку. Водила плавно кистью, и, когда вскидывала ее вверх, рука обнажалась почти, до плеча. Солнце посылало свои лучи через оградку. Уже невысокое, очень яркое, оно, должно быть, мешало ей, било в глаза сквозь просветы между планками. Людмила поеживалась, то и дело досадливо крутила головой, отмахивала со лба надоедливо сползавшие волосы.
Вот через эту зеленую полянку перейти…
– Люда! – позвал он вполголоса, зная, что это тихое слово на таком расстоянии, конечно, до нее не долетит.
А девушка, по удивительному совпадению, вдруг опустила руку с кистью, выпрямилась во весь рост и, немного потягиваясь, разминаясь, повернулась лицом к нему. Повернулась, замерла на мгновение, и кисть выпала у нее из руки. Сделала шаг, другой, видимо, никак не доверяя глазам своим, и опрометью бросилась навстречу Тимофею.
– Тима! Пришел?
Людмила повисла у него на шее, принялась безудержно целовать.
Они забыли, что стоят на тропинке, по которой то и дело проходят люди к железнодорожной платформе и кое-кто легонько посмеивается. Кроме торжественно застывшего леса, немо протянутых к ним узорчато-разрезных рябиновых листьев, настороженных еловых лапок и никлых тонких ветвей березы, в этом мире, сейчас таком светлом и теплом, для них не существовало ничего.
Потом они взялись за руки и, медленно переступая, будто жалея топтать ногами мелконькие полевые цветы, побрели вдоль опушки.
– Люда, тебе хорошо? – спрашивал Тимофей. Но об этом можно было и не спрашивать, об этом говорили ее лучащиеся радостью угольно-черные глаза. Удивительно красивой и желанной была она.
– А тебе, Тима? – спрашивала, в свою очередь, Людмила.
И Тимофей только крепче стискивал в своей ладони ее пальцы, тонкие, но жестковатые от тяжелой работы.
Они брели, не зная куда. Но так вот, рядом, готовы были обойти хотя бы и весь шар земной. И не имело значения, будет ли все так же ласково светить предзакатное солнце или захватит в пути холодная, непроглядная ночь, – только бы вместе, и только бы двигаться, открывая для себя все новые и новые дали. Так они вышли к железнодорожному переезду с высоко задранными в небо полосатыми шлагбаумами. Поляна и опушка леса здесь пересекались замощенной булыжником дорогой, которая круто всползала на переезд.
По ту сторону насыпи виднелись домики другого дачного поселка. Блестящие рельсы убегали и вправо и влево совершенно одинаково, как бы навязывая извечное раздумье всех перепутий: куда повернуть?
Тимофей глянул влево. Там, далеко, была Москва, одарившая его многими знаниями, многими своими щедротами великого города. Но ближе – остановочная платформа, та самая, когда осенней ночью…
А вправо? Родные края. И горькие, суровые, но больше все-таки счастливые годы его жизни; там был и самый близкий друг его, комиссар Васенин, Мешковы, и все это в такой фантастической дали, что лишь представить ее – кружится голова.
Какая сторона этого гладкого рельсового пути, словно живой ручей, переливающийся на солнце, ему дороже?
Людмила без слов поняла его. Тронула за руку, и они пошли дальше. Ни вправо, ни влево, а прямо, вперед, по неровной, вымощенной булыжником дороге, через переезд.
Дорога уводила в открытые поля, в вечернюю тишину, и там можно было идти, легко ступая по мягкой травянистой обочине, где истомно циркали неутомимые кузнечики.
В небе затеплились первые звезды.
– Ты помнишь, Люда, нашу ночь на Одарге? – спрашивал Тимофей;
– Умру – и тогда буду помнить. Если бы ты в ту ночь не пришел, меня теперь уже и на свете бы не было.
Попадались маленькие поселки, какие-то перекрестки, развилки дороги. Изредка их обгоняли пылящие грузовики, конные упряжки. Они шли, не замечая ничего.
– А мы найдем здесь такую речку?
– Не знаю.
– Куда ведет эта дорога?
– Не знаю. Каждая дорога куда-нибудь ведет.
– Тебе не хочется вернуться?
– Нет. Пойдём, пока сил хватит?
Они не могли наговориться. То забирались назад в далекие годы, то размышляли, какая жизнь наступит через несколько лет. Перебирали профессии, ремесла, которым хорошо было бы научиться.
Тимофею нравилось столярное дело. К нему всегда разжигал интерес Мардарий Сидорович. Но больше хотелось постигнуть такие науки, где можно сразу широким взглядом охватить весь мир.
Людмила рассказывала, что работает на ремонте железнодорожного пути – спасибо, устроил Герасим Петрович, – она меняет шпалы, подбивает под них балласт. Да вот после воспаления легких быстро накатывается усталость. Но все же радостно работать, когда ты вместе с людьми и тебя они любят.
Говорили обо всем. О минувшей зиме, какая она была холодная. О книгах, которые они прочитали. О забавных случаях в жизни. Только о грустном не говорили. И ни разу не произнесли фамилию Куцеволов, не спросили друг друга, что было с каждым после того, не добром обернувшегося вечера…
Это потом, потом…
На поля опустилась глубокая, но прозрачная ночь, и низины подернулись клочковатым белым туманом. Стало зябко. Тимофей пожалел, что на нем сейчас нет шинели. А Людмила стояла, втянув голову в плечи, покусывала сорванную травинку. И тихо, сонно смеялась.
– Ой, Тима! Куда же это я тебя завела? Сейчас упаду и не встану. Что нам делать?
– Позволь, я тебя понесу, – просто сказал Тимофей. – Ты отдохнешь.
Она подошла, припала к нему всем телом и, теплая и дрожащая, доверчиво уткнулась ему в грудь головой.
– Нет, я вот так постою немного, только минуточку одну…
И Тимофей почувствовал, как у Людмилы подгибаются колени, она расслабленно сползает, падает на землю. А поля вокруг бескрайные, прохладные. Нигде ни огонька, ни единого звука. Даже кузнечики примолкли.
Он подхватил и понес ее, приподняв так, что подбородок Людмилы лег ему на плечо, а руки безвольно свесились за спину. Тяжело Тимофею не было, он мог бы так идти хоть всю ночь. И он даже не сразу понял, куда пошел – обратно, к дому Епифанцева, или все продолжая свой путь в даль, в бесконечность.
Людмила дышала редко, глубоко, и теплота ее дыхания, проникавшая сквозь плотную ткань гимнастерки Тимофея, наполняла его счастливым волнением. Вот так они теперь навсегда будут вместе.
Он шел; поглядывая на тускло-желтую звезду, выделяющуюся среди других своей величиной. Все звезды казались теплыми, струили нежный мерцающий свет, а желтая звезда, вопреки ее цвету, была словно бы ледяной, чужаком в дружеском ночном разговоре небесных светил. Тимофей не очень уверенно разбирался в астрономии, хотя в свое время и прочел, по совету Васенина, несколько книг Фламмариона. Немерцающие звезды, он знал, – планеты. Вероятнее всего, это Сатурн.
И ему как-то сама по себе припомнилась, может быть, и не очень точно, одна из отрывочных записей, прочитанных в дневнике капитана Рещикова: «Глупо верить, как верили древние и верят многие еще и в наши дни, что судьба человека от его рождения и до кончины так или иначе, а где-то записана. В том числе в безднах вселенной на звездном языке. Но кто мог бы записывать судьбу человеческую на звездах, на линиях руки или на чем-то еще и для чего? Творец, если есть творец этих судеб, он их знает и так, ему это не нужно. А люди, миллион против одного, умрут, не узнав своей судьбы даже от какого-либо предприимчивого астролога, которого тоже неизвестно кто одарил умением читать по звездам. Итак, оскорбительное надувательство. А составленные мною гороскопы для Вити и Людочки – просто милая игра в домашнем кругу. Став взрослыми, они станут смеяться над тем, что Марс, появляясь над горизонтом в сентябре, весь этот месяц будет с жестокостью управлять поступками Вити, а Сатурн, находясь в весенние месяцы в созвездии Водолея, станет приносить Людочке счастье. Никем и нигде судьба человека не записана, свою судьбу он создает только сам. Но лишь тогда она станет прекрасной, если человек видит ей место в ряду других человеческих судеб, которые он сможет, а потому обязан облегчить. И еще: если, определяя свое назначение в мире, он способен улавливать даже самый тихий голос собственной совести, внимая ему, как голосу далеких и чистых звезд. Ибо звезда не сама судьба, а издревле – лишь синоним незапятнанности души человеческой…»
Пусть капитан Рещиков, как считает Алексей Платонович – несусветный философский путаник и открыватель либо тривиальных, либо, наоборот, вообще неоткрываемых «истин». Но разве его слова о звездах и о судьбе человеческой – плохие слова?
Не Сатурн же, конечно, если эта холодная, тускло-желтая звезда – Сатурн, сегодня повела его и Людмилу сюда, чтобы теперь остаться им навсегда вместе. Они сами для себя решили это. И связали теперь судьбы свои в одну не для того, чтобы прожить посытнее и потеплее.
– Эй, звезды, мы слышим ваш голос!
Тимофей сказал это очень негромко, ему показалось даже, что он только подумал так. Но Людмила вдруг встрепенулась, выпрямилась, соскользнула на землю, еще совсем сонная.
– Кто тут? – спросила встревоженно. Обтерла лицо ладонью, словно бы умываясь. – Ой, Тима! Где это мы? Мне почудилось… Будто плыву я в лодке. С тобой, А кто-то сильно наклонил ее, из реки…
– Никто не наклонял. Это я пошутил, сам качнул чуть– чуть нашу лодочку, – сказал Тимофей. И поцеловал Людмилу в губы – таким растерянно милым в ночной темноте было ее лицо. – И, кажется еще, я разговаривал со звездами.
– Со звездами? О чем? – спросила Людмила.
– О том, что с этой ночи ты моя жена. Если ты этого хочешь. Но я уже решил и за тебя, пока ты спала.
Она отступила. Немного, так, чтобы Тимофей смог увидеть ее глаза,
– Тима, я никогда, никогда не скажу тебе неправды!
И в этих словах содержалось всё.
18Мария Васильевна крепко отчитала Тимофея за то, что он глаз к ним не казал больше двух недель. В углу стояла приготовленная для него, тяп-ляп, самодельная лежанка – дело рук Ивана Никаноровича. За один вечер сколотил. И постель на ней честь честью заправлена.
«Сорванцы» Толик и Виталик прыгали вокруг матери, прятались за ее подол, выставляя измазанные повидлом рожицы. Дядя Тима им нравился, но вступить с ним сразу же в более^ тесное общение они еще не решались.
– Ну, нету и нету! Ждем первую ночь, и вторую, и третью, и десятую, да что же это такое? – корила Мария Васильевна. – Зачванился парень, облюбовал себе хоромы царские, так хотя бы за шинелькой пришел. Или мы сами чем не приглянулись?
– И не знаю просто, какими словами просить у вас прощения, Мария Васильевна, – оправдывался Тимофей. – Хотите, на колени стану, хотите, вздуйте ремнем.
Толик с Виталиком давились от радостного смеха. Мария Васильевна беспомощно всплескивала руками: «ремнем»!
Не в этом дело.
Но, израсходовав весь запас своих сердитых слов, она заговорила уже ровнее, участливее: Епифанцевым этим, поди, пристроился? Понятно. Так я и подумала. Поближе к девушке своей.
– Женой будет. Все у нас решено.
– Бог ты мой! Вот нынче как: раз – и готово.
– Нет, не «раз», Мария Васильевна. Наша любовь очень давняя. Хотя, как говорится, и с первого взгляда.
– Ну, коль так, большого вам счастья тогда! – сдалась Мария Васильевна. И тут же прибавила сокрушенно: – А знакомству нашему, что же, выходит, тут и конец?
– Почему? Самое начало, – возразил Тимофей. – Если чаем снова угостите, буду чай пить, но так, или иначе дождусь Ивана Никаноровича. Дело у меня к нему огромное. Да и к вам тоже, Мария Васильевна. Боюсь только, что когда расскажу, так вы и сами от знакомства со мной откажетесь.
Марии Васильевне нравились бесхитростные, веселые люди. Держал себя Тимофей подкупающе просто. А просить он собирается, уж конечно, не бог весть что особенное. И хорошо, когда с шуточкой. Она погрозила ему пальцем, шуганула ребят от себя и пошла ставить чайник. Какой же без угощения разговор?
А разговор был вот какой.
Когда чайник вскипел, и Мария Васильевна выставила на стол, что нашлось у нее к такому случаю, Тимофей перечислил все свои просьбы.
Первая, лично к ней. Помочь устроиться Людмиле в школу ФЗУ при той самой швейной фабрике, которая так усиленно приглашает Марию Васильевну к себе на работу. Видимо, портнихи там очень нужны. Может, примут Людмилу?
Вторая просьба к Ивану Никаноровичу – помочь уже ему, Тимофею, поступить на Мытищинский вагоностроительный завод. Столяром. По первости хотя бы самого малого разряда. Работать надо, работать хочется, и столярное дело нравится. В тайге, мальчишкой еще, все сам мастерил по дому. Если же и вперед заглянуть, на ближнюю осень, то, работая на таком заводе, потом вернее зачислится и на вечерний рабфак при университете. Это самая главная мечта.
Ну и третья просьба, к обоим. Не разламывать эту вот, в углу, лежаночку. Вдруг поздняя ночь или дурная погода прихватит в городе – приютить на ней его ли самого или Людмилу. Как уж там по обстановке придется…
– Да хоть и двоих враз, – растрогалась Мария Васильевна. – Сами сколько по углам ютились, цену человеческой поддержке знаем. Да и в этой комнате временно живем, пока вернутся со своего Дальнего Востока настоящие хозяева. Как еще к той поре с квартирой нас устроят? А насчет девушки, ну хочешь лучше – жены твоей Людмилы, завтра же на фабрику сбегаю. Сто подружек там у меня. Да и не в подружках дело, верно говоришь, на обучение молодые всюду очень нужны. Похожу, с кем надо, поговорю. Не жировать куда-нибудь человек просится – на работу. Мастером хочет стать, жизнь свою на правильный лад повернуть…
Она разгорячилась. С такой же убедительностью объявила, что и самого Тимофея с удовольствием на Мытищинский завод возьмут, потому что и там рабочие вот как нужны, а Тимофей вон какой бравый, без пяти минут строевой командир.
– В том-то и штука, Мария Васильевна, что я действительно сейчас без пяти минут командир роты. А без двух минут – совсем из армии разжалованный. Правда, есть у меня бумага от следователя, что препятствий к поступлению моему на работу не имеется, но ведь кто его знает, как на большом заводе посмотрят. А мне хотелось бы поступить именно туда, где много рабочих и хорошая техника. Хочу не просто на жизнь себе зарабатывать, а учиться при этом.
Тимофей не стал рассказывать, что есть у него в запасе еще одна поддержка. И очень крепкая. В тот день на Главном почтамте получил он телеграмму до востребования. Васенин ему телеграфировал: «Письмо получено мой дорогой будь уверен истина всегда победит тчк Окажется трудно сходи Политуправление РККА замначальника Гудину поможет говорил с ним по прямому тчк Анталову привет передай обнимаю Алексей». Он не сказал Марии Васильевне об этой телеграмме потому, что не хотелось ему прибегать к поддержке Гудина без крайней к тому необходимости. Прежде всего, надо надеяться на себя. И еще раньше – на справедливость того, чего добиваешься.
Не сказал Тимофей и о том, что повидался с Анталовым. Зачем об этом рассказывать? Разве только так, для общего разговора о хороших людях.
Анталова он подкараулил у проходной будки.
В первый момент Тимофей его не узнал, так он горбился, и «тянул ногу», чего сам больше всего не любил у курсантов. Обернувшись на оклик Тимофея, Анталов проговорил немного удивленно и с оттенком удовлетворения:
«A-а, Бурмакин!»
И выждал, когда Тимофей поприветствует его по уставу. «Товарищ начальник школы, разрешите к вам обратиться. Я должен попросить у вас прощения…» – начал было Тимофей;
Но Анталов, пронизывая его своим холодным, льдистым взглядом, перебил:
«У тебя, Бурмакин, что ни слово, то ошибка. Во-первых, теперь я не начальник школы, а только командир подразделения. Во-вторых, в твоем нынешнем положении правильнее говорить просто „товарищ Анталов“. В-третьих, извиняться тебе нет основания, если ты имеешь в виду понижение меня в должности. Я сам виноват: неправильно хранил некоторые бумаги. Ну, а если главное взять, ЧП, твою выходку, так, черт подери, или ты и в самом себе не уверен? А если уверен, почему я должен не верить тебе? Какого лешего тогда тебе просить у меня прощения?»
«Спасибо, товарищ Анталов! – взволнованно сказал Тимофей. – Но для меня вы все равно начальник школы… И мой командир полка».
«Если бы это не походило на взаимные реверансы, я бы тоже ответил тебе: „Спасибо, курсант Бурмакин!“ Но давай по существу. У тебя ко мне дело? Или только поздороваться со мной хотелось?»
Они тихонько шли вдоль школьной ограды. Дул резкий боковой ветер, трепал вершинки молодых липок, посаженных, обочь тротуара, и заставлял обоих, Бурмакина и Анталова, временами придерживать головные-уборы.
«Особенного дела нет, товарищ Анталов. Хотелось с вами и поздороваться и обязательно все же сказать: „виноват“ – я ведь знаю, что вас из-за меня понизили…»
«Что ты мне опять на больную мозоль наступаешь! Объяснил ведь я тебе»,
«Тогда еще и посоветовал Алексей Платонович Васенин повидаться с вами».
«Вот с этого и начинал бы. Мне он тоже пригнал письмо листах на десяти. Так что я вполне посвящен в подробности твоей выходки. Можешь не рассказывать. А, в общем, давай знать, когда понадоблюсь. Надо будет по обстоятельствам твоим, к Гудину схожу. Тебе к нему проникнуть труднее. Нет других вопросов? Тогда домой обедать пойду. Стал я уставать по-собачьему. Впору язык вывалить и улечься, вытянув лапы, вот тут под липками».
Он первым подал руку Тимофею и козырнул.
«Прощай! – Но задержался. – Вижу, у тебя что-то еще». «Вот вы сказали, что верите мне. А почему же тогда это ЧП назвали моей „выходкой“? Ведь под поезд, вы же знаете, ни за что не толкнул бы я Куцеволова! Живым и здоровеньким притащил бы его в Москву. Это он хотел бросить меня под колеса. А все остальное получилось нечаянно».
«Называю „выходкой“ потому, что солдатскую смекалку ценят по результатам. Если ты его, как личность, угадал, леший понес тебя вдвоем с ним по шпалам! Значит, не смекнул, не предусмотрел. То есть вместо разумного действия глупая „выродка“ у тебя и получилась. При этом – слушай! – не исключено еще, что и в самом деле ошибка у тебя произошла».
Тимофей побледнел, отступил.
«Если так, я не могу от вас…»
«Не пыли! Глупые „выходки“ как раз с таких вот необдуманных слов и начинаются. Слушай еще. Даже если это ошибка, в вину я тебе ее не поставлю, хотя бы это стало тогда уже моей собственной ошибкой. Понял? Хорошенько подумай. Прощай!»
Он снова козырнул и пошел, не оглядываясь.