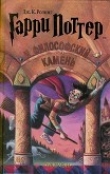Текст книги "Философский камень. Книга 2"
Автор книги: Сергей Сартаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Танутров вошел и, конечно же; ища место, куда бы положить портфель, обратил внимание на документы, как попало брошенные на тумбочку. Полистал их, некоторые прочел, осуждающе попенял:
– Товарищ Петунин, что же это вы так небрежно с важнейшими бумагами обращаетесь? Упадут на пол, нянечка выметет.
– Вечная беда моя, – виновато сознался Куцеволов. – И раньше, бывало, суну куда-нибудь дома, а потом, хоть убей, не могу вспомнить. А теперь и вовсе, вот видите… – Он стал приводить бумаги в порядок, уголок к уголку, спрятал в тумбочку. – Это, знаете, Евдокия Ивановна принесла, наткнулась на них где-то в неподобном месте. Тоже чудачка. Принесла показать. Убрала бы сразу куда полагается.
– Женщины! – заметил Танутров, копаясь в портфеле. – Таково уж их свойство – полагать себя няньками для мужчин. – Он извлек последние показания Куцеволова, пробежался по ним беглым взглядом. – Добавить ничего не желаете, товарищ Петунин?
– Для этого надо вспомнить, что я вам раньше показывал, – беспомощно, развел руками. Куцеволов. И вообще хоть что-нибудь вспомнить.
– А вы знаете, товарищ Петунии, это ведь очень на руку Бурмакину, – сказал Танутров и сожалеюще и сочувственно. – При вашей забывчивости ему легче строить свою защиту. Не напрасно ли вы настаиваете на завершении следствия? Здоровье ваше хоть медленно, да улучшается. Зачем спешить?
– Если ночью муха у вас звенит на оконном стекле, она не дает вам спать, пока вы ее не прихлопнете. Так и у меня эта история. Как раз то, что она до сих пор не закончена, может быть, н не дает мне возможности быстрее поправиться. И врачи, между прочим, считают так. Понимаете, эти разные мозговые явления, условные рефлексы и еще черт те что. А Бурмакин пусть себе защищается на здоровье, я ведь не враг ему, парень он молодой, вся жизнь у него впереди.
– Альтруист вы, товарищ Петунин, – сказал Танутров. – При вашем характере, думаю, нелегко вам было работать следователем.
– Нелегко, – подтвердил Куцеволов. Но слово «альтруист» его неприятно резануло. Сам он его употреблял обычно лишь в презрительном смысле. – Легко – нелегко. Но разве это главный критерий? Человечность – вот что главное в отношениях к людям.
– Да, разумеется. Но не к преступникам. – Танутров тряхнул листом бумаги. – Позвольте напомнить, перечитать?
– Будьте добры.
Танутров читал медленно, а Куцеволов, полулежа в постели, соображал, надо ли ему вносить в прежние свои показания какие-либо поправки. Пожалуй, все же надо. Тогда отчетливее предстанут причуды потерянной памяти. И чем нелепее поправки, тем лучше. Да, да, только так. Он прищелкнул пальцами.
– Простите, но вот какая, и очень яркая, картина сейчас видится мне. Бурмакин вошел в кабинет, показал записку. Людмилы Рещиковой и стал расспрашивать, как проехать к Епифанцеву. Мы вместе сели в поезд и когда. – Он задумался. – Позвольте, что же было дальше? Да, мы потом сошли на какой-то платформе… Он говорил… Нет… Оборвалось… Что говорил этот юноша?… А вот поездка мне очень отчетливо видится…
– Увы, дорогой товарищ Петунии, никуда вы с Бурмакиным вместе не ездили. Вы с ним впервые встретились только в домике Епифанцева. Все это точно проверено. А вот оттуда ушли уже вместе.
– Нет, нет, как же так! Я могу вам в мельчайших подробностях описать вагон, в каком мы ехали. Окно было разбитое, в правом нижнем углу выпал небольшой осколок, я все старался отодвинуться, прикрыться от сквозняка, и Бурмакин предложил поменяться местами…
Зажав между коленями сложенные вместе ладони, Танутров тихонько покачивался и грустно улыбался.
– Увы, увы! Это когда-то вы ехали в таком вагоне и с кем– то другим.
Куцеволов немного поспорил и сдался. Откинулся на спину, устало закрыл глаза.
– Ну, тогда, кажется, ничего нового я не смогу добавить. Извините, чуточку закружилась голова.
Прощаясь, Танутров совсем мимоходом бросил:
– Фамилия Флегонтовская или Губанова вам ничего не говорит? Нет, безусловно. Еще одна свидетельница у Бурмакина объявилась! Но, разумеется, по обстоятельствам дела никаких показаний не может дать. Только, так сказать, положительная аттестация самого Бурмакина и его подруги жизни. Записывать от нее нечего, а рвется в суд.
– Причислите тогда, пожалуйста, и меня к этой категории свидетелей, – отозвался Куцеволов. – По обстоятельствам дела я тоже ничего существенного показать не могу, а Бурмакин и мне представляется славным малым. Рещикова тем более.
Он остался очень доволен своим ответом. Пожалуй, такая линия и на суде наиболее выигрышная. С одной стороны, молодой, резкий, одержимый idee fixe маньяк, жаждущий его, Петунина, крови; с другой – спокойный, мягкий, умудренный жизнью человек, доброжелательный даже к своему случайно лишь несостоявшемуся убийце. Превосходно! Прямо-таки по евангельскому образцу: «Если тебя ударили в правую щеку – подставь левую». Это впечатляет. Бурмакин будет, вероятно, подобен летящей пуле. Надо, чтобы эта пуля встретила на пути не металл, который она бывает способна пробить, а тюк ваты, в которых сразу же гаснет ее гибельная скорость.
Следователь к нему, к Петунину, весьма расположен и явно настроен против Бурмакина. Вот эту атмосферу и нужно сохранить на суде. Нужно привлечь симпатии всех на свою сторону: не только председателя трибунала и прокурора, но и защитника и любых свидетелей со стороны Бурмакина. Применить приемы японской борьбы джиу-джитсу: подчиняясь – побеждай.
И если Бурмакин предпочтет по-прежнему неистовствовать, тем хуже для него, он сам накличет на себя беду: изуродованная жертва его нападения, как непреложный факт, будет у всех стоять перед глазами.
Он еще раз полюбовался на превосходно изготовленные Астанаевым документы, перебрал в памяти разговор с Танутровым, логически проверил самым придирчивым образом задуманную тактику своего поведения на суде и убедился, что все правильно, все надежно, хорошо. Все предусмотрено, ни в чем нет даже малой доли риска.
И вожделенно подумал о сравнительно близком будущем, когда Бурмакин сядет в тюрьму, Евдокия Ивановна получит отставку, милая Валюша будет при нем и сам он приступит к прежней своей работе, еще более окруженный светлым, ореолом мученика и честного борца за Советскую власть.
Подумал, что надо будет ему поближе, хотя и со всей осторожностью, сойтись с Астанаевым, чей великолепный талант во многих делах может весьма и весьма пригодиться, как тихое и в то же время сильное средство борьбы с борцами (ему понравилась игра слов) за эту самую Советскую власть. Подумал, что и с Бурмакиным – потом! – ему придется еще немало повозиться.
Вдвоем по рельсам с ним уже не прогуляешься, а давать Бурмакину разгуливать одному после тюрьмы долго тоже нельзя.
Позвали на обед.
Больничные харчи были прескверные, и Куцеволов всегда подкреплял их приношениями Евдокии Ивановны и Валентины Георгиевны. Но в этот раз он хлебал пустые щи и ел мясные котлеты, сделанные на три четверти из размоченных сухарей, с таким удовольствием, будто обедал в первоклассном ресторане.
31Пожалуй, беспокойнее других ночь накануне суда провел Владимир Сворень.
Получив повестку из военного трибунала, он припомнил свой недавний разговор, с Гуськовым, когда тот, чуть коснулось дело Тимофея Бурмакина, довольно бесцеремонно показал ему на дверь. Никифор, начисто, лишённый классового чутья, конечно, станет расписывать на суде своего друга в самых розовых красках. Тимофей, и ему, Свореню, тоже друг, но с такими изъянами в своей биографии, о которых умолчать невозможно. Чего стоит одна лишь длительная связь, а потом и женитьба на дочери белогвардейского офицера! Сказать о нем все жестко и прямо – значит топить человека. Не сказать грешить перед истиной. Сказать – значит увидеть, как потом поведут Тимку под конвоем, и увидеть его гневные и упрекающие глаза. Не сказать – самого не притянули бы к ответу за то, что он отступил от своих показаний.
Ему рисовались события так, словно единственно от его выступления на суде и будет зависеть приговор.
Владимир решил поделиться с Надей своими тревогами и сомнениями. Надя его не поняла, назвала трусом и беспринципным человеком, и они крепко поругались. Это, тоже было не лучшим средством от бессонницы.
А еще больше подлила масла в огонь Надежда Гуськова. Она появилась именно в тот миг, когда Владимир припечатывал Надю постыдным, бранным словом. Не разобравшись в чем дело, Надежда Гуськова, тем не менее, вступилась за свою тезку, за ее женское достоинство. Сворень не сдержался, в запале унизил женское достоинство и Надежды, после чего она в слезах убежала, отрезав тем самым и возможность зайти к Никифору за советом.
Всю ночь Владимир ворочался в постели и думал, как хорошо было бы неожиданно заболеть.
Прикинуться больным? На это он не решился. Продаст потом Гуськовым, обозленная на него, собственная Надя…
А в суде, в комнате для свидетелей, он сидел мрачнее тучи.
Свидетелей было вызвано много. Жена пострадавшего, Никифор Гуськов, Епифанцев, Анталов, Людмила, незнакомая ему комсомолка в красной косынке, милиционер и еще какой-то военный, кажется, дежурный помощник коменданта вокзала. Сворень прикидывал: похоже, что свидетелями обвинения будет только жена пострадавшего, военный и милиционер да, возможно, еще неизвестная ему комсомолка; другие четверо будут, безусловно, тянуть на сторону Тимофея. Так. А он при таком раскладе, на какой должен быть стороне?
За стеной уже шло судебное заседание.
Сворень пытался мысленно представить себе, что там сейчас происходит. Вероятно, зачитано обвинительное заключение, и Тимка, стоя навытяжку, белеет под жесткими вопросами председателя трибунала, седого, прямого, в очках, с ромбом в петлицах… Самого Свореня на службе в армии ромбы всегда заставляли белеть. Тимка стоит и ежится, а сбоку на него испепеляюще смотрит изувеченный, едва им не погубленный хороший человек, вся беда которого оказалась в том, что он примерещился Тимке похожим на какого-то Куцеволова.
Нет, жалеть при таких обстоятельствах Тимку нечего. Припомнить только, как он бубнил еще двенадцать лет назад, в вагоне комиссара Васенина: «Убью, убью Куцеволова!»
И потом, всегда. Винтики на этом у него в голове разошлись.
Сворень уже совсем отчетливо видел, что происходит там, за дверью, ведущей в зал суда. Но холодок страха – не за Тимофея, а за себя, не наговорил бы чего Тимка о нем, – холодок гнетущего, страха против воли все же охватывал Свореня.
А в зале суда между тем происходило следующее.
После того как было зачитано обвинительное заключение и состоялись все процессуальные формальности, Тимофей отказался признать себя виновным,
Тогда, прежде чем начался допрос Бурмакина, слово для внеочередного заявления попросил сам. пострадавший. Председатель трибунала поморщился, но, посоветовавшись со своими коллегами, все же слово ему предоставил…
Куцеволов начал свою речь с упоминания о том, что он работник прокуратуры и отлично; знает, какой юридический смысл скрывается за терминами «умышленное покушение на жизнь», «причинение тяжких телесных увечий» и к каким практическим последствиям ведет применение соответствующих статей уголовного кодекса.
– Да, я живое доказательство нанесенного тяжкого увечья, – сказал он далее. – И я :не оспариваю всех выводов следствия, мне известен порядок судопроизводства. Я вообще прошу прекратить дело Бурмакина и снять с него все обвинения. – Куцеволов переждал момент всеобщего изумления. – Мои попытки припомнить хотя бы некоторые частности того злополучного вечера, – как вы знаете, оказались бесплодными. Граждане судьи, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть показания Бурмакина. И никто не может сделать этого, потому что бесспорно: на рельсах мы были только вдвоем. Опираясь на это «вещественное доказательство», – Куцеволов положил себе руку на грудь, – можно и должно признать Бурмакина виновным. Но не достаточно ли одной жертвы этого ужасного происшествия? Для чего их множить, признавая Бурмакина виновным? Я этого не хочу, революционной совести своей я этого не могу позволить! Вспомните, чем, какими чувствами руководствовался. Бурмакин в тот вечер? Он видел перед собой, давно разыскиваемого им врага, убийцу его матери и многих его друзей. И он не мог сдержаться. Это можно понять. Благородное побуждение! За что же судить Бурмакина? За благородный образ мыслей? Припомните его биографию, путь честного воина Красной Армии. Перед ним открылась большая, интересная жизнь с огромными перспективами, он встретился с любимой девушкой, обрел семейное счастье… И все это разрушить тяжелым приговором лишь потому, что перед вами находится «вещественное доказательство» преступления? Но это «доказательство» взывает к вам, граждане судьи, остановите суд, нельзя судить за честность и благородство! Не прибавляйте мне к физическим моим страданиям еще и нравственные страдания, Я не истец и не свидетель обвинения в этом процессе, я искренний друг этого честного молодого человека, и я хочу стоять с ним рядом. Но если трибунал все же не сочтет возможным удовлетворить мое ходатайство о прекращении дела Бурмакина, я прошу вас внести в протокол следующие мои показания: «Я, Петунии Григорий Васильевич, утверждаю, что это именно я, без всяких побудительных причин начал борьбу на рельсах и только тогда Бурмакин в порядке необходимой самообороны нечаянно толкнул меня под поезд». Граждане судьи, иного средства освободить Бурмакина от ответственности у меня нет! Но допустить, чтобы роковое недоразумение превратилось в тяжелую драму для него и его близких, я тоже ни в коем случае не могу. – Он стиснул ладонями виски, закончил торопливо: – Кажется, такие мои показания совпадут с объяснениями Бурмакина, и суду тогда будет просто закончить следствие и принять решение. Накажите меня, мне все равно, мне даже это будет легче, но не коверкайте, пожалуйста, молодую жизнь Бурмакина. Что же касается его предположения о моем двойном лице… – Куцеволов провел по нему ладонью, как бы снимая маску и в то же время, обращая внимание всех на глубокие шрамы. – Вот оно мое, теперь действительно второе лицо. Но эту ошибку моему молодому другу я охотно прощаю. А жизнь моя у всех на виду. Ее следствие проверяло. Проверьте, если угодно, еще, граждане судьи!
И сел. Попросил дать воды. Возле него поднялась суматоха.
Председатель трибунала объявил перерыв. Суду необходимо было посовещаться.
Куцеволов пил воду, исподволь наблюдая за залом. Все взоры с симпатией были обращены на него. Да, рассчитал он точно. Речь его произвела на всех сильное впечатление. Она дышала мужеством, искренностью, прямотой и глубокой тревогой за судьбу молодого человека.
Только Тимофей сидел будто каменный, не слушая, что шепчет ему на ухо защитник. Он угрюмо смотрел на дверь, за которой скрылся состав военного трибунала.
Он понимал, какую игру затеял Куцеволов. Ожидал любых его хитрых ходов, но только не этого.
В глубокой задумчивости Тимофей не заметил, как опустел зал, и воцарилась настороженная тишина, не заметил, как вместе с другими поднялся и вышел Вериго, до этого сидевший в одном из дальних рядов и наблюдавший за ним сочувственным взглядом.
32Суд вернулся из совещательной комнаты, и председатель бесстрастно объявил:
– Военный трибунал принимает к сведению заявление гражданина Петунина. Судебное следствие продолжается. Подсудимый Бурмакин, что вы можете показать по существу предъявленного вам обвинения?
Тимофей приблизился к столу, чеканно, и точно, как в рапорте начальнику военной школы, повторил свои первые показания. А затем прибавил:
– Не признаю обвинения в нанесении тяжкого увечья Петунину. Увечье нанес я Куцеволову, За это и судите. По всей строгости закона. В фальшивой жалости белогвардейского карателя не нуждаюсь. Но я одновременно требую судить его за поголовный расстрел в тысяча девятьсот двадцатом году всех жителей таежного поселка Кирея, чему являюсь свидетелем. Я сам закапывал тела убитых им в мерзлую землю. Среди них была и моя мать.
Председатель трибунала, советуясь, опять наклонился к своим коллегам.
– Подсудимый Бурмакин, отвечайте по существу предъявленных вам обвинений. Ваши встречные обвинения гражданину Петунину, которого вы называете Куцеволовым, суд отклоняет. Личность гражданина Петунина проверена предварительным следствием, и суд ее в данном случае не подвергает сомнению. У вас есть бесспорные доказательства, что перед нами не Петунии, а Куцеволов?
– Есть, – твердо сказал Тимофей. – Я узнал его. И он узнал меня, когда мы встретились в доме у Епифанцева.
– Вы можете назвать и свидетелей, кто это подтвердит?
Тимофей запнулся. Сто раз говорили они об этом с Людмилой. Но нет, не кривя душой, она никак не могла припомнить Куцеволова. И хотя готова была при надобности подтвердить, что тоже узнала его, Тимофей запретил ей делать это. Честность и правдивость превыше всего. Правда и сама пробьет себе дорогу. Да и поверят ли свидетельству жены?
– Таких свидетелей у меня нет. Только я один, – ответил Тимофей.
По залу суда пронесся легкий смех. Его тотчас же строго пресек председатель трибунала. И Тимофей поправился:
– Могу назвать еще свидетеля, кроме себя. – Показал пальцем на Куцеволова. – Все слышали, он сам подтвердил, что первый начал борьбу на рельсах. Но он солгал, что сделал это без побудительных причин. Была причина: он хотел уничтожить единственного свидетеля против него.
Куцеволов печально и словно бы про себя улыбнулся: вот, дескать, как оборачивает этот молодой человек мои добрые побуждения против меня же.
И зал на это отозвался сочувственно.
Но председатель трибунала и тут потребовал спокойствия. А затем объявил, что суд приступает к допросу свидетелей.
33Вызванные первыми милиционер и дежурный помощник военного коменданта вокзала поочередно рассказали об обстоятельствах задержания Бурмакина.
Один из судей настойчиво спросил:
– Почему вы говорите о задержании? Подсудимый сопротивлялся, пытался скрыться?
Милиционер ответил:
– Да нет. Он сам набивался. Дождик тогда матрусил, холодно было, пригородного последнего ждали. На Москву. И я не пошел бы с ним в темень, а к тому же не на дежурстве, гостевал в поселке, а он говорит: «Убил беляка, хотел меня бросить под поезд». Ну и пошли. Никакого сопротивления не было.
Дежурный помощник коменданта попросту извинился за неточность выражения своей мысли. Бурмакин не сопротивлялся и не пытался скрыться, явился добровольно в сопровождении милиционера, а термин «задержание» относится лишь к тому факту, что Бурмакин после этого не был отпущен на свободу.
Епифанцев дотошно описал, каким образом оказалась обнаруженной в товарном вагоне Людмила Рещикова и как он с нею явился в кабинет товарища Петунина, как потом ходил, разыскивал Бурмакина, и как произошла непонятная путаница, когда он направился на службу к товарищу Петунину по его же наказу, а товарищ Петунин, оказывается, наоборот, тем временем поехал к нему.
Свидетели один за другим проходили перед судом. Но все их показания сводились главным образом к тому, кто, когда и при каких обстоятельствах виделся в тот день с Бурмакиным или Петуниным и о чем они тогда говорили.
Но все это не помогало суду прояснить картину ночной схватки на рельсах. Вопрос, насколько правдив в своих показаниях Бурмакин, по-прежнему оставался открытым…
И каждый свидетель к тому же полагал настоятельной необходимостью, кто знал Бурмакина, – дать добрую характеристику Бурмакину; кто знал Петунина – Петунину.
…Все жесткие вопросы обвинителя, обращенные к свидетелям и ставящие своей целью, обосновать предположение, что Тимофей Бурмакин – злой маньяк и что пошел он на преступление, движимый фанатической подозрительностью и жаждой мести, немедленно нейтрализовались защитником, который своими перекрестными вопросами к тем же свидетелям создавал убедительную версию рокового недоразумения, столкнувшего в борьбе двух честных и хороших людей. Но сам Тимофей упрямо отвергал рассуждения защитника.
– Повторяю: никакого недоразумения не было. Куцеволов хотел меня бросить под поезд, а я ему не поддался.
Помощник прокурора, поддерживавший обвинение, пожимал плечами: разве это удивительное упрямство не подтверждает мои предположения?
Сидя в свидетельской комнате, Сворень томился. Вот уже вызваны почти все. Остались только он да незнакомая комсомолка в красной косынке и сапогах. А в какую сторону там, за стеной, клонится стрелка судебных весов, Сворень догадаться все же не мог. И когда, наконец, выкликнули его фамилию, он вздохнул даже с облегчением. Черт, не его же судят, а с Тимкой детей ему не крестить!
Сворень вошел в зал, мгновенно почуял строгость, напряженность, царившую здесь, и уловил, как ему показалось, полное безразличие во взгляде Тимофея. Все ясно: доконали!
Он живо и легко ответил на все предварительные вопросы, подтвердил свои прежние показания. И не вытерпел:
– Думаю, что Бурмакину очень просто все могло примерещиться. Он ведь мистикой разной всегда увлекался, прямо с той поры, как приблудился к нашему полку.
– Мистикой? – немедленно врезался со своим вопросом помощник прокурора. – Прошу уточнить.
– Да он все тетрадки отца жены своей, какого-то белогвардейского капитана, любил читать. А в них одна густая чертовщина, астрология и алхимия. И еще не знаю что, совсем сплошная кабалистика. – Сворень сказал это и покраснел, подумал, что те давние тетрадки он сейчас совсем ни к селу, ни к городу помянул. Захотел немного смягчить сказанное: – И вообще, носился с ненашей философией: «Жизнь… Жизнь… Что такое жизнь? И смерть?» Все из тех тетрадок брал.
– Как давний его друг, вы полагаете, увлечение мистикой могло серьезно отразиться на характере, наклонностях, стремлениях подсудимого?
– Ну, последнее время мы не очень-то дружили с Бурмакиным. А увлечение теми тетрадками как же не повлияло на характер? И вообще, как не повлияло оно, когда Бурмакин даже женился на Людмиле Рещиковой!
И опять Сворень подумал, что, пожалуй, это тоже говорит ни к селу, ни к городу. Но ведь надо дать судьям понять, кто в первую очередь Тимошку довел до беды и кого он, Сворень, теперь никак не может считать его своим другом.
– Подсудимый Бурмакин, вы подтверждаете сказанное?
– Я нахожу унизительным для себя вступать в любые споры со Своренем, – ответил Тимофей. Глаза у него потемнели. – И я прошу привлечь Свореня к ответственности за оскорбление моей жены.
– Вопросов к свидетелю у меня больше нет, – заявил обвинитель. – Все ясно.
Защитник вообще отказался задавать вопросы Свореню, но с торжествующей улыбкой долго записывал что-то в своем блокноте. А Сворень, устроившись на указанном ему месте рядом с Анталовым, даже не повернувшим к нему головы, терзался сомнениями: неужели он все говорил невпопад? И не ужели Тимка выкрутится?
Последнего свидетеля – Анну Губанову – с особым, интересом допрашивал сам председатель военного трибунала, по указанию которого она и была допущена в зал суда. Выслушивая ее ответы, он наклонялся к Анне через стол, насколько это ему удавалось при его прямом, затянутом ремнями корпусе.
– Что же вы имеете сообщить суду, свидетельница, если во время самого происшествия вы находились в Сибири и не знаете лично ни обвиняемого, ни потерпевшего?
– Я знаю лично Людмилу Рещикову, – заявила Анна. – И, не смущаясь тем, что сбоку кто-то хихикнул, твердо продолжала: – А не зная лично Тимофея Бурмакина, я, как секретарь Худоеланской комсомольской ячейки, написала и подписала протокол заседания ячейки, в котором возвела на Бурмакина и на Рещикову поклеп. И эта моя бумага, я знаю, – она пальцем показала на пухлое следственное дело, лежащее на столе перед председателем трибунала, – зашита здесь. Можете привлечь меня к ответственности, если это полагается, за облыжные мои слова в том протоколе, но у себя считайте его недействительным. Запишите это, – потребовала она от секретаря суда. – Обязательно запишите!
Зал оживился. Обменялись недоуменными взглядами обвинитель и защитник. Людмила, вытянувшись, так и замерла.
Председатель трибунала спокойно перелистывал дело. Нашел документ, о котором говорила Анна, среди других бумаг, изъятых из сейфа Анталова. Прочитал.
– Чем же вы, свидетельница, руководствовались тогда, когда писали это, если теперь отказываетесь от всех прежних своих обвинений?
Анна заносчиво подняла подбородок. Ответила резко:
– Чем? А ничем. Злобой! Отца моего тоже в ту пору угнали белые. Погиб он без вести. А ее, подкидыша беляцкого, кулаки приютили. Как стерпеть? Разницы для меня не было: все беляки на одну масть. А еще, как повзрослели мы обе, к Алехе своему люто ревновала Рещикову. Ну и хотела ей досадить побольнее. Сколько просила она приблизить ее к молодежи и к комсомолу, но я кричала всем: «Она чужая!» И не только это. Когда пожар у Голощековых случился, поджог они свалили на Рещикову. – И Анна снова ткнула пальцем в сторону следственного дела. – Об этом тоже пришита у вас бумага. А я тогда утаила от всех, что Рещикова прибегала в наш дом еще до пожара и деду моему Флегонту в переполохе кричала: «Голощековы хлеб в навоз зарывают!» Пишите!
– Вы учитесь на курсах. Мы примем частное определение сообщить в комсомольскую организацию о вашем сегодняшнем заявлении. Оно не украшает ваших прошлых поступков.
– Об этом прошу, – не дрогнув бровью, сказала Анна. – Только на курсы я сама еще раньше написала. И в Центральный наш Комитет комсомола тоже написала. Мне уже объявили строгий выговор.
– Так, хорошо, Губанова. – Председатель трибунала казался сбитым с толку напористостью Анны. – Но какое отношение имеет к делу Бурмакина все, что вы сейчас сказали? А какое отношение имеют к нему эти бумаги, раз здесь они пришиты? – немедленно отрезала Анна. – О человеке они рассказывают. Так я тоже должна рассказать, что Рещикова на кулаков Голощековых батрачила, а вовсе не своя она была у них, и издевались над ней, сколько хотели. Не знаю, был у нее отец офицер, не офицер, молва такая по селу ходила, и я помогала молве, а только Рещикову беляки бросили навылет в грудь простреленную. Отцом своим. Это все знают у нас. И если Бурмакин пожалел ее и за нее боролся, значит у Бурмакина сердце доброе. А я его только здесь в первый раз увидела. Еще скажу. На Кирее поселок весь беляки вырезали, это точно. Ну, а кто это сделал, люди не знают. Одни разговоры. Бурмакин знает по правде. Он вел беляков через тайгу,
– Садитесь, – сказал председатель трибунала. И тут же извинился перед обвинителем. – У вас есть вопрос?
– Почему вы сочли нужным, свидетельница, с вашим заявлением выступить не раньше, а только теперь, на суде? Что вас заставило это сделать?
Анна подергала косынку за концы, туго стягивая узел на затылке, расправила складки гимнастерки под широким солдатским ремнем.
– Совесть комсомольская убила. Сколько же людям зло мое на себе носить? – И первый раз за все время допроса утратила резкость в голосе. – Ну, а потом, тоже ревность сошла с меня, с Алехой мы поженились.
И даже строгий седой председатель трибунала не смог удержаться от улыбки.
Прения сторон были непродолжительны.
Государственный обвинитель настаивал на признании Бурмакина виновным в таких действиях, которые стали причиной тяжелого увечья Петунина. Обосновывая свои выводы и доказывая, что именно само поведение Бурмакина на суде подтвердило, сколь маниакально он упорен в своих подозрениях, мстителен и злобен по характеру, обвинитель охотно и много ссылался на показания Свореня, знавшего Бурмакина больше, чем кто-либо другой. Обвинитель потребовал для Бурмакина пять лет лишения свободы.
Защитник задал суду риторический вопрос: ответьте, есть ли здесь сегодня хотя бы один свидетель обвинения, доказавший вину Бурмакина, кроме самого Бурмакина? Только сам он один осуждает себя, а даже пострадавший его справедливо оправдывает. Так не достаточно ли уже этого самоосуждения? И высмеял Свореня, соотнеся его выступление с выступлением Анны Губановой.
– Нельзя не учесть и горячей, участливой речи Петунина, – дальше сказал защитник. – И если, как заявил пострадавший, «вещественное доказательство» причиненного тяжелого увечья он сам – очевидный факт, то и желание его не усугублять свои страдания страданиями другого – факт тоже очевидный. И заслуживающий уважительного отношения.
Защитник просил, принимая во внимание отличные характеристики подсудимого, применить к нему минимальную меру наказания.
От последнего слова Тимофей отказался:
– Верю в справедливость советского суда. И прошу не принимать во внимание ничего из того, что говорили Куцеволов и мой защитник, ссылаясь на него.
Пока длилось около двух часов совещание трибунала, в зале стояла тишина. Свидетели, друзья Тимофея, тихо перешептывались между собой. Они жалели его: так или иначе, но решетки ему не миновать, если даже защитник не счел возможным попросить оправдания. Да и как оправдывать, когда Петунии действительно искалечен? Людмила горько плакала, и Анна Губанова не могла ее успокоить.
– Любое решение суда, – говорила она, – можно обжаловать.
Но было ясно, что это – обычное в таких случаях утешение.
Тимофей, отведенный конвоем до оглашения приговора в особую комнату, сидел, тяжело сдвинув брови, и повторял про себя: «Пять лет. Пять лет. А что будет с Людой? И где я потом найду Куцеволова?»
Куцеволов ушел сразу же, как только объявили перерыв. Покидая зал судебного заседания, он ласково пожал руку Людмиле и пообещал любую помощь, какая только ей понадобится.
– Ты видела и слышала, милая, всеми силами я старался спасти твоего славного паренька! Но что поделаешь? В нужде, как и раньше, я тебя не оставлю.
Он забыл, что Людмила не могла слышать его речи, произнесенной в то время, когда в зал заседания свидетели еще не были вызваны.
Уходя с омраченным лицом, он внутренне торжествовал. Расчет оказался удивительно верным: благородство его речи всех потрясло, и это, ему в личных характеристиках где-то потом обязательно добрыми строчками впишется. А оправдать Бурмакина невозможно. Вдобавок он и сам к этому отрезал любые пути. Даже защитник не посмел внести такое предложение. Минимальная же мера наказания – это два года тюрьмы, два года надежной изоляции. За эти два года – а может быть, бог даст, и все пять лет? – можно устроить, привести в желанный порядок свои служебные и семейные дела и, главное, выработать умный план, исключающий всякий риск, когда придется окончательно убирать Бурмакина со своей дороги.
Валентина Георгиевна на суде не была. Куцеволов подумал: очень тактично и мудро.
Но как же Валюша, наверно, терзает сейчас телефоны всех своих друзей, пытаясь через них поскорее выведать, чем закончилось дело!