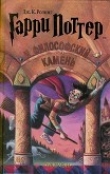Текст книги "Философский камень. Книга 2"
Автор книги: Сергей Сартаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Радость только тогда бывает по-настоящему полная, когда приходит она после трудной полосы в жизни. Только тогда человек назначает ей истинную цену и вволю наслаждается ею, словно первой весенней капелью после вьюжной морозной зимы, словно крепким грозовым ливнем после томящего зноя.
Но и весенняя свежесть, затянись она надолго, либо бесконечные летние ливни тоже очень скоро потеряют свою привлекательность, если не придет им на смену другая погода. Всему своя мера и всему свой черед. Однако ж, как там ни подсчитывай, солнца и тепла человеку все-таки хочется больше, нежели пасмурных дней и морозов.
Иные, возможно, скажут так: пусть лучше жизнь моя течет без особых радостей, но зато не будет в ней и тревог.
Да только лучше ли это?
Мардарий Сидорович с Полиной Осиповной всегда считали себя очень удачливыми. Умели радоваться. А что касается тревог и горестей житейских, без которых, по их соображению, действительно никому не обойтись, то эти горести и тревоги воспринимались просто: куда денешься? Но ни в коем разе не поддаться отчаянию. Перебороть, одолеть. Потом, когда радость придет, а придет обязательно, она светлей и чище покажется.
Самое же главное, ни в чем и никогда не идти против своей совести. Вот тут согрешишь – легко не откупишься. Долго чистой радости тогда не видать. Нет судьи справедливей, нет судьи строже собственной совести.
Именно по велению совести Мешков подал заявление куда следует, что желал бы принять участие в новых стройках. Плотником, столяром.
В вербовочной конторе по вольному найму для военведа за это ухватились: «Такие специальности нам очень нужны!» Тут же заключили договор на три года. И не только с самим Мешковым, а и с женой его. Оформили поварихой. Кормилицы-поилицы на новостройках в особом почете. Мало того, к удовольствию Полины Осиповны, в вербовочной конторе выдали справку, что московская жилплощадь бронируется за ними на весь срок действия договора.
Последнему обстоятельству Мешков сперва не придал особого значения: «А придется ли нам возвращаться?» Полина Осиповна рассудила иначе: «Дают – бери! Будет на случай крыша над головой. Три года пролетят – не заметим. И потом, Москва это все-таки! Ну, а в комнатку нашу пустим Гладышевых. Люди хорошие, надежные. Живут ведь беда как тесно да с детишками». И Мешкову это понравилось. Гладышев Иван Никанорович по работе в Москве был один из самых близких его друзей.
Ехали в приподнятом настроении. Его не испортило даже то, что взамен классного вагона, обещанного речистыми вербовщиками, их поместили в привычную еще по гражданской войне теплушку. Правда на этот раз по-настоящему утепленную. Что поделаешь, очень уж перегруженными шли на восток нечастые пассажирские поезда. Мешков весело посмеялся: «По-солдатски! Дело, можно сказать, родное». Полина Осиповна, думая о другом, вздохнула: «Ехать-то доедем. А вот сойдем с поезда – как будет тогда?»
И оба погрустили только о том, что насчет Тимофея полной ясности нет. В добрую ли сторону его судьба повернется. Знали бы, что окажется все так непросто, потянули бы с оформлением договора и с отъездом.
Какие полагалось, конечно, показания дали. И думали: больше что? Похвалят Тимофея за честность, мужество и пошлют служить командиром роты, как ожидалось, тоже на Дальний Восток. А дело-то запуталось.
– Ах, Тимошка, Тимошка! – без конца в дороге повторяла Полина Осиповна. – Будто свой он мне. Из головы никак нейдет.
– Ничего с ним не случится, Полина, – успокаивал жену Мардарий Сидорович. – Правда – она всегда верх возьмет. На том земля человеческая Держится. Без правды только звери дикие по ней бегали бы.
А Васенину успели еще из Москвы обо всем написать. Сворень долго ерепенился, не хотел адрес комиссара давать – что? зачем? почему? – но Мешков не отступился.
Поднадавить на Свореня помог Никифор Гуськов. Он же пообещал сообщать потом все, какие будут, самые важные новости. По давнему товариществу с Тимофеем. И еще потому, что младший брат Никифора Панфил оказался призванным в пограничные войска для прохождения действительной службы как раз в тех краях, куда поехал Мешков.
К месту назначения эшелон с завербованными рабочими прибыл в красивый солнечный день. Такие по-особому нежнозолотые дни бывают, наверно, только на Дальнем Востоке в пору самой глубокой осени, когда, подчиняясь неотвратимому круговороту природы, во всех иных местах, по географическим широтам равнозначных этому, полагалось бы наступить уже зиме.
Поезд остановился на маленьком разъезде, всего в два рельсовых пути. Третий вел в тупик. Туда и загнали состав.
Исполосованный ржавыми потеками паровоз отцепился и, клацая усталыми поршнями, убежал на ближнюю большую станцию. А прибывшим предложили выгрузиться в течение восьми часов – дольше этого времени никак нельзя было задерживать вагоны.
– Да куда выгружаться-то? – удивилась Полина Осиповна. – Пустые сопки кругом. Как же мы, хотя по самой первости, жить-то будем? Цыгане и то под телегами. А над нами только всего, что небо голубое.
Не одна она удивилась. Другие куда больше того – сразу заговорили на густых басах, принялись сердито махать руками. Совсем не такую картину в Москве рисовали вербовщики. Особенно злил тот пункт в договоре, которым гарантировалось предоставление жилья.
– Выгонять из вагонов не имеют полного права, коли нету даже палаток! – кричали наиболее «тертые калачи», те, которые уже по нескольку раз завербовывались на новые стройки и накопили достаточный опыт, как удирать с них, не приступая к работе, но прикарманив немалые все же подъемные. – Братцы, с места не трогайтесь, давайте немедленно акт составлять!
Но вопреки этим истошным воплям люди все-таки выгружались. Слаженно, деловито. Складывали пожитки свои прямо на голую землю, чуть в стороне от железнодорожного полотна, пропахшего мазутом и угольным шлаком. Беззлобно поругивались. А больше – пересмеивались. Чего же? Одно слово: строитель. Назвался груздем – полезай в кузов. Не то надо было, дома сидеть.
Вдоль эшелона, наблюдая главным образом за выгрузкой казенного имущества, со «шпалой» в малиновых петлицах расхаживал помощник по хозчасти начальника будущей стройки Рекаловский, Все это, включая фамилию помпохоза, людям как-то сразу стало известно.
Рекаловского шум и колготня, казалось, трогали мало. Не впервой на его глазах вот так, посреди пустого поля, выгружается эшелон. Спасибо еще доброй природе, пожалела: не под дождь или жгучую метелицу. А люди, что ж, как и все люди, пошумят – успокоятся. Помаленьку войдут в рабочее настроение, и дело закипит. Ну, а известный процент отсева трусов, лодырей и рвачей все равно неизбежен. Черт! Этот процент мог бы быть иной раз и поменьше, да некоторые вербовщики, негодяи/подводят. Наобещают с три короба…
И все же Рекаловский не выдержал. Когда к нему прицепился какой-то особо настырный «тертый калач» с явным расчетом заклевать, сконфузить военное начальство на штатском народе и спросил после легкого матерного предисловия, знает ли товарищ помпохоз, чем отличается курица от велосипедиста, Рекаловский не смутился. Постучал пальцем в грудь «тертому калачу», ответил:
– Знаю, конечно. – И точненько объяснил. – Понимаю, мил-человек, к чему ты и загадку эту мне загадал. Но теперь и ты мне ответь, что сперва на свет появилось – курица или яйцо?
«Тертый калач» презрительно хмыкнул, небрежно повел плечами, открыл было рот и вдруг забегал растерянным взглядом туда и сюда, чувствуя, что «горит» в общественном мнении, не находя быстрого и ловкого, а главное, разящего ответа.
Послышались обидные для него смешки. А Рекаловский совсем уже безжалостно добавил:
– Тогда даю тебе вопрос полегче. Что появилось прежде в чистом поле: дом или строитель этого дома?
И пошел, полностью завоевав к себе симпатии столпившихся вокруг него людей.
Эти слова Рекаловского потом с удовольствием не раз повторял Мардарий Сидорович.
И когда в тот же вечер все дружно принялись копать землянки, выстилать в них полы ветками орешника, а из жердинок потолще и пластов дерна, нарезанного в низинке, сооружать кровли над головой.
И когда через недельку подвезли на товарных платформах толстенные сосновые доски, из которых можно было сколотить уже совершенно шикарные двери; привезли несколько ящиков зеленоватого оконного стекла, железные печи с коленчатыми трубами.
И потом, когда поодаль от разъезда всю зиму долбили стылую, переплетенную корнями землю, готовили глубокие котлованы под фундаменты будущих казарм военного городка. Со времени маньчжуро-чжалайнорских боев и конфликта на ВЖД восточные наши границы не переставали все же находиться в опасности, то и дело в разных местах подвергались набегам черт знает кем и из кого сколоченных банд, за которыми наготове – только бы дождаться подходящего повода – зловещей тенью нависала японская армия.
И даже когда наконец три года спустя он, Мардарий Мешков, протравил фуксином и отполировал последнюю рейку для Доски почета отличников боевой подготовки, торжественно установленной в дивизионном клубе к приезду товарища Блюхера, командующего Особой Краснознаменной Дальневосточной Армией, и тем самым как бы поставил завершающую точку в конце большой, труднейшей работы, проделанной строителями за непостижимо все же короткое время.
Мардарий Сидорович, повторяя пришедшиеся ему по душе слова Рекаловского, думал: «И верно ведь, не кто другой; как строитель, не начинает вот так, с ничего, с голого места, а закончит – стоит потом постройка у всех на виду, будто от самого веку она здесь стояла».
4Наступала пора за истечением срока договора возвращаться в Москву. Либо перебираться на новое место.
Основные строители – землекопы, каменщики, плотники и. отделочники, за три года вообще-то в значительной части сменившиеся здесь не единожды, словно вода в ручейке, – теперь законно уезжали десятками. Мешков был мастером более тонкой и редкой специальности – столяр, мебельщик, отлично поднабивший руку даже на краснодеревных работах. Такие мастера желанны везде. Как поступить?
Полина Осиповна иногда, как бы вскользь, поговаривала о Москве. Впрочем, не очень решительно. Было и для нее в здешней хлопотной, трудной жизни что-то свое, привлекательное, словно бы цена человеческая здесь для каждого намного прибавилась, словно бы, если отсюда уехать-хоть на малую долю без нее и без ее Дариньки, а победнее все же станет Дальний Восток. И даже так: оттого победнее, что не сами по себе они оба какая-то там драгоценность, а драгоценен тот труд их, земле этой очень необходимый, какой они могли бы вложить, да не вложат.
Рекаловский, между прочим, тоже остался в отстроенном городке, куда незамедлительно вступила и расквартировалась вновь образованная дивизия. Говорили, что похлопотал об этом сам комдив, с которым Рекаловский был в давних дружеских отношениях, и комдиву хотелось иметь в своей части образцового помпохоза. А уж Рекаловский в хозяйственных делах действительно был неподражаем и недосягаем.
При этом он никогда, в худом смысле, не жульничал, как такое случается частенько с людьми, обязанными по долгу службы и для служебных надобностей добывать дефицитнейшие материалы. Тем более не жульничал он ради собственных выгод, хотя любил и пофорсить в новеньком обмундировании, и вкусно поесть, и доставить хорошим подарком радость жене. В чем-то ему просто везло, в чем-то выручали бесчисленные приятельские связи, а где не было связей, – удивительное личное обаяние. Поговорит ненадоедливо, с неотразимо-убеждающими интонациями в голосе, улыбнется именно в тот самый момент, когда улыбка становится силой, расскажет ловко отточенный и посоленный в меру, по характеру своего собеседника анекдот, глядишь – и дело сделано.
Пожалуй, не кто иной, а именно Рекаловский подобрал ключи к сердцу Мешкова, убеждая его остаться.
– Мил-человек, – сказал он ему, – да теперь ты хотя и гражданский, по вольному найму, но все равно корнями своими наш брат, военный, с полным пониманием боевых задач и с полным же – учти это – расположением к тебе со стороны командования. Ну, а захочешь-таки на новую стройку пойти, в два счета с любым начальством договорюсь, и отправим мы тебя туда с должным почетом. А пока давай строгай, клей, крась, полируй и прочее, соответственно назначению мебели, твоему умению и вкусу и соответственно – тоже это учти – моим обязательным указаниям. О Москве же забудь. Не для Москвы родила тебя мама!
Мешков согласился с доводами Рекаловского. Перейти на другую стройку действительно можно в любой момент, а покидать здесь новые помещения, не обставив их новой же мебелью и все-таки не из-под топора, как потом по неумелости своей могут сделать другие, было для Мардария Сидоровича ну просто невыносимо. Затрагивалась профессиональная рабочая честь.
Рекаловский уговорил и Полину Осиповну. Ей он предложил поработать старшей поварихой в комсоставской столовой. Слава о ее кашеварском таланте с первых дней разлетелась среди строителей, слава, пожалуй, еще более звонкая, чем о плотницко-столярных способностях самого Мешкова. Попробуй-ка приготовить вкусную пищу по большей части из картошки да из картошки, да на рыжиковом масле – «олифе», да из бочечной солонины либо ржавой селедки, да из «шрапнели» – перловой крупы! Другие повара не могли, а Полина Осиповна могла.
Секрет же мастерства, помимо, бесспорно, золотых ее рук, частично заключался и в следующем. Другие столовки остатки пищи, кухонные отходы – все выбрасывали в помойные ямы, которые потом заливались хлоркой. Полина Осиповна в своем хозяйстве объедки сортировала. И что получше – в ведра. А потом на коромысле, иногда в два-три захода, относила жене начальника разъезда, с которой быстро сдружилась и – сказалась у обеих прежняя крестьянская сноровка – завела на паях корову, гусей, поросят.
Иная в этом отыскала бы для себя существенную личную выгоду. Полина Осиповна всю свою часть дохода полностью отдавала в столовую. И, немного хитря, в сговоре со своими помощницами, не разбалтывая на сторону секретов, заправляла супы мучкой, поджаренной уже на коровьем масле или сметане, в картошку к умело вымоченной солонине добавляла «для запаха» свежей свининки или гусятины.
Единственно, в чем грешна была она, – это Дариньке дорогому, когда тот появлялся в столовой, отбирала самый лакомый кусочек.
Толкнулась она как-то к прямому своему начальству с соображениями насчет большого подсобного хозяйства – и с огородами и с молочным стадом, – отклонили. Ни средств для этого нет, ни земли подходящей. Да и вообще на военной стройке стоит ли такую канитель разводить? Перебьемся, дескать, на плановом снабжении.
Так и осталась Полина Осиповна лишь при своем союзе с женой начальника разъезда, чего, ей намекнули, делать бы тоже не следовало.
А Рекаловский ее поддержал. Даже при той разнице в наборе продуктов, которыми теперь в комсоставской столовой располагала Полина Осиповна, он сказал ей: «Хвалю! Умница! Свежинку-то настоящую разве можно чем заменить? Продукт скоропортящийся, он беда как складов не любит. Действуй, как было! Отчет только передо мной будешь держать. Ну и перед совестью своей, разумеется. Знаю, этот контролер у тебя самый надежный».
Комсостав, накормленный вкусно и сытно, нахваливал столовую, поваров, нахваливал персонально Полину Осиповну и, естественно, помпохоза Рекаловского.
Словом, каких-либо очень серьезных причин сетовать на жизнь у Мешковых не было. Тем более при обычном их правиле не поддаваться плохому настроению.
И в самом деле. Из землянки они перебрались в общежитие – длинный барак, уже на следующую весну по приезде на Дальний Восток. Семейным отделили в бараке особый угол. Каждый мог там, на «своей» площади, благоустраиваться, как хотел: занавешиваться от соседей одеялами, кусками толя, украшать стеньг картинками из журналов. Правда, зимой было немного угарно от бурого угля, малопригодного для топки железных печей, но зато уж теплым-тепло. Покусывали блохи, борьба с которыми при земляных полах оказывалась бесполезной. Однако бывалые строители даже заносчиво хвастались: «Блохи – что: семечки! К примеру, в тайге на гнусе работать, комар, мошка, паут – вот это да!» Гнуса на Дальнем Востоке у границы с Маньчжоу-Го не было.
Впрочем, все-таки был один гнус, которого строители и местные жители в маленьких поселках побаивались основательно, – это налетчицкие группки, открыто ли вооруженные или замаскированные под переносчиков контрабанды, но, так или иначе, а частенько все же проникавшие из-за рубежа вглубь советской территории. Уже в сумерках становилось небезопасным входить в орешники, полонившие сопки вокруг строительства. Случалось, что оттуда, из орешников, даже и белым днем прилетали визгливые пули, дятлами долбили стены прямо под руками у каменщиков. Редкая цепочка погранзастав была не в состоянии наглухо закрыть все щели, по которым просачивалась разная шваль.
Бандитские группы, конечно, вылавливались довольно быстро, если не успевали удрать восвояси. Пограничникам охотно помогало все окрестное население. Но когда после каждого такого инцидента японской стороне заявлялся протест, этот протест витиевато-вежливо отклонялся. Командование японской императорской армии высокомерно не принимало на себя ответственности «за самочинные действия некоторых военнослужащих независимой державы Маньчжоу-Го, тем более за патриотические порывы русских эмигрантов».
И было понятно, что это все пробы, дипломатические пробы за долготерпение Советского правительства и еще – чисто военные пробы на испытание подлинной силы Красной Армии. Тайный меморандум барона Танака «Об основной политике в отношении Китая», предусматривавший бессрочную оккупацию Маньчжурии и Монголии и закулисное управление ими через своих подставных лиц вроде безвольного и туповатого Пу И, последнего китайского императора, провозглашенного теперь правителем Маньчжоу-Го, имел, кроме того, и прямо не названную, но совершенно явную цель: закрепившись твердо одной ногой на северо-востоке Китая, другой ногой сызнова наступить на советский Дальний Восток и Забайкалье. Будто не было позорного провала авантюры двадцатых годов, будто в тридцатые годы Советская власть и Красная Армия стали слабее.
Секретный меморандум японского премьера вскоре перестал быть тайной. И хотя о бароне Танака кочевали бесчисленные хлестко-соленые анекдоты, его нескладная фигурка была излюбленной темой для политических карикатур, а лекторами– международниками сообщения телеграфного агентства «Симбун ренго» приводились в шутливом, ироническом тоне, как пример беспардонного сплетения ловкой лжи, хвастовства и неприкрытых угроз, все сознавали отчетливо: Танака в мировой политике величина весьма крупная, линию свою он проводит последовательно, упрямо, а стало быть, порох надо держать сухим.
Поэтому каждый вновь построенный заслон вызывал раздражение «там», по ту сторону, и создавал отличное настроение здесь. Что такое японо-американская интервенция, местному населению хорошо еще помнилось. Оттого человек в красноармейской шинели и вообще всякий, кто был прямо причастен к военному строительству в приграничном районе, пользовался особым уважением. А это вызывало ответное чувство гордости: не подведем!
Получив справку об увольнении со строительства за окончанием работ и выписку из приказа Рекаловского о зачислении в штат хозяйственной части по, вольному найму, Мешков, как ни был подготовлен к этому, вдруг испытал острое ощущение личной своей неполноценности. Одно дело – строитель, другое – столяр «при» дивизии. Конечно, работа его и здесь была столь же нужна и полезна, как прежде, а вот сам он становился вроде не тот, словно бы по жизни своей спустился на ступеньку ниже. Словно бы одряхлел, словно бы у него зубы выкрошились… А Полина Осиповна любовалась выданным ему новеньким обмундированием, гимнастеркой со споротыми петлицами: «Даринька, ты настоящий кавалерист! Тебе бы еще лошадь с седлом». Мешков, ласково поглаживая плечи жены, добавлял: «И торбу с овсом». Ему вспоминались годы, когда он где– то в этих же краях по иному праву носил шинель бойца. А из той шинели, по совести, не выкроить бы и пары добрых портянок, настолько она была дыровата. И все-таки хорошее было то время!
Необыкновенную радость Мешкову доставляли встречи со своим комиссаром Васениным. За эти годы было их две. Первый раз во Владивостоке, куда Мардарий Сидорович съездил специально с тем, чтобы в подробностях рассказать комиссару все, что знал об истории, приключившейся с Тимофеем. А второй раз Васенин и сам здесь побывал, сопровождая командарма Блюхера.
Приятно было поразговаривать и с Панфилом, младшим братом Никифора Гуськова. К нему на пограничную заставу Мешков ездил частенько. Новостройка шефствовала над этой заставой, и естественно, что в шефскую бригаду обязательно включали хорошего столяра. Мешков что-нибудь мастерил, а Панфил, если в ту пору не был в наряде по охране границы, помогал ему.
В Панфиле Мешкову виделась и собственная солдатская юность, когда в девятьсот четвертом году среди таких же сопок дрался с японцами, и юность другая – Тимофея Бурмакина, Володи Свореня, с которыми сам он, уже отяжелевшими ногами, сызнова отшагал здесь еще раз в жестоком походе против белогвардейщины.