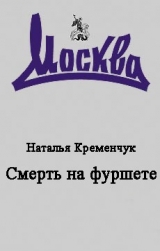
Текст книги "Смерть на фуршете"
Автор книги: Сергей Дмитренко
Соавторы: Наталья Кременчук
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Мидас при «Парнасе»
И Воля рассказал историю, в которой, как оказалось, была заплетена не только творческая судьба Горчаковского, но отчасти и его собственная. Если не литературная, то редакторская.
Как множество российских издательств, «Парнас» возник в начале девяностых. Его создателем и бессменным владельцем стал Донат Авессаломович Камельковский, в советское время – директор одной из подмосковных типографий, где печатались книги могучего издательства «Советский писатель». Молодой тогда пенсионер Камельковский, не бедствовавший и при коммунистическом правлении, вдруг открыл, что его давно реализовавшийся талант извлекать максимум личного дохода при минимуме собственных издержек называется менеджер.
В течение нескольких лет, успев до дефолта, он превратил учрежденное им и поначалу хилое агентство, бравшееся за изготовление любой печатной продукции, в крупное издательство, выпускавшее справочники, собрания сочинений, серии детективов и фантастики, любовные романы и молодежные триллеры. Ему удалось оставаться в боевых порядках вплоть до кризиса 2008-го.
Вся литературная Москва знала «Парнас» Камельковского, и, кажется, не было здесь никого, кто хотя бы раз не имел с ним дело. Его улыбку добродушного крокодила из сказок Чуковского, его бережные объятия с неизменной, как бы шутливой присказкой: «Давай-ка я тебя обману!» – на всю жизнь запомнили десятки прозаиков и публицистов, литературных критиков и филологов, историков и театроведов, обозревателей и журналистов-международников, всякого рода литературных поденщиков, которых все чаще, не обращая внимания на предписания толерантности и политкорректности, зовут литературными неграми…
По словам Воли выходило, что этот организатор литературного процесса брал тем, что сразу со всеми заключал договор под пристойное роялти, давал аванс, хотя и микроскопический, но незамедлительно, книгу выпускал, тут же вместе с авторскими экземплярами вручал лицензиару(Камельковский любил юридически обездвиживающие словечки) базовый гонорар, столь же сиротский, но уже под будущие продажи… и на этом… На этом финансовые отношения между Камельковским и автором под разными предлогами и по множеству оснований заканчивались навсегда.
Эта бесстыдная скупость удивительным образом сочеталась с неукротимым сластолюбием Камельковского. Хотя здесь он тоже нашел наивыгоднейший вариант: его джунгли страсти всегда совпадали с местом работы. Прежде это были типографские, а затем издательские работницы, подпавшие под его начало.
Рассказ Воли был живописен, со многими подробностями.
Оживленно вставлял реплики Трешнев, и Ласов тоже вспомнил забавные факты вулканической деятельности Камельковского. Правда, Ксения никак не могла взять в толк, какое отношение имеет эта предыстория к убийству Горчаковского, но благоразумно помалкивала.
Разумеется, были у Доната Авессаломовича не только успехи, но и провалы. Главным его успехом была встреча с юристом Карлом Тихорецким, в семидесятые годы покинувшим СССР, но, когда стало можно, навестившим историческую родину, чтобы повидаться с детьми от первой и второй жен. На чужбине бывший работник прокуратуры и адвокатуры предавался писанию мемуаров о своей многообразной правоохранительной деятельности, а потом и детективов. Наблюдая за событиями в новой России, понял, что его сочинения могут найти применение. Притащил чемодан своей тогда еще машинописи к Камельковскому, знакомому ему по каким-то хозяйственно-уголовным делам советского времени.
У одного была фактура, у другого – хватка. Камельковский увидел, что принесенное ему совсем не безнадежно, однако нуждается в серьезной литературной обработке, и быстро нашел Тихорецкому соавтора – Роберта Пухова, журналиста, много лет специализировавшегося на литературной записи генеральских и чиновничьих мемуаров.
Первый роман-детектив о позднебрежневско-андроповских временах вышел под двумя фамилиями – Тихорецкий, Пухов– и был мгновенно раскуплен.
Во втором детективе, о периоде Андропова – Черненко, на обложке значилось: Пухов, Тихорецкий– эта рокировка отражала внутрииздательскую борьбу. Однако Пухов справедливо потребовал не просто подчеркнуть свой литературный приоритет, но и перераспределить гонорар в свою пользу. Что в глазах Камельковского, воспринимавшего себя как благодетеля-кормильца всех московских литераторов, выглядело разбойным нападением со взломом и стрельбой. С проклятиями и посыпаниями себя пеплом праведного гнева, недолго думая, он Пухова изгнал, а взамен залучил к себе бывшего редактора в прошлом всесильного «Воениздата», глубоко, но размеренно пьющего полковника запаса Валерия Нечетина. И работа закипела.
Давно известную систему литературного рабства Камельковский усовершенствовал применительно к новым условиям. Вместе с чемоданом Тихорецкого и Нечетиным он заперся у себя на даче, и в течение нескольких дней полковник-беллетрист, находясь на голодном алкогольном пайке, подготовил синопсисы двенадцати детективных романов о советском, а потом постсоветском прокуроре.
«У нас народ юридически безграмотный, законов не знает, так что дадим им ликбез и детектив в одном флаконе», – прозорливо решил Камельковский. Теперь надо было подобрать двенадцать поденщиков, чтобы они в течение месяца написали эти романы. Большего срока нетерпеливый Донат Авессаломович не давал и даже, для стимуляции, был готов несколько увеличить свои выплаты. Правда, чуть позже он пришел и вовсе к соломонову решению: разделил по-прежнему утлый аванс на три части, каждую из которых выдавал «негру» только после предъявления уже написанных глав.
Жаждущих литературной поденщины в голодные девяностые годы было в предостатке. Обаятельный и общительный пьянчуга Нечетин даже смог создать между ними обстановку конкурентного соперничества…
И дело пошло без сбоев, как фордовский конвейер. Нечетин был координатором-тамбурмажором, Тихорецкому отводилась роль юридического редактора – он следил за тем, чтобы в текстах не было профессиональных ляпов. А Камельковский, о чем Нечетин однажды рассказал Воле, несколько недель ходил, от гордости надувшись как индюк, потоптавший стадо индеек: он придумал название всего цикла детективов.
– «Прощение Славянского»! – завопил Камельковский однажды на рассвете, до полусмерти перепугав заведующую редакцией, мирно отдыхавшую в его постели после любовных услуг, накануне оказанных ею неистовому начальнику.
Не обращая внимания на ее возмущенные стенания, Камельковский тут же стал звонить Нечетину и едва не разбил телефонную трубку о стену, когда ответа не последовало (эпоха мобильной связи еще не наступила).
Но разысканному в конце концов тамбурмажору поначалу заглавие не понравилось.
– Банальная игра слов! – эстетски заявил Валерий Юрьевич, опохмелочно отхлебывая водку «Jelzin» из маленькой жестяной банки и закусывая чизбургером.
Камельковский стал попросту орать:
– А мне не нужны Пушкины и Гоголи! Я не собираюсь кормить читателей фуа-гра и хамоном! (Незадолго до этого у себя в «Парнасе» он выпустил справочник «Европейские деликатесы»). – Народ объелся зарубежным детективом! Ему нужен наш, милицейский детектив, только современный, ментовский! Место встречи изменить нельзя! И мы ему такой детектив дадим!
– А название должно быть… – начал Нечетин, продолжая жевать чизбургер, но Камельковский вновь его перебил. Надо заметить, наряду со скупостью и блудоманией он был в полной мере наделен страстью к громогласным истерикам и виртуозно режиссировал собственное их исполнение. – Название должно быть! И точка. Они схавают российский детектив про сегодня под любым названием так же, как ты сейчас хаваешь этот бургер, после которого на самом деле желудок и кишки попросту надо выбросить на помойку!
Удостоверившись, что он окончательно испортил Нечетину аппетит и настроение, Камельковский успокоился и пояснил примирительно:
– Это не банальная игра слов, а возбуждение у покупателей наших книг нужных нам ассоциаций. «Прощание славянки» все знали даже в советское время, а теперь подавно знают. И вот они читают: «Прощение Славянского» и думают: что это такое?! А перед ними стоит не один – сразу двенадцать романов этой серии, притом еще и у каждого романа свое заглавие… Вот здесь можешь изгаляться как угодно, сноб ты мой эстетский! Но только так, чтобы каждое заглавие – это я тебе говорю, каждое! – сквозило кровью, сексом или коррупцией…
– И кто же будет этот Славянский? – не сдавался Нечетин. – Ведь мы всё раскручивали под другого главного персонажа, под Шахнецкого. Он уже прописался в первых, соавторских романах Тихорецкого – Пухова, читатель к нему присмотрелся, может, он читателю даже полюбился…
– Шахнецкого, Тихорецкого, Турецкого… – Камельковский вновь начал заводиться. – Отредактируем. Перепишем Шахнецкого на Славянского. Но и Шахнецкого не забудем. Найдем ему коллизии – работа предстоит долгая… – И Камельковский вновь стал убеждать Нечетина и себя самого в лучезарности названия своего проекта. – Представь, такое название отразит неизбывные терзания главного героя. С одной стороны, он, глубоко понимая человеческую природу, имея адвокатский опыт, будет находить какие-то доводы, объясняющие деяния преступников, может быть, даже в чем-то оправдывать их, с другой стороны, как прокурор, он всегда будет твердо защищать дух и букву закона, стоять на страже прав потерпевших и пострадавших…
– Может, тогда сделаем не прокурора, а прокуроршу… – начал творчески отступать Нечетин. – «Прощение Славянской»… Тоже хорошо звучит.
Камельковский было задумался, устремил взгляд вдаль, глаза его потеплели и даже увлажнились… Но вдруг он вскинулся и почти выкрикнул:
– Нет! Бабу не надо! Не потянет. Запутается в мужиках, а нам надо – детектив!
Старый мошенник оказался прав.
Уже через два года книжный сериал «Прощение Славянского» бил рекорды по тиражам, а «Парнас» переехал из полутемного полуподвала, впрочем, удобного для шашней Камельковского, в особняк разорившегося, а некогда могучего издательства «Российская республика», где по распоряжению Авессаломыча при его кабинете незамедлительно оборудовали комнату отдыха с душем и туалетом…
– Так! – Борька, прежде молчавший, воспользовался тем, что Воля решил освежить пересохшее от воспоминаний горло соком, и взял слово. – Это все очень интересно, и, скорее всего, мы к этой истории еще каким-то образом вернемся. Но, к сожалению, у вас – у нас не так много времени. Хочу все же перевести разговор в конкретную плоскость. Как я понял, этот Камельковский организовал, так сказать, на своем «Парнасе» целое предприятие по изготовлению суррогатной литературы, в котором заняты десятки писателей, журналистов и ученых…
– У него даже учителя литературы в проекте пахали, – вставил Воля. – И неплохо получалось. Нечетин с бездарями никогда не работал. Настоящий полковник.
– И теперь этим макулатурным суррогатом завалены и магазины, и читатели… – продолжал Борька. – Но вы, Владимир, говорили и о провалах Камельковского. Как они связаны и с успехами его, и с нашим делом?
– Думаю, очень связаны. Во-первых, когда другие новые издатели увидели, как здорово модель Авессаломыча выкачивает деньги из карманов читателей, они тоже стали изготавливать продукцию артельным методом и разливать в яркую тару свои литературные помои. Началась конкуренция, появились какие-то клоны Славянского… Потом – все помнят, как трясло страну экономически, – это тоже доходы не увеличивало. А еще Камельковский, вместо того чтобы модернизировать свою типографию, взял да и продал ее… или еще что-то… в общем, остался без полиграфической базы. Но это полбеды. Книгу надо не только издать. Главное – ее продать, найти распространителя. Здесь он поначалу заключил договор с одним из наших гигантов – издательским домом «СТАН». Вначале «Парнас» сдавал «становской» службе распространения свои тиражи, а потом как-то потихоньку «СТАН» и печать взял на себя, а «Парнас» только изготавливал оригинал-макеты…
– То есть стал от «СТАНа» полностью зависим!
– Конечно же! И это понимали все, кроме Авессаломыча. Он, правда, предпринимал попытки сотрудничества с другими издательствами, но никому, кроме «СТАНа», его оригинал-макеты были не нужны. Все крутились сами…
– А почему они были нужны «СТАНу»?
– Ну, все же то, что гнал «Парнас», было разнообразным по тематике и жанрам. Не обошлось и без инерции… И то сказать: Авессаломыч действительно наделен нюхом на быстрые деньги и на книжные запросы. Не хватало путеводителей – он выпускал путеводители. Пошел по телевизору сериал по какой-нибудь классике – так порой до его окончания в книжных магазинах уже лежали эти классические романы в «парнасском» издании… Только начали глушить школу Единым государственным экзаменом – а «Парнас» уже готовит оригинал-макеты шпаргалок по ЕГЭ, как раньше выпускал сборники «золотых сочинений» и пересказов произведений школьной программы…
– А учителя литературы покушений на этого просветителя не организовывали?! – серьезно спросил подполковник юстиции, пребывавший, правда, в штатском.
– Вам лучше знать… Разумеется, не организовывали. Я же говорю: кое-кто из учителей тоже участвовал в производстве «парнасской» макулатуры… И я тоже засветился…
– И мы, – спокойно подтвердил Трешнев в сопровождении легкого кивка президента Академии фуршетов. – Без вины виноватые. Но и со «СТАНом» у Камельковского начались скандалы, ибо он решил, что ему по договорам с продаж недоплачивают. Благодаря публичным истерикам Камельковского об этом все знали. Это и в прессу просачивалось.
– Он всегда много судился, – продолжил Воля, – но в последние годы его юристы, кажется, из судов не вылезают. Все ему должны, все его обманывают. Вступил в эпоху старческого маразма!
– Но с Горчаковским-то его правда кинули! – сказал Ласов.
– Не согласен, – возразил Караванов. – Игорь ему в рабство не продавался и мог сам выбирать издательство. Зачем ему Камельковский в виде посредника, если можно работать с «Бестером» напрямую?!
– Но все-таки раскрутил его именно Камельковский!
– И что? Сидеть при молодых зубах на манной каше без масла у Авессаломыча?
– Стоп, стоп… – замахал руками Борька. – Опять вас понесло в романистику! Покороче, пожалуйста. Камельковский нашел Горчаковского и стал его раскручивать… Так?
– Не совсем так. – Воля явно был не расположен уходить от этого стола с легкими и приятными, по жаре, яствами и напитками. – Бригадное изготовление «Прощения Славянского» и новых детективных и фантастических самострочных серий Камельковский считал главным источником своего дохода. Да так оно и было. Однако он обнаружил, что есть голод и на другую литературу, то есть новую, современную литературу, не только зарубежную (с авторскими правами наш жлоб возиться не хотел), но и русскую. Заметил, что в России полно литературных премий…
– По недавним подсчетам известного историка современной литературы Сергея Чупринина, в нашей стране их, то есть литературных премий, пятьсот семьдесят девять… – вставил Трешнев.
– Ого! – воскликнул Борька, забивая число в свой ноутбук.
– В пересчете на фуршеты – более чем полтора фуршета в день, – оптимистически проговорил Воля.
– Однако крупных, весомых, заметных не так уж много… – вероятно, Трешнев был куда более реалистичен.
Как педантизм и раздолбайство сочетаются в этом человеке?! Ксения пребывала в полном остолбенении.
– И все же, – заговорил Ласов, высказывая свое особое мнение, – процедуры по присуждению заметного числа премий сопровождаются фуршетами.
– К счастью, кажется, в целом без кровавых последствий! – по-своему оценил информацию Борька. – И что извлек для себя из этого премиального марафона Камельковский?
– Естественно, решил погреться на нем и придумал серию «Литературные лауреаты». То есть вновь запустил и возглавил процесс – еще до того, как наши издательские гиганты расчухали выгоды в том, чтобы иметь при себе громкие премии. Издавать тех лауреатов, которых они сами и сделали…
– Горчаковский! – уже нетерпеливо потребовал подполковник Томильцев.
– Камельковский отдал приказ искать лауреатов, и его редакторы начали… Одна из них, Марина Сухорядова, наткнулась на рассказ Горчаковского, только что получивший премию «Лучший русский рассказ года».
– По версии Евросоюза, – добавил Ласов.
– Эту премию раскручивали какие-то наши новые иммигранты, живущие в Германии и получившие там деньги от какого-то благотворительного фонда… По-моему, беспримесные авантюристы. Все дело было связано с европейской отмывкой российских денег, где-то здесь уворованных… В итоге издавали – типография в Италии – рассказ лауреата на всех языках стран Евросоюза, ну и на русском, конечно… Через пару лет премия благополучно накрылась, но Горчаковский был первым лауреатом, а в следующем году получил уже две российские литературные премии – «Библиотечную» и «Рассказчик»… Там тоже было много интересного в процедурах присуждения, но получил он… – Воля с некоторым ошеломлением посмотрел на Борьку: не слишком ли он вдается в литературные обстоятельства? – и зачастил: – Марина Сухорядова среди других принесла его премированные сочинения Камельковскому, тот прочитал, был не в восторге, но тут же придумал антологию премированных рассказов «Жнецы лавров»… О ней много писали, был даже литературный скандал. Туда, помимо обычных рассказов, попали лауреаты маргинальных конкурсов: лесбийской прозы, психоделических сочинений и «Трехэтажной премии», вручаемой, если вы не знаете, за виртуозное владение матом в письменной речи. Но Горчаковскому повезло особенно. По недосмотру под его фамилией напечатали именно лесбийский рассказ, а его сочинение – под фамилией розовой лауреатки… Естественно, после каскада правомерных в данном случае истерик Камельковский Сухорядову из «Парнаса» изгнал, хотя она потом и устно, и печатно не раз заявляла, что ее подставили… Я не слишком подробен? – озабоченно спросил Воля у Бориса.
– Можете прибавить деталей, – поощряюще сказал тот. – И где теперь эта Сухорядова?
– Заведует редакцией серийной литературы в «Бестере», – ответил Воля. – Они ценят способные кадры, тем более прошедшие выучку у Камельковского. Этот скандал пришелся на руку всем. Камельковский, хотя громогласно орал и всех увольнял, под шумок напечатал несколько левых тиражей – и всё ушло! Сообщество перекошенных в сексе хватается за любой пиар. А Горчаковский, попавший в лучи скандала, встал в позу оскорбленной невинности, что не мешало ему раздавать интервью направо и налево, по всему спектру периодических изданий…
– Он, кажется, даже засветился в журнале для педерастов… – басом сказал Трешнев.
– Я не читал, – кротко и не без юмористической интонации парировал Воля. – Будь политкорректен, Андрюша. Это теперь называется гей-литература.
– Клал я на эту толерантность! – Трешнев пошарил по столу взглядом, будто надеясь увидеть сосуд с чем-то горячительным. – Содомиты они и есть содомиты, как бы ни старался перевести меня на иную оптику голубая звезда Серебряного века Михаил Алексеевич Кузмин.
– Так или иначе, Игорь Горчаковский потребовал от Камельковского моральной компенсации, и тот выпустил его сборник, а потом и роман, правда, ловко связав их издание со скандалом и на этом основании успешно впарив сочинения Горчаковского ошеломленному читателю. Но издать-то он издал, а с гонораром Игоря кинул… Поэтому неудивительно, что Горчаковский – это было несколько лет назад – плавно утек в «Бестер». Думаю, что не без консультативного участия Марины Сухорядовой…
– Здорово! Но Камельковский, наверное, этому не порадовался…
– Ну, что вы! Орал повсюду, что Игорь его разорил, что он графоман, бездарь, обманщик! А потом вдруг начал судиться с «Бестером» за то, что они издали горчаковский роман…
У Борьки зазвонил мобильный телефон.
Он коротко поговорил и развел руками, выключая ноутбук.
– Убегаю без оглядки! Начальство вызывает по делу Горчаковского. В администрации премьера требуют доклад… Я вот о чем вас попрошу. После этого сумасшедшего вечера я стал читать эту самую «Радужную стерлядь». Вы-то все, наверное, кроме Ксении, его конечно же давно прочли. Ну, тогда перечитайте… Экземпляры вот они. Хотелось бы обсудить. – Борька вытащил из стола толстые книги в ярких переплетах. – Всем позвоню обязательно. Служба!
Исчез за дверью.
– Твой родственник слишком хорошо о нас думает, – угрюмо сказал Трешнев, пробуя на вес «Радужную стерлядь». – Такое мы читаем только под заказ. То есть небезвозмездно.
– Ну почему, – возразил Караванов. – Будь здесь Георгий Орестович Беркутов, он бы взял не только свой экземпляр, но и у нас бы выпросил, а также потребовал, чтобы ему предоставили для полноты мониторинга все романы, вошедшие не только в шорт-, но и в лонг-лист.
– И, между прочим, был бы прав, – вдруг согласился Трешнев. – Я не раз слышал, что самая сильная книга в шорт-листе – роман Абарбарова. И даже фактура сочинения старика Реброва легко побивает болтовню остальных его соперников. Хотя в советское время он никогда не попадал в ряд крупных стилистов. Брал темой, попытками честно рассказать о войне…
Ксения, вспомнив о работе, засобиралась, и Трешнев устремился за ней.
В большом лифте пресс-центра с ним поздоровался высокий бородач. При этом его лицо было озарено щедрой улыбкой, которую у нас обычно называют американской.
Трешнев суховато ответил, но это не произвело на бородача впечатления.
Продолжая улыбаться со всей возможной доброжелательностью, бородач стал расспрашивать о происшедшем на «Норрке».
– А вы разве там не были? – удивился Трешнев.
– Увы, не удалось. Смотрел в Интернете.
– Ну, тогда вы знаете больше нас! – обрадованно сказал Трешнев, тем более что лифт остановился на первом этаже.
– Нам по пути? – спросил бородач, от приторной улыбки которого Ксению уже начинало мутить, как от гематогена в раннем детстве. – Представьте меня, Андрей Филиппович, вашей спутнице.
Веселый и находчивый Трешнев как-то напрягся.
– Это Ксения. А это – Андрей Владимирович Вершунов, – наконец скупо сообщил он. – Вы, Ксения Витальевна, вроде задавали мне тот же вопрос, коий Гаврила Романович Державин предложил служителю в Царскосельском лицее. Так это именно здесь, по коридору слева. Я вас подожду.
Улыбка на лице Вершунова приобрела конфузливо-смущенную конфигурацию, но в целом сохранилась.
Ничего подобного Ксения не спрашивала, но тем не менее покорно побрела к указанной Трешневым двери, за которой окончательно сообразила, что академик-метр д’отель желал во что бы то ни стало избавиться от переслащенного бородача, лицо которого уже казалось ей знакомым. Проведя в вынужденном отчуждении больше времени, чем потребовалось для того, чтобы тщательно вымыть руки и неторопливо накрасить губы, Ксения наконец вышла.
Трешнев был один – расхаживал нетерпеливо по холлу. Но приветствовал ее радостным:
– Молодец! Еле отлепил его от себя. Пришлось намекнуть, что у меня с тобой намечены трали-вали и третий должен уйти… А то бы он так и топтался здесь!
– Слушай, Трешнев! – Ксению особенно возмутило, что академик-метр д’отель, как видно, намекал Вершунову на их роман, ничего подобного в действительности не предполагая. – У тебя есть какие-то границы пристойности?
– А чем тебе мною очерченная не понравилась? – искренне изумился тот.
Ну как с таким справляться?!
– Может, мне этот твой тезка понравился! Может, это с ним я хочу… трали-вали закрутить?
– Ксюша, кому ты это говоришь? Литератору, может, даже писателю, то есть практическому психологу. Что же, я не видел, как тебя обрадовало это неожиданное знакомство?! И потом, ты что, на молодежь решила перекинуться?
– Как молодежь?! – удивилась Ксения. – По виду этот Андрей Владимирович – твой ровесник. Ну, чуть младше.
– Ему не больше тридцати пяти, а то и меньше, – твердо заявил Трешнев. – Так что ты мне грубо льстишь.
– Нет, вправду я так подумала. Просто у него взгляд какой-то старый. Хотя и улыбается.
– Скажи еще, что именно улыбка морщинит лицо! – Трешнев хмыкнул. – Может, это из-за бороды?
– Нет-нет, надо подумать почему… Но чего мы стоим? У меня, между прочим, рабочий день.
И они двинулись наконец к выходу.
– Ты думай, – сказал Трешнев, – но я-то знаю точно: там, где появляется Андрюша Вершунов, обязательно пахнет бабками. Или хорошими бабками. – Он с театральной галантностью открыл перед Ксенией дверь. – А еще чаще хорошими бабками при очень хорошем пиаре.
На том, кое-как почмокавшись с никуда не торопившимся Трешневым, Ксения рванула на работу.
Зря торопилась!
В отделе никого не было: шефесса читает лекцию.
Ксения вытащила роман убитого лауреата. Ого! 638 страниц! Писал – не болтал, в отличие от краснодипломного литинститутца Андрея Филипповича Трешнева…
Раскрыла том.
«Порой, когда дверь бортового туалета открывалась, в салон вылетал кисловатый смрад, вобравший в себя дым сигарет без фильтра, запах застарелой несмываемой окаменевшей мочи в заветных углах стального унитаза и грубых освежителей воздуха, имитирующих сосновый бор; порой это был аромат какой-нибудь французской “Шанели”, полтора часа назад купленной в дьюти-фри и теперь примененной в отчаянной надежде удержаться от тошноты в дрожащей коробочке небесного нужника; порой оттуда наружу, к притихшим людям вырывался могучий, уже бомжеский дух перепревшего в джинсах или под колготками неутоленного вожделения; а однажды из раскрывшейся двери вдруг ударил свежий ветер, нет, не полярный ветер предстратосферных высот, на которых они все сейчас пребывали, – это был ветер той далекой, родной, той реки детства в пору, когда шла большая рыба…»
На второй странице Ксения стала клевать носом.








