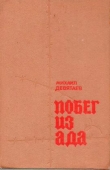Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Прошла еще неделя.
Наши как попрут немца! Так спешили фрицы удирать, что село сжечь не успели, машины все свои побросали: куда на них по нашим-то дорогам!
Как вошли в Липяги наши, Чебухайка, ни минуты не теряя, к главному начальнику, генералу: так и так, мол, товарищ начальник, летчика раненого мы с дочкой отходили. В госпиталь его срочно надо. Генерал при всех расцеловал Чебухайку, вызвал врача с машиной, летчика уложили в машину и в город.
Всю зиму летчик в госпитале провел. А весной, только снег сошел, глядь, приехал. Ничего, веселый, ладный мужик. Правда, повязка белая поперек лица, а так с виду гвардеец, да и только! Явился в Липяги и прямым ходом к Чебухайкину дому. Аленушка выбежала на крыльцо и при всех на шее у него повисла.
– Чи не ждала? – спросил летчик и еще что-то ласково сказал ей по-своему. Оказалось, что он украинец, по фамилии Гринько, а звать Григорием. Но бабы не посмотрели, что он чужак, окрестили его по-своему Глазком. Глазок да Глазок, так и пошло.
Веселый парень этот летчик! Ставни в Чебухайкином доме пооткрывал и говорит Дарье:
– Вот так, теща: горилка е? Неси, ставь на стол! Да гостей сзывай, свадьбу справлять будем.
Мужиков в войну было мало. Глазка сразу определили бригадиром. Почудаковал он не мало с молодухами, бригадирствуя. Да, но об этом потом… Когда мужики с войны вернулись, стали бригады укрупнять, и Глазка оттерли. Тогда он пошел в МТС, трактористом. Со временем ничего, остепенился. И то пора: пошли дети.
Маша Гринько, веснушчатая, с белесыми ресницами девочка, и была их первой дочерью: Глазка и Аленушки. Маша, пожалуй, не помнит своей бабки Чебухайки: старуха умерла, когда Маше было года три, не больше. Но бабушкино прозвище, как родимое пятно, перешло по наследству и к ней.
– Ух, до чего ж вы мстительный народ! – сказал я ребятам, стирая с доски надпись. – И далась же вам эта Чебухайка…
Я поблагодарил Володю Коноплина, который помогал мне налаживать прибор, и, отставя электрическую машину в сторону, сказал:
– Между прочим, в этой кличке нет ничего позорящего Машу…
И я рассказал ребятам о Чебухайке: как мы в детстве забирались к ней в огород, как она спасла летчика и про самого Машиного отца… Одним словом, рассказал то, что вы теперь узнали.
Вижу, девочка повеселела и ребята не косятся на нее, как прежде.
Когда прозвучал звонок, я раскрыл классный журнал. Требовалось сделать запись о теме урока. Я задумался: что тут напишешь? Улыбнувшись про себя, я обмакнул перо и в графе «Тема урока» написал: «Чебухайкин мед».
Первый и последний
I
Лестница была высокая. Она начиналась с тротуара и круто, одним маршем вела на второй этаж. Пока мы поднимались, пересчитывая ногами выщербленные каменные ступени, взмокли, как грузчики.
На том самом месте, где оканчивалась лестница, не было никакой площадки. Последняя ступенька упиралась в узенькую застекленную дверь.
– Ф-у-у! – Володяка Полунин, шедший впереди, остановился, шумно вздохнул, переводя дыхание, и с силой толкнул дверь.
Стекла звякнули, дверка закачалась, но не подалась. Володяка поднажал плечом. В верхнем углу двери приделана была пружина. По мере того как мы протискивались, пружина, растягиваясь, издавала все новые и новые звуки – от тонкого скрипа до басового скрежета. Наконец все звуки слились воедино, и я, входивший вторым, едва не лишился ног: с такой силой дверь ударила по моим пяткам!
Мы очутились в довольно длинном коридоре, бывшем как бы продолжением лестницы. Только справа вместо глухой, испещренной всевозможными надписями стены были теперь окна, а налево, рядком, виднелись филенчатые двери.
В дальнем углу коридора у окна стоял грубый канцелярский стол. Ничего, кроме телефонного аппарата и настольной лампы, на нем не было. За столом сидела пожилая женщина в черном костюме. Коротко остриженные волосы и, главное, крупные черты лица придавали ей сходство с мужчиной.
Женщина читала газету.
Володяка поставил чемодан, полез в боковой карман за бумагой. Женщина заметила его движение.
– Мест нет, – сказала она, не отрываясь от газеты.
– Как так нет?! – спросил Володяка басом. – Мы на чтения. Сам товарищ Коровушкин говорил, что на койки броня будет.
– Я вам сказала – нет. Ясно?
Володяка нерешительно потоптался у стола.
– Разрешите позвонить? – Он протянул руку к телефону.
– Это аппарат для распоряжений, а не для частных разговоров! – Женщина прикрыла телефон газетой и, сложив вчетверо Володякину бумажку, вернула ее.
– Хорошо. Вы поплатитесь за свой бюрократизм! – вспылил Володяка. Лицо его побагровело, на щеках заходили желваки. – Вы будете объясняться с товарищем Коровушкиным! – Он взял свое командировочное удостоверение, сунул в карман и, повернувшись, вышел.
Я понимал состояние Володяки – он не привык к такому обращению. Это нас, провинциалов, которые дальше Липягов света не видели, можно как угодно обижать. Володяка не чета нам. Не на того она нарвалась! Володяка и в столицах бывал, в райкоме на разных должностях сидел, в колхозе нашем состоял председателем. С ним ухо держи востро! А она – «мест нет». Да еще в такой неуважительной форме. Володяке обидно, конечно. Еще час назад, когда мы ехали в вагоне, он рассказывал мне о том, как встречали его в районе, когда ходил в председателях.
А тут вдруг «мест нет»!
Я остался охранять чемоданы тет-а-тет с этой мужеподобной фурией. Говорить мне с ней не хотелось, да и о чем говорить? Я принялся изучать «Правила для проживающих в гостиницах», висевшие на стене, у стола. Вы знаете сами, что это не бог весть какая литература. Но чем занять себя? И я стал изучать правила. Оказалось, что они разработаны самой Академией коммунального хозяйства. Параграфы расписаны по-научному: и как надо прибывать в гостиницу, и как убывать; говорилось и об ответственности жильцов за материальный ущерб, и о соблюдении порядка. Но вот горе: в правилах ни слова не говорилось о том, как можно попасть в эту и подобные ей гостиницы!
Изучив правила, я уставился на плакат «Первая помощь утопающему», приколотый тут же, рядом.
В это время зазвонил «аппарат для распоряжений». Дежурная подняла трубку.
– Да-а! Вас слушают… – И совсем иным тоном: – Слушаю, Василий Кузьмич… Я не грубила. Я сказала только, что нет мест.
«Эге! – подумал я. – Володяка, черт побери, тертый калач. Знает, как действовать. Он не пошел в районо, к Коровушкину, а махнул сразу к Василию Кузьмичу. Молодец!»
Василий Кузьмич был у нас в районе первым секретарем. Весной наш район, бывший долгое время отстающим в области, ликвидировали. Василия Кузьмича перевели сюда председателем райисполкома. Дежурная чуть ли не на носочках танцевала перед председателем: виновата, дескать, не учла.
– Пусть приходит товарищ. Сейчас оформлю…
Бросив трубку, женщина открыла несгораемый шкаф, стоявший в простенке, и молча подала мне анкеты для приезжающих.
Пока я заполнял свою анкету, явился и Володяка. Вся дальнейшая процедура проходила в тишине – обе стороны считали ниже своего достоинства заговорить первыми. Дежурная забрала анкеты, вложила их в паспорта, вынула из стола ключ, и мы пошли следом за ней по коридору.
Мы шли мимо дверей с черными табличками номеров. Когда-то тут были знаменитые номера Лаврухина, где кутили купцы, собиравшиеся на осеннюю скопинскую ярмарку. Внизу находился трактир, а наверху номера. Теперь тут гостиница горкоммунхоза. Запах плесени и мышей.
Женщина остановилась, пошарила в замочной скважине ключом.
– Вот ваш номер. – Она открыла дверь. – Располагайтесь!
II
В комнате стояло три койки, две вдоль стен и третья у окна, в углу – деревянная вешалка, в середине – стол, покрытый клеенкой, а на нем огромный жестяной чайник. На стенах висело два-три портрета и черная тарелка громкоговорителя.
Володяка занял койку у стены. Я бросил свой чемодан под кровать у окна. Третья койка, судя по всему, была еще не занята.
Мы приехали на августовское методическое совещание учителей. Совещание открывалось завтра.
Директор послал нас пораньше, чтобы мы помогли художнику оформить стенд нашей школы. Оставив вещи, мы отправились во Дворец культуры. Стенд был готов. Выставка получилась внушительной. Правда, она мало чем отличалась от всех иных выставок, скажем, от выставки передовиков сельского хозяйства. Так же нельзя было ничего разобрать из-за леса стеблей кукурузы. Глядя на выставку, можно было подумать, что ребята в школах ничем, кроме выращивания кукурузы, не занимаются.
Но это так, к слову говоря, а вообще я был доволен выставкой. Главное, стенд был готов, и нам не пришлось толкаться весь день в душном фойе и наклеивать таблицы, повествующие о сдвигах и успехах.
Осмотрев выставку, мы отправились по своим делам. Володяка решил проведать друзей-райкомовцев, а я пошел побродить по городу.
Городок, ставший нашей новой районной столицей, древний. В давние времена вблизи Скопина проходили так называемые сакмы; по этим степным дорогам совершали свои набеги на Русь половцы и татары. Городок находился на границе Московского государства, и сюда через Дикое поле по старым сакмам часто вторгались враги. Позже, при царе Алексее Михайловиче, Скопин входил в засечную черту. Из чего наши предки делали тут засеки – понять трудно. Теперь на добрую сотню верст вокруг не осталось ни одного лесочка. Чудом уцелел лишь парк, раскинувшийся по берегу Вёрды.
Сюда я и направился. В этом парке и на примыкавшей к нему Соборной площади в старину проводились ярмарки. Два раза в год, весной и осенью, стекался в Скопин люд со всей округи. Приезжали купцы из Тулы, Рязани, Пронска, Венева. Шел оживленный торг сукном, луком, гончарными изделиями. Какие чудесные кувшины, горшки, свистульки выставляли местные гончары! Теперь нет таких. Да нет и самих ярмарок. Даже и мест сборищ не сохранилось. Древний собор, стоявший на ярмарочной площади, разрушен. Тут сейчас стадион. Высокий дощатый забор, выкрашенный в буро-землистый цвет, отделяет стадион от парка. Сам парк тоже изрядно поредел. В войну вековые липы и тополи частью погибли от обстрела, частью повырублены на перекрытия блиндажей, и только кусты сирени разрослись пуще прежнего.
Из-за вершин сиреневых кустов открывались дали. Внизу, у подножия холма, извивалась Вёрда. Когда-то, лет триста тому назад, по этой речке на баржах отправляли хлеб в Москву через Проню, Оку. Теперь Вёрда измельчала настолько, что и лодку не перетащишь по песчаным откосам, не то что баржу. За рекой дымит труба стекольного завода; кое-где видны мертвые терриконы шахт.
Левее, на самом горизонте, рыжей грудой возвышаются стены Донского монастыря. Есть предание, будто когда-то на месте этого монастыря была пещера. В ней жил инок-старец, давший обет одиночества. Будто Дмитрий Донской, идя со своим войском на Куликово поле, останавливался здесь. Старец-инок благословил князя и предсказал ему победу над татарами. Возвращаясь в Москву с победой, Дмитрий Донской уже не застал старца в живых. Благодарный за его пророчество, великий князь приказал на месте кельи поставить монастырь. Монастырь этот сохранился до наших дней.
Смотрю я издали на монастырские стены, на поля, заставленные копнами соломы из-под комбайнов, и ясно вижу, как по этому же полю лет этак шестьсот назад бежали к горе татары. И наши, русичи, и среди них какой-нибудь мой дальний предок сидел здесь за деревянными бойницами и целился во врага из лука или кремневого ружья.
Да что там шестьсот! Всего лишь двадцать лет тому назад, осенью 1941 года, эти откосы древней крепости штурмовали немцы. И наши солдаты – русские, татары, казахи, украинцы – намертво стояли тут в окопах.
Враги так и не взяли городка.
Да… И снова разрослась сирень.
III
Я вернулся в гостиницу вечером. Еще в коридоре услышал бубнящий голос Володяки, доносившийся из нашего номера. Он с кем-то спорил.
Не спеша открыв дверь, я вошел в комнату. Стол с жестяным чайником был отодвинут в угол, к моей койке. За столом сидел Володяка, красный, как ошпаренный кипятком рак, а напротив него – незнакомец в черной суконной косоворотке. Перед ними стояла поллитровка «ряжской» и кое-какая закуска – помидоры, банка килек пряного посола, огурцы.
«Эге! Уже отыскал дружка», – подумал я, приняв незнакомца в косоворотке за одного из бывших сослуживцев Володяки. Однако когда тот повернулся на стук двери, то, к своему удивлению, я понял, что ошибся. Лицо Володякиного собеседника было мне незнакомо, всех же бывших райкомовцев я хорошо знал.
Незнакомец – пожилой человек, почти старик, с неровно поседевшей головой. Он был худ, сутуловат; на груди его, поблескивая эмалью, алел орден Красного Знамени. Орден был старый, без планки, из-под него бантом топорщилась красная материя.
На вешалке висел Володякин плащ и пальтецо незнакомца, легкое, клетчатое, из тех, что поставляют нам немцы или чехи. «Да это не третий ли наш жилец?»
– Где ты пропадаешь?! – Володяка вышел из-за стола. Он был, как у нас говорят, навеселе, не очень пьян, никак нет – Володяка питок натренированный, – а просто-напросто немного выпил. Он пребывал в том естественном для выпившего человека состоянии, когда сам себе кажешься красивым, сильным, молодым.
Володяка и в самом деле был таков: крепок, крестьянской широкой кости, грубоват, круглолиц.
Его немного портила излишняя полнота, вернее, обрюзглость, особенно это заметно было, когда он выпивал.
– Знакомься! Знаешь, это кто? – Володяка бесцеремонно положил руку на плечо незнакомца. – Это, брат, Чугунов!
Чугунов протянул руку. Мы поздоровались. «Чугунов… Чугунов…» – мучительно вспоминал я. Что-то знакомое, но откуда, где, когда, никак не припомню.
Володяка, видно, догадался, что я так и не признал его друга.
– Позабыл Чугунова, Павла Павловича?! А? Нехорошо такие имена забывать.
Я взглянул еще раз на Павла Павловича. Он все еще стоял и улыбался, как и я, растерянно и вяло. Чугунов был не так стар, как мне показалось поначалу. Правда, чуть-чуть сутуловатый, но какой-то особенной, не стариковской сутуловатостью. Волосы его, густые, зачесанные назад, седы, но тоже какой-то странной сединой: виски белые-белые, будто присыпаны пудрой, пряди выше – черные, без единого блестка седины, а по пробору снова широкая белая прядь. Чем-то он походил на сороку. Это сходство еще больше подчеркивали густые черные брови на бледном, изможденном лице. Он был вообще только двух цветов, без каких-либо оттенков. Черного сукна косоворотка, черные галифе, сапоги и болезненного вида белое лицо.
«Чугунов… Чугунов…» Как всегда, когда хочешь вспомнить человека, стремительно проносятся в сознании страницы жизни. Фронт. Институт. Встречи в вагонах, на совещаниях, на рыбалке… Нет, никогда в жизни я не встречал никакого Чугунова! А Володяка все продолжал испытующе смотреть на меня, и лоснящееся от пота лицо его все шире расплывалось в улыбке.
– Товарища Чугунова позабыл! Палыча… Чугунка!
«Чугунок»! – чуть не выкрикнул я, обрадованный неожиданной встречей, и снова с силой принялся трясти руку растерянно улыбающегося человека в черной косоворотке.
IV
Можно забыть просто Чугунова, но Палыча, Чугунка, забыть нельзя. И как только Володяка произнес «Чугунок», мне сразу вспомнилось: поповский дом, морозный зимний вечер… Мы, хлопцы, поджав под себя ноги, сидим на желтом крашеном полу возле самого стола, за которым восседает президиум. За столом президиума русоволосый, в гимнастерке секретарь райкома и второй – черный-пречерный, как грач, в суконной куртке, на груди боевой орден… Это Чугунов, шахтер с рудника.
Товарищ Чугунов, или, как все его звали, Чугунок, был первым председателем нашей липяговской артели, названной тогда «Красным пахарем». Павел Павлович работал у нас лет пять. Это была, если верить мужикам, самая счастливая пора нашего колхоза. От хлеба ломились колхозные закрома; лошади с общественных конюшен не уступали в силе и выносливости воронежским битюгам.
О Чугунке и сейчас любят вспомнить липяговские мужики.
Году в тридцать шестом нашего Чугунка выдвинули в район. Он стал председателем рика. Его звали «наш Палыч».
Потом, года через два-три, в нашем районе, по слухам, был открыт какой-то вредительский центр. Вместе с арестом участников этого центра канул куда-то и веселый черноволосый шахтер – наш Чугунок…
И вот спустя столько лет он стоял передо мной, и я тряс его руку и слышал, как Володяка говорил над ухом:
– Вот, брат, дела!..
V
Шумная радость Володяки несколько коробила Чугунова. Это я сразу понял по выражению его лица. Оно было чуточку грустное и чуточку усталое. Павел Павлович снисходительно улыбнулся. Я тоже улыбнулся виновато за своего друга. Чугунок нам с Володякой в отцы годится, а Володяка с ним вел себя как ровня.
– Вот так встреча! – Володяка потрепал Чугунова по плечу. – Давайте сядем. Чего стоять! – Он взял с тумбочки еще один стакан и налил в него водки. – Выпьем за встречу.
У них оставалось в стаканах понемногу водки. Доливая себе, Володяка рассказывал:
– Прихожу, вижу: новый жилец! Ясно, что учитель. Тары-бары. Разговорились. Я сказал, что я из Липягов. Он обрадовался. Говорит: «Я – Чугунов. Вы, говорит, может, и не помните Чугунова, а старички должны бы помнить». Это я-то не помню Чугунова?! Да я, если хотите знать, с детства вас помню. И чту!.. – Володяка рыгнул, рука дрогнула, водка расплескалась по столу. – Вы первый, так сказать. А я последний. Оба мы вехи в истории Липягов.
«Ну ты-то, предположим, не очень уж какая веха!» – подумал я о Володяке.
Владимир Евсеевич Полунин, или просто Володяка, года на два моложе меня. Сколько помню его, он всегда был рыхловат, не очень умен, но в делах напорист, изворотлив. Такого голыми руками не схватишь.
Странно: человеку под сорок, работал в райкоме, председательствовал, а неопределенное уменьшительное имя, вернее кличка, которой он был наделен в детстве, – Володяка, так и сохранилась за ним. Правда, когда председательствовал, то мужики в глаза стеснялись называть его Володякой. На правлении или так, когда зашел мужик попросить что-либо, то обращался к нему почтительно: «Как бы мне, Владимир Евсеич, кирпичику сотни две? Печка совсем развалилась». – «А у меня откуда кирпич?! Я что, министр, что ли?!» Выйдя за порог председательского кабинета, мужик безнадежно махнет рукой и скажет тут же при всех: «Отказал Володяка».
– За встречу! – Полунин первым поднял стакан.
Чокнулись. Чугунов пригубил и снова поставил стакан на стол.
– Мне совсем нельзя. А я уже и так много выпил.
Откинувшись на спинку стула, он присматривался ко мне. Я сидел сбоку от него, и он повернулся, чтобы лучше разглядеть меня. Володяка, видно, изрядно успел наскучить ему. Я отметил про себя, что лицо Чугунова, показавшееся мне сначала матово-бледным, все было в мельчайших черных крапинках, какие остаются на коже при близком разрыве снаряда.
Выпили. Запрокинув голову, Володяка разом опорожнил стакан и, видимо, возобновляя прерванный моим приходом разговор, сказал:
– Так и ликвидировали наш липяговский колхоз. Мой колхоз! – Он поднял кверху руку, в которой была зажата алюминиевая вилка. – А я сделал бы из него конфетку! Точно говорю! О моем колхозе гремела бы слава, если бы не это чертово объединение…
– С каким же колхозом вас объединили? – спросил Чугунов.
– С Хворостянским. Видите ли, колхоз наш считался запущенным, а в Хворостянке получше, середнячок вроде. Понятно, мы мозолили глаза начальству. Василий-то Кузьмич одно время сопротивлялся. Но тогда и под него яму вырыли. Область вся как шагнула? На весь мир гремит! А наш район по-прежнему захудалый. Тогда наши областные начальники так решили: все слабые колхозы объединить со средними, а захудалые районы – с более сильными. Чтобы не было в области отстающих! Понятно? Так мы очутились в Скопинском районе, а мой колхоз… наш с вами колхоз… У-у!.. – Володяка наклонился над столом и принялся налегать на закуску.
Чугунов достал из кармана галифе пачку «Беломора», закурил. Черная прядь волос упала ему на лоб. Он поправил ее и, подперев голову, пустил колечки дыма. Сизоватые крендели поднимались все выше и выше. Чугунов дунул на них, и они поплыли в сторону.
Мне хотелось порасспросить Чугунова обо всем. Но Володяку разве перебьешь? Я сидел и слушал. Я слушал беседу двух председателей нашего колхоза – первого и последнего…
VI
Чугунов старался как можно больше узнать про колхоз. Иногда, когда Володяка замолкал на миг, он расспрашивал о том, как было в войну да когда объединились. Да лучше ли стало с использованием техники. Да как с трудоднем – Володяка рассказывал.
По его рассказу выходило, что колхоз наш «доходил до точки». Однако за два года его, Володякиного, председательствования, поднялся, не хуже иных передовиков стал!.. И снова Володяка переводил разговор на свое: не случись, мол, объединения, его колхоз гремел бы на всю область!..
Мне не хотелось возражать, но на самом же деле все было как раз наоборот. При Иване Степановиче дела у нас действительно пошли на поправку. Но Иван Степанович заболел. Некоторое время он еще тянул лямку через силу, но потом его совсем скрутило. И опять дела наши стали плохи. Тогда в райкоме начали ломать голову: кого послать в Липяги? Тут-то и подвернулся Володяка. Он оказался под рукой у начальства, как раз служил в райкоме. Видно, Володяка не очень ладил с заведующим отделом, где работал, и тот задумал от него избавиться. Он и предложил Василию Кузьмичу послать к нам на место Ивана Степановича Володяку. «Полунин местный, – доказывал заведующий, – работал там в инструкторской группе райкома при МТС. Молодой, инициативный…»
Что касается инициативы, то ее у Володяки хоть отбавляй. Только инициатива эта направлена не в ту сторону.
Я уже рассказывал, какие споры были в нашей семье про «коммунию». Отец мой, ходивший в отход, почти рабочий, горячо выступал за артель. Он первым отвел кобылку на артельный баз. Дед не соглашался. Он не был против «коммунии» – всю жизнь прожил в нищете. Но дед был философ. Он любил повторять свою присказку про грабли, о том, куда они гребут. «До тех пор, – уверял он, – пока грабли гребут по-старому, никакой коммуны вы не построите…»
У Володяки грабли гребли по-старому.
Недели не пробыл в председателях, как начал ставить себе новый пятистенок. И в старом отцовском доме жить еще можно было, но Володяка во всем любил шик. Как раз в то время какая-то умная голова решила, что надо отдать леса средней полосы под опеку колхозов. Володяка выбрал себе лучшие дубки, ели-смолевики. Отгрохал не дом, а крепость. Карнизы и наличники приказал плотникам выполнить по старинным рисункам, усадьбу огородить чистым тесом. Не в Липягах такому дому стоять, а впору, как крендель, на Нижегородскую ярмарку везти.
Иван Степанович тарантасиком пробавлялся. А Володяка купил себе за артельные денежки машину. В новенькой «победе» наш председатель разъезжает, на пленумах да на разных собраниях речи часовые держит. Обязательства одно другого лучше! Портретики в газетах замелькали. Где же ему в дело вникнуть? Времени для этого нет.
Глядя на председателя, и его помощники начали баловаться, запускать руки в артельный карман.
Вот и пошло оно, дело-то, опять вкривь и вкось. Одно время Володяку терпели. А потом, как дали кое-кому по шапке за вранье, опять стали нас, липяговцев, называть слабосильными да отстающими. Раз поругали, другой – не помогает. Надоело.
И решили тогда раз и навсегда подрубить под корень наш «Красный пахарь». Объединили нас с хворостянскими мужиками. Теперь у нас один с ними колхоз – «Путь к коммунизму». Хозяйство большое – десять тысяч гектаров одной пахоты.
Вот почему Володяка стал последним…
VII
Они сидели передо мной – первый, которого я больше знал по добрым воспоминаниям липяговцев, и последний – Володяка, мой институтский товарищ, можно сказать, друг. Смотрел я на них и думал. Вот, думаю, у древних мудрецов была такая поговорка: «Все к лучшему в этом лучшем из миров…» И невольно сравнивая сейчас первого нашего липяговского председателя с последним, я на минуту усомнился в неопровержимости мудрости древних. Но именно на одну-разъединую минуту. Ибо без Володяки после объединения все-таки стало лучше.
Я пристально наблюдал за Чугуновым. Он был для меня человеком-легендой. Что только о нем не рассказывали! В бытность его председателем у него не было ни семьи, ни имущества. Он снимал угол у одинокой старушки. Весь день у людей на глазах. Спал ли он когда-нибудь? Никто толком не знал. Чугунок весь принадлежал делу, артели, которую создавал. Семьей-то он обзавелся уже потом, когда служил в рике.
Чугунов курил и спокойно выслушивал собеседника. Выслушивал до последнего слова, как будто в этом последнем слове и заключался смысл всего.
Подвыпивший же Володяка, говоря, вздымал кверху руки, кричал громко, выкрикивая слова, как лозунги:
– Они сделали мой колхоз бригадой! Они думали, что так лучше! Дудки! Они еще меня позовут!
– Кто «они»? – улыбнувшись, спросил Чугунов.
Володяка стих, поморгал бесцветными ресницами. Кто они, эти страшные враги его, он и сам не знал.
– Липяги село большое. Домов четыреста, а то и более, – сказал Павел Павлович. – Но при теперешней технике, может, и выгоднее иметь один крупный колхоз.
– Было когда-то четыреста, – заметил я. – А теперь если половина дворов осталась, и то хорошо.
– Да, обезлюдели Липяги, – согласился Чугунов.
– Чепуха! – Володяка снова рыгнул. – Моста через Липяговку сделать не могут. Тракторы в объезд по десять километров ездят. Разве можно такое наблюдать равнодушно? Ну, скажите, можно? Жена ругает: успокойся, брось. Ей, дуре бабе, не понять, что не о себе беспокоюсь, а о народе. О народе! Из-за этого и в рюмку стал чаще заглядывать.
– Зачем же вы так о жене?
– А что жена! За меня любая пойдет в Липягах, лишь позови!
Чугунов ничего не ответил, только пожал плечами. Он погасил папиросу, ткнув ее в край пепельницы, полной окурков, потом вздохнул и сказал тихо:
– Я бы о своей жене так не говорил. Хотя… и она оказалась женщиной… – Он не договорил, замолчал.
Я подумал, что сейчас самый подходящий момент спросить Чугунова о семье, обо всем том, что с ним стряслось. Я извинился и спросил.
Лицо Павла Павловича погасло, глаза сделались грустными.
– Пришлось вернуться к старой профессии.
– Работали в шахте?
– Да, работал в шахте.
Видно, ему не хотелось говорить об этом более подробно. Не знаю, что было тому причиной: врожденная ли скромность или воспоминания о той поре слишком больно отдавались в его душе. Чугунов снова закурил и, не сдержавшись, встал из-за стола.
– Чего расспрашиваешь? – проговорил Володяка. – Будто не знаешь: сидел человек! Не будем теребить прошлое. Давайте выпьем за будущее! – Он взял со стола бутылку, налил водку в стаканы.
Мы чокнулись. Чугунов стоя выпил, поморщился, закусил и нервно заходил по комнате взад-вперед.
VIII
– Да, сидел, – заговорил Чугунов. – Все называют так: сидел. И еще есть одно слово, которое я терпеть не могу, «реабилитированный». Почему не люблю? Потому что в этом слове есть какая-то человеческая неполноценность. А я не считаю себя хоть капельку человеком неполноценным. Все эти семнадцать лет я жил, работал. Воркута. Караганда. Шахты. Оторванность от семьи, от мира. Но все эти годы я считал себя коммунистом. Да, да! Были и такие, которые поносили все и вся. А я верил, что несправедливость будет исправлена. И она исправлена.
– Ничего себе «исправлена»! – ухмыльнулся Володяка. – Семнадцать лет украли у человека. Всю жизнь сломали. Кем бы вы были теперь? Председателем облисполкома, секретарем обкома, не менее! А вы начинаете сначала, учителем…
Чугунов остановился перед Володякой, осуждающе покачал головой.
– Вы еще очень молоды, друг мой, – сказал он. – В молодости кажется, что ты центр всего, пуп вселенной. А между тем историю творит не один человек, а человечество. Что я? Меня вызвали, передо мной извинились, вернули партийный билет, ордена… – Чугунов постучал по алой ленточке, к которой был прикреплен орден. – Мне предложили пенсию. Я сказал: нет! У меня есть еще силы, и я хочу работать в меру своих сил. И так поступили с каждым невинно пострадавшим. Дело не в личном, в конце концов. Несправедливость исправлена исторически. И в этом сила партии. Я так понимаю.
– И куда же вы поехали, когда вас освободили? – не утерпев, спросил я у Чугунова.
– Гм… Я сам долго ломал голову над тем, куда поехать. И поехал к вам, в Липяги, хотя знал, что меня там никто не ждет. Женился я поздно, уже работая в рике. Было у меня двое ребят. До войны в Воркуте жестко было: никого в зону не допускали. А вскоре после войны, когда перевели из Воркуты в Караганду, отыскал меня старший сын. Пацан, понимаете, а разыскал. И приехал. Рассказал, что мать вышла замуж. За офицера. Еще перед войной. И уехала с ним на Восток. Дети воспитывались в детдоме… – Чугунов остановился у стола, хотел было взять стакан с недопитой водкой, но передумал, не взял и снова принялся ходить. – Тянуло к вам. Как-никак несколько лет работал. И каких лет! Приехал. Явился в райком. Встретили меня хорошо. «Хотите снова в Липяги? – сказал мне Василий Кузьмич. – Правда, мы туда недавно послали тридцатитысячника, но если вы согласны…»
– Это об Иване Степановиче речь, – вставил Володяка. – Мой предшественник. Год назад умер от рака.
– Я отказался. Сами понимаете: и годы уже не те, и люди не те, и условия работы. Но в Липяги тянуло. Поехал. Посидел у правления, поговорил с мужиками, сходил на ферму, которую строил, никто не признал меня, ни один человек!.. И решил я тогда податься сюда, на шахты, где прошла молодость. На шахте нашлись друзья – те, с которыми начинал шахтерскую жизнь. Начальником смены ставили, заведующим отделом кадров. Но я сам попросился в школу. Когда работал в рике, учился заочно. Диплом пригодился. И вот пять лет преподаю историю. Можно сказать, коллеги.
– Для меня школа – это временное дело… вынужденная пересадка, – проговорил Володяка. – Они еще меня позовут!
– А я, знаете, полюбил школу. – Чугунов подошел к столу, сел.
Володяка снова было ухватился за поллитровку, но Павел Павлович решительно запротестовал:
– Нет-нет! Чаю – другое дело. Чаю выпью. А это… оставьте себе, опохмелитесь завтра.
Я взял чайник и пошел в кубовую. Когда я вернулся с кипятком, пустая бутылка из-под водки стояла уже на тумбочке: видимо, Володяка допил-таки остатки.
Чугунов стал хлопотать. Он достал из-под кровати саквояж, вынул оттуда чайник для заварки, коробочку с чаем, долго что-то мудрил, досыпал чаю, нагревал заварной чайник над большим чайником, снова подсыпал…
– Вы чаефил, – заметил я.