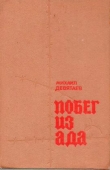Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
– Нечистый у нас на погребе! Открыла дверь – а он по всему погребу катает лист. Из одного угла в другой… О, господи!
Пошел дед на погреб, – глядь, через минуту возвращается с бабкиной кошелкой.
– А ну, Андрейка, идь сюды!
Я неуверенно подошел. Вижу: в корзинке полно дубовых листьев и они все живут, шевелятся. Дед как двинет ногой кошелку: она упала, и из нее на пол выкатилось полдюжины серых, все в иголках, шариков. На каждой иголочке по нескольку листьев насажено. Сначала шарики замерли на месте, но, видя, что их никто не беспокоит, снова зашевелились, шурша листьями.
Услышала шорох кошка – прыг! – с печи на пол. Подошла, пошевелила усами, нацелилась лапой на самый большой комочек и – ра-аз! – лапой-то по иголкам! Ежиха как зашипит на нее! Кошка – хвост трубой и обратно на печь.
– А-а, обожглась! – Дед хохочет до слез.
Воспользовавшись минутным замешательством, ежиха вытянула черненькую мордочку и – юрк в подпечье. Маленькие ежата – за ней следом…
С тех пор не было на нашей усадьбе строения, где бы не водились ежи. Стали ригу ломать – они в риге; баню перебирать – они на крыше бани; и во дворе жили ежики, и в подпечье, и на погребе.
«Бедные ежики! – думал я. – Куда же вы попрячетесь теперь, когда и избу разломают, и погреб, и двор, и баню?..»
V
– Мама, вон возьми, нашлась твоя кудель-то! – сказал, посмеиваясь, Степаха и указал на кучу тряпья, валявшуюся у ракиты.
– Брось смеяться-то! – в сердцах отозвалась мать.
– Я не смеюсь… Не веришь? Погляди!
Мать нагнулась – да, она самая. Кудель эта, моток чесаной шерсти вместе с гребенкой и веретеном, пропала лет двадцать назад, еще до войны. Помню, когда ее искали, перевернули кверху дном все, что было в избе и в мазанке. А теперь она вдруг нашлась. Завалялась на чердаке среди дубовых листьев. Бабушка небось сунула, да и позабыла.
– Нашлась-таки!.. – Мать тронула моток. Из-под ее рук взметнулся фонтан пыли. Закашлявшись, она было отступила, но тут же вновь нагнулась, схватила гребенку и веретено и, взяв их под мышку, пошла к мазанке.
В воздухе носилась пыль и пахло гарью.
Митяй и Степаха сгребали в кучу солому. Я взял вилы и принялся им помогать. Но недолго мне пришлось орудовать ими: вскоре меня позвали наверх. Приступали к разборке потолка, требовался помощник. Федор надеялся, что кое-какие доски еще пригодятся. Действовал он очень осторожно. Начали с угла над печью. Федор ломом приподнял край потолочины, а я, опустившись на колени, схватил конец доски руками и выпростал ее из паза. Потолочина была изрядно тронута жучком, но казалась довольно крепкой. За четверть часа мы вынули не менее десятка потолочин.
Открылась печь, вернее, та часть ее, которую у нас называют «задоргой». Это верхний угол русской печи. С краю его березовый, обшарканный до блеска кругляк. За этот кругляк мы, дети, цеплялись руками, когда надо было взобраться на печь. В праздники, уткнувшись в него подбородком, мы наблюдали из своей засады за гостями.
Зимой на задорге любил сиживать дед. Зимой мужику дел поменьше, чем летом. После ужина, нахлебавшись кислых щей, покряхтывая, дед заберется на печь, сядет на задоргу, свесит ноги, обутые в лапти, достанет кисет, не спеша свернет козью ножку и пускает себе в бороду колечки дыма.
Мне почему-то особенно памятна зима 1929 года. Зазимок наступил рано, только что проводили отца. И вдруг в семье началось непонятное беспокойство. За столом только и разговоров про какую-то «коммунию». Каждый вечер на селе сход. На собрания ходит один дед. Бабы до полуночи ждут его. Лампа под потолком пригашена. Мать штопает наши дырявые варежки, бабушка, лежа на печи, вздыхает.
Мне все хорошо видно. Мы со старшим братом спим на конике: это, как войдешь в избу, сразу налево. Прилавок широк, но все же вдвоем нам спать тесно. Мать на ночь отодвигает стол и приставляет к конику скамью. Потом стелет матрас, набитый соломой, покрывает его самотканой рядновой подстилкой; такой же ряднинкой мы и укрыты. Рядно греет плохо. На ночь дед набрасывает на нас свой чиненный-перечиненный овчинный полушубок. Но зимой и под полушубком холодно.
Однако на конике спать лучше, чем на полатях, где спят Иван и Митя. На полатях, настланных под самым потолком, тесно, там повернуться нельзя. И душно на полатях – столько людей спит в избе!
На полатях тесно и душно, но главное, оттуда не видно, что делается в избе. Свесишь голову, чтобы посмотреть, – на тебя сразу же зашикают со всех сторон: спи, мол, чего надо? А на конике красота! На конике можно укрыться по плечи дерюжным одеялом, уткнуться носом в плечо брата и, сделав вид, что спишь, преспокойно наблюдать за всем происходящим.
Уж начинает одолевать дрема, и вдруг слышишь: в сенцах стукнула щеколда. Вернулся с собрания дед! Вот он высморкался, постучал ногой об ногу, стряхивая снег со смерзшихся на морозе лаптей, и вместе с облаком белого пара вошел в избу. Крякнув, дед содрал с бороды сосульки, распоясал путо, служившее ремнем, бросил полушубок нам на постель.
Мать оставила штопку, засуетилась. Бабка, покряхтывая, слезла с печки, загромыхала ухватами. Дед ушел еще до ужина, сейчас он садится за стол. Мать устроилась сбоку стола напротив. Она выжидательно смотрит на деда, не решаясь заговорить первой. Покончив со щами, дед вылизывает ложку и лезет в карман за кисетом.
– Ну, что порешили, батя?
– Еще трое записались, – говорит дед, заворачивая самокрутку, – Авданя, Кузьма, попов работник, и Таня Виляла. А заодно и председателя выбрали.
– Кого ж?
– Из Побединки с рудника привезли. Чугунов по фамилии.
– А Ефрем был?
– Был.
– Не записался?
– Нет, еще держится.
– Ефремке что?.. Он герой, с Чапаевым войну прошел, – подает голос бабушка. Она не решается подойти к столу. Прислонившись к тесовой переборке чулана, стоит поодаль и крестится.
– «Герой»! Уж молчала бы!
Дед не любит, когда бабка сует нос в мужские дела. Раскурив самокрутку, он достает из кармана не то книжицу, не то газету, сложенную шириной в ладонь, и, разгладив ее, подает матери.
– Ну-ка, Палага, почитай!
Дед не знает грамоты. Мать тоже не очень учена: всего лишь две зимы ходила она с «буквицей» к нашему приходскому дьячку. Церковные книжки, однако, она читает хорошо, а вот газет отродясь в руках не держала. Подслеповато щурясь, мать подставляет газету поближе к лампе, шуршит бумагой.
– Тут читай. Где отмечено, – указывает дед.
Мать долго шевелит губами, потом начинает читать по складам:
– «…Но чтобы достигнуть через нэп участия в кооперации поголовно всего населения – вот для этого требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия…»
– Так. Хватит! – Дед забирает газету и кладет ее перед собой. – Двадцать лет! Поняла? Это Ленин так сказал. А наши умники хотят за месяц сорганизовать коммунию. Нет у них правов таких силком заставлять писаться.
Мать сокрушенно качает головой.
– Чует мое сердце, батя, не устоять нам перед этой планидой. Сказывают, кто не запишется теперь, тех в Сибирь ссылать будут. Батюшку вон увезли… Так и нас. Вам-то что, вы жизнь прожили. А куда я с ними, один другого меньше?.. – Мать начинает шмыгать носом: вот-вот разрыдается. – Записались бы, батя, как другие. Спокойней была б…
Дед молчит. Седая голова его, как тисками, зажата в заскорузлых ладонях; в бороде застряли остья ржаных колосьев. Дед будто и не слышит слов матери. Уткнувшись в газету, он продолжает рассуждать:
– И еще Ефремка читал, что коммуния объединяет равных. Ему, Кузьме, или той же Виляле, что ж им не записываться? Ни кола, ни двора. Один наделок и тот обработать не могут. Отведи им кобылку – они ее за зиму заездят. А весной на чем пахать?
– В Сибири, гуторят, и бог ненашенский. Ему двумя перстами крестятся… – подает голос бабушка. – Пишись с ребятами, Палага… Пусть он один к нечистому едет!
– Цыц! – дед со злостью ударяет кулаком по столу.
Глиняная тарелка на столе подпрыгивает. С перепугу теленок вскочил на кривые ноги и, горбясь, задрал хвост кверху. Бабка схватила горшок, стоявший возле чугуна, бросилась к теленку…
Это происшествие на некоторое время прерывает спор. Захныкал на полатях Митька. Мать встала из-за стола, чтобы успокоить горластого Митьку, ему шел тогда третий год.
Дед долго сидел один. Когда же вернулась мать, он вдруг резко поднялся и, не глядя на нее, сказал:
– Вот что, Пелагея, отбивай депешу Василию. Пусть приезжает. Делиться будем. Берите избу, лошадь, хозяйничайте. Я свое отхозяйничал. Захочет в коммунию, пусть идет. Я сам себе, без ихней коммунии проживу. В бане жить буду, а не пойду! Чай, с голоду не умру…
– Что вы, батя?!
– Я на других шею гнуть не дурак. Так-то! Отбивай депешу, как сказал. – И, не помолившись, дед полез на печку.
В бога, как и в коммунию, дед Андрей не очень-то верил…
VІ
Вскоре приехал отец. Встречали его лишь мать да дед. Было морозно, вьюжно. Никогда еще отец не возвращался с отхода зимой, может, потому и не было обычной радости по поводу его приезда.
На этот раз отец не привез подарков и не было чаепития в связи с его приездом. Обедали все молча. Дед то и дело фыркал, все не по нему. Бранил бабку, что щи горячи, что картошка мало маслена. И особенно зорко поглядывал на скамью, где сидели мы, внуки. У деда была привычка бить ложкой по лбу, если кто-нибудь из нас провинится. Часто нам от него доставалось. Но тут, чуя недоброе, мы не озорничали.
После обеда отец развернул привезенную с собой газету и долго шуршал ею. Дед сидел на конике, курил. Никто из них не хотел начинать разговор первым. Наконец дед не вытерпел:
– Так как же, Василий… Писаться будешь? – спросил он.
– Надо писаться, батя. Все равно заставят.
– Как это так «заставят»? Сильничать никто не имеет права! Ильич прямо пишет, что с коммунией этой спешить не надо. Лет десять-двадцать… Так Ленин говорил. Или теперь уже умнее Ленина у вас учителя появились?!
Отец молчал. Помолчав, заговорил о другом:
– Вот читаю: на Тамбовщине, в Кирсановском уезде, уже не один год существует коммуна. Создали ее эмигранты, возвратившиеся из Америки. Прекрасно живут и трудятся…
– Не верю я в вашу коммунию! – горячится дед. – Брат с братом под одной крышей ужиться не могут. А тут чтоб чужие люди, и все у них вместе?! Не верю! Я тогда поверю в вашу коммунию, когда средь вас отыщется умник наподобие Левши. Чтобы он изобрел грабли, которые гребли бы от себя, а собирали бы в кучу. А до тех пор, пока грабли гребут по-старому, к себе… попомни мои слова: никакой коммунии вы не построите…
Отец и дед спорили до самого вечера. А вечером снова явился рассыльный. Звал на сход. Только теперь сход должен быть не в школе, где собирались до сих пор, а в поповском доме.
Поповский дом на самом краю нашей улицы. Дом большой, под железом, с верандами, с резными наличниками, с флюгером на крыше. В доме две половины: одна – господская, другая – черная, для прислуги.
В чистой, господской, жил отец Александр, наш липяговский поп. Он наследовал приход от отца: и отец его и дед исстари служили у нас. Александр был поп просвещенный. Он довершил начатое еще его отцом строительство церкви. Именно его стараниями, с помощью земства, построена и школа, та самая, в которой учатся все липяговские ребята, где я учительствую. Отец Александр не брал «кусочков» при освящении скота и построек, не ходил на поминки.
Жил он одиноко. Дети учились в городе. Попадья была с ними.
Поповский дом оживал только летом. Летом на вакансии приезжала попадья с дочками. По праздникам семья обедала на застекленной веранде. После обеда окна веранды открывались, и сквозь раздвинутые занавески на улицу выставлялась большущая черная труба – граммофон.
Отец Александр после обеда любил часик-другой отдохнуть. Дочки тем временем веселились. Они заводили музыку. Нам, деревенским ребятишкам, все это было в диковинку. Со всего порядка, бывало, собирались к поповскому дому голопузые пацаны и подростки. Придем, рассядемся на поляне перед домом и сидим, словно стая воробушков, ждем.
Перед домом – обширный палисад. По углам его возвышались мрачные пихты, а у самого забора густо разрослась сирень. Весной сирень цвела голубовато-палевыми цветами. Дом за сиренью, в глубине сада. Видна только веранда и крыльцо. На веранде возле граммофона суетятся девицы в белом.
Но вот наконец труба заиграла. Незнакомые звуки вальсов, полек, мазурок нас завораживали. Мы готовы были весь день сидеть перед поповским домом. Девицы не смотрят на нас, у них свои забавы. Под вечер, отдохнув, на веранду выходит отец Александр. Он без рясы, в халате, в мягких, из лосевой кожи сапожках. Постоит отец Александр, будто не замечая нас, потом незаметно так скроется за калиткой, ведущей в сад. Глядишь, через минуту-другую идет назад, с лукошком, полным падалиц. Подойдет к забору и – раз! Через кусты сирени на поляну посыпались яблоки.
Мы мигом вскакиваем с земли и, как муравьи на добычу, бросаемся за падалицами. Кто повзрослее, посильнее, тот норовит оттолкнуть малышей. Те дерутся, плачут. Редко обходилось без потасовки.
Отец Александр был добрый. Он приносил еще лукошко падалиц, и мы, набив за пазуху яблок, успокоенные, расходились по домам.
Поповская усадьба внешне походила чем-то на крепость. Несмотря на свои огромные размеры, весь сад и надворные службы, прилегающие к нему, все было огорожено высоким дощатым забором. По всему забору, словно крепостные башни, стояли ветлы. Ветлы были старые, кряжистые, стволы их разрослись в два-три обхвата. За ними не видно ни деревьев, увешанных плодами, ни райских дорожек, обсаженных цветами; обо всем, что в саду и в доме попа, ходили только слухи, редко кто из мужиков бывал в покоях отца Александра.
Бабы рассказывали про поповский дом всякие небылицы. Говорили, что попадья потому не живет в нем, что, когда она была молодой, будто к ней раз ночью прилетел ангел и соблазнил ее; будто узнал про то отец Александр и выпроводил ее в город.
Мужики в ангела не очень-то верили, но тоже, как я заметил, не проезжали мимо поповского дома, не перекрестившись.
Поповский дом всегда пугал меня. Я и теперь, признаться, побаиваюсь проходить мимо него ночью. В дуплах ракит, окружающих сад, водилось множество сов. Ночные крики их слышны далеко окрест. Черная глубина сада, и на его фоне – белые облупившиеся стволы вековых ракит. Идешь и вдруг явственно видишь: на одной из ракит висит… женщина. Весь покроешься испариной от испуга и оторопи, готов уже вскрикнуть, бежать прочь, как замечаешь, что это всего-навсего белеет отодранная кора дерева.
Однажды, в самом начале зимы, по Липягам пронесся слух: отца Александра, как врага колхозного строя, ночью забрали и увезли в город.
В доме его было устроено что-то вроде клуба. Что ни вечер сюда со всех порядков спешат мужики. Мы, ребята, тоже не можем усидеть дома.
Так и на этот раз: едва ушли отец с дедом – мы с Федей следом за ними.
У изгороди поповского дома под заснеженными кустами сирени стояло несколько санных повозок. Приехало начальство. На террасе, где летом отец Александр выставлял граммофон, топтались мужики, не решавшиеся сразу войти в дом, сновали подростки. Не дожидаясь, пока нас заметят, мы с братом юркнули в дверь.
Всех – не только нас, пацанов, но и убеленных сединой стариков – поражала необычность обстановки поповского дома. Чистота. Крашеные полы натерты воском. На стенах – цветастые обои, портреты. Мебель красного дерева, с резными ножками: диваны и кресла обиты плисом. Сядешь на них и погрузишься, словно в пуховики. В гостиной – пианино, покрытое белым чехлом. Вдоль стен до самого потолка застекленные шкафы с книгами: Библия, всякие Евангелия, речения святых… Все, как одна, в кожаных переплетах, с золотым тиснением на корешках.
Осматриваясь и осторожно продвигаясь, чтобы не задеть за что-нибудь, мужики проходили в «залу».
Мы уселись на пол перед самым столом, за которым расположился президиум. Позади на скамьях мужики в ватниках, в вытертых бараньих полушубках. На натертом воском полу лужицы воды: оттаивают лапти. В зале жарко натоплены изразцовые печи. Под потолком ярко горит лампа-молния.
Я оглядываюсь и тут же среди мужиков замечаю отца. Он выделяется своей городской одеждой. На нем легкое пальто, вокруг тонкой худой шеи повязан яркий шарф. Все в шапках, а он снял свой картуз и мнет его в руках. Среди обветренных небритых мужицких лиц лицо отца бросается в глаза своею бледностью.
Зал большого поповского дома гудит от приглушенных голосов. Перешептываются и за столом президиума. Их трое: высокий, с залысинами на лбу уполномоченный из района. Рядом с ним чернявый, сухопарый, похожий на галку шахтер с Побединского рудника, зовут его все Чугунком. Третий наш, липяговский, Кузя Лукин, бывший попов работник, забитый мужичишка с белесыми ресницами и подслеповатыми глазами.
Наконец уполномоченный встал. На нем военного покроя гимнастерка с накладными карманами на груди. Широкий, с начищенной бляхой ремень затянут не туго, а лишь для порядка. И еще на нем очень чудные шаровары. Сшиты они из грубой темно-зеленой ткани, а на самых важных местах, на заду и на коленях, нашиты куски кожи. Кожа изрядно вытерлась, побелела, как футбольный мяч… Скрипнув кожей, уполномоченный встал и начал агитировать за коммунию. Говорил он про то, как жили мужики при царе: про голод, про нужду, про малоземелье. Но больше всего напирал на межи. По его словам выходило, что все беды мужицкие из-за этих самых меж. И земли-то под ними за зря много пропадает, и сор на них растет, и души мужицкие разъединяют они, эти межи… Он призывал липяговцев как можно скорее перепахать межи – тогда жизнь по-иному пойдет. Выйдут на поля машины. Мужики станут все делать сообща – и сеять и убирать. Счастье в коммунии, в единении. Чем скорее липяговцы поймут это, тем скорее они расстанутся со своей извечной нуждой.
После его речи мужики долго молчали. Каждый, видно, раздумывал и прикидывал в уме: «Ишь хитер, как он завернул про межи! Сорняки на них растут! Ромашка там или тот же василек, какие же это сорняки? Красота одна, особливо когда урожай хорош…» Вдруг кто-то чуть слышно обронил слово; за ним – другой, третий, и будто плотину прорвало: заговорили все разом, громче и громче.
– Баб тоже поди объединять, или как?
– Нехай сандыревские мужики живут в коммунии, а мы не хотим!
– Оно, конечно, коммуния, может, и лучше. Но я, к примеру, отведу и лошадку и коровенку. Соха и прочее тоже есть. А Кузя вон с пустыми руками явился. А небось к общему-то котлу первым подбежит да вон с какой ложкой – восемь ртов.
– Правда, Игнат!
– Товаришши, не слухайте подкулачников! Без артели мы на своих землях с голоду подохнем. Правильно товарищ Ленин говорит. А Игнат, знаем его, церковным старостой был, нахапал.
– Я что ж… Если все, и меня пишите, – говорит Игнат Старобин.
VII
Уполномоченный курит, то и дело выплевывая изо рта ошметки папиросы, и смотрит хмуро на мужиков. Когда шум в комнате стихает, он поднимается:
– До крикунов и подстрекателей мы доберемся! Кто хочет говорить, прошу сюда!
В заднем углу встает дед Санаев. Зовут его Савватием. Ему лет девяносто, а то и более. У него белая-пребелая борода, длинные волосы отливают синевой, то ли от седины, то ли оттого, что давно не мыты. Стеганый зипун на нем латан-перелатан. Из дыр на груди и на плечах торчит серая вата. Дед Санаев переступает с ноги на ногу, размазывая худыми лаптями грязь по желтому крашеному полу. Старику кажется, что он идет, а на самом деле он продолжает топтаться на месте. Так, с места, и подает свой голос:
– А если у меня нет ничего. Ни надела, ни лошадки… то как, годен я до коммунии?
Уполномоченный пожимает плечами.
– Как так «нет надела»? Советская власть всем дала землю!
Дед Санаев плохо слышит. Он смотрит на незнакомца в кожаных шароварах и моргает белёсыми ресницами. Мне почему-то становится жаль старика. Дед Савватий живет на самом конце нашего порядка, в крохотной землянке, сложенной из дерна. Крыша у землянки необычная: вся она заросла полынью. Эта же полынь и на задах, где у других огороды. Дед живет одиноко. Когда-то в молодости он отправился с семьей на вольную, да всех в пути растерял: от голода умерли и жена и дети. Потом он долго пропадал, искал какую-то страну Беловодье, где будто вечно весна и вечно райские птицы поют, где текут белые молочные реки… Но так и не нашел такой страны, вернулся в Липяги и одиноко доживал свой век в холодной землянке. Не было у него ни семьи, ни двора, ни надела.
– Тебя, Савватий, сразу в социализму запишут! На все готовое, – шутит дядя Авданя.
– В Морозкин лог пора, а он в ту же коммунию, – смеются мужики.
Савватий постоял-постоял и сел.
Тотчас же со скамьи встал отец и, поскрипывая хромовыми сапожками, прошел к столу.
– Пишите! – коротко говорит отец. Он называет нашу фамилию и перечисляет то, что его хозяйство вносит в колхоз: лошадь, соху, телегу, корову, двух овец, десяток кур. – Сбруя справная, – добавляет он. И тут начинает кашлять. Кашляет долго, тонкая длинная шея и щеки покраснели. Откашлявшись, вытирает лицо платком и продолжает с пафосом: – Мужики! Ленин, учитель мирового пролетариата, указывает, что нет русскому землепашцу иного пути, кроме кооперации. Надо объединяться. Распашем межи! Заведем машины! Перекуем деревню… Я отходник. Работал на ситценабивной фабрике. Но, поскольку партия взяла курс на коллективизацию деревни, я решил вернуться навсегда на село, чтобы заняться землепашеством на коллективных началах…
Уполномоченный недоверчиво поглядывает на отца. Видимо, его книжная речь настораживала. Но все-таки, когда отец кончил, уполномоченный пододвинул ему лист бумаги. Отец склонился над столом, начал писать. В это время в углу поднялся дед. Борода его прыгает вверх-вниз, очевидно, он что-то говорит, но за всеобщим гулом слов его не слышно. Тогда дед вприпрыжку выбегает к столу, берет отца за руку и кричит:
– Он не имеет права писаться! Он не хозяин! Я хозяин! Отделю – пусть тогда пишется, куда вздумается, со своим кобылячьим хвостом!..
Отец отталкивает деда. Лицо его становится жестоким. Помусолив во рту карандаш, отец торопливо ставит на бумаге подпись и возвращается на место. Дед еще некоторое время трясет бородой и, не добившись признания своих прав, обиженный уходит с собрания.
Наутро отец вывел со двора кобылку, запряг ее в сани. Потом вынес из сарая соху, борону, вальки, сбрую, выгрузил все это на повозку и поехал на попов двор. Никто не помогал ему, но никто и не перечил. Дед сидел на задорге, покряхтывал; мать, проделав в окне отталину, наблюдала за отцом. Четверть часа спустя он вернулся без лошади, с пустыми руками. Пошарив в сенцах, отыскал веревку и направился в хлев за коровой. Он обратал комолку и потащил ее со двора. Корова упиралась, как бы чуя недоброе, никак не хотела переступать порог и выходить в сенцы. «А ну, Федя, стегани-ка ее!» – попросил отец. Брат нерешительно потоптался на месте, посматривая то на мать, то на отца.
Наконец отцу удалось вытянуть корову в сенцы. Овца, бывшая в одном котухе с коровой, сама вышла в открытую дверь. Вторая овца неделю тому назад окотилась. Вместе с ягненком она была в избе. Отец попросил меня выгнать ее в сенцы. Я открыл дверь в избу, но бабушка зашикала на меня, и я выскочил на улицу. Тогда отец сам выгнал овцу, а мне сунул черного длинноногого ягненка. Так мы и двинулись к поповскому дому. Корова по щиколотку проваливалась в сугробы, сопротивлялась. Овцы бежали следом.
На большом поповском дворе не протолкнуться. Ржут некормленые лошади, мечутся из одного угла в другой напуганные овцы. Чернявый шахтер и Кузя, попов работник, командуют всем этим хозяйством.
Вернулись мы с попова база к обеду. Дед все так же сидел на задорге и смолил самокрутку за самокруткой. Теперь он редко слезал с печи. Только когда наступало обычное время – время, когда он должен был задавать корм кобылке, дед, покряхтывая, шел во двор. Он чистил стойло, менял подстилку и, хотя стойло было пусто, бросал в кормушку охапку сена. Вернувшись в избу, снова лез на печку.
Так продолжалось всю зиму. Дед высох, сгорбился. С отцом почти совсем не разговаривал. Да и то, когда отцу разговоры вести? Дома он бывал мало. «Коммунальщики» заседали: каждую ночь в окнах поповского дома свет до самого утра. Деревенские подростки шныряют теперь в правление без боязни, мы с Федькой в особенности. Отец большой начальник: он бригадир. Отец заседает, а мы роемся в остатках поповской библиотеки, отыскиваем журналы с рисунками, старые, малопонятные книги.
Домой мы возвращаемся вместе с отцом. Он необычно возбужден, весел. А когда отец весел, то выражается громкими фразами:
– Растите скорее, сыны! – говорит он нам. – Учитесь лучше. Будете помогать строить колхоз, нашу новую крестьянскую жизнь…
Да, вот как оно обернулось: отец мечтал, чтобы сыновья выросли помощниками ему, чтобы они крепили «коммунию», которую он помогал организовывать. А мы?! А мы разваливаем родной курень, стираем с лица земли свое извечное липяговское гнездовье. Нам, его сыновьям, не жалко отцовского крова. Даже грачи и те, почуяв недоброе, кружат над нами и галдят.
– У них, видно, скоро птенцы будут, – сказал я, указывая на грачей. – Может, пока не надо рубить ракиты – пусть улетят выводки.
– А-а! – Федор махнул рукой. – Сняв голову, по волосам не плачут.
VIII
Потолок мы разобрали быстро. Доски и в самом деле могли пригодиться. Федор и Павел Миронович уселись отдохнуть на задорге. Закурили.
– Эх, теперь бы дедова Андрея табачку, самосада, – сказал Павел Миронович.
– Да. То хороший табак был, – согласился Федор.
Мне стало грустно от воспоминаний. Я выпрыгнул сквозь выставленное окно и, проваливаясь по пояс в соломе, выбрался к раките. Митяй и Степан убирали сучья обрешетки. Я стал помогать им.
Они были очень разные, эти младшие. Степан – самый-самый последний, «поскребыш», как его звала мать, – чубатый, большелобый. Он парень бесшабашный. Ему все трын-трава: ломать так ломать! Подумаешь, и без дедовского дома проживем! Бесшабашный он не только по молодости, а скорее из-за внутренней щедрости, из-за таланта. Ему все дается удивительно легко. Он не утруждал себя учебой. Бывало, придет из школы, бросит на лавку узелок с книжками, схватит кусок хлеба – и был таков. Чтобы он корпел над этими задачками?! Никогда! Вот лясы точить, говоря словами матери, он мастер. Сплясать там, разыграть какую-нибудь комедию на сцене – это его дело.
В сумерках мать моет картошку, спешит, суетится, гремит чугунками. А Степаха театрально выставит перед ней руку и ну читать:
– «О, будь в несчастном сорок тысяч жизней! Одной мне слишком мало для отмщенья. Теперь я вижу – правда все. Смотри, всю эту глупую мою любовь я шлю ветрам: подул – и нет ее. Восстань из бездны, ужас черной мести!..»
Мать отстранится, недоуменно глянет на него, не рехнулся ли? А он расхохочется и, вдруг посерьезнев, скажет:
– Шекспир, «Отелло». Сегодня я представляю. Приходи, мама!
Мать только отмахнется в ответ: не до «лясов» ей.
Степан и дня не работал в колхозе, после семилетки поступил слесарем в депо. В учениках недолго ходил: ему сразу же станок доверили. В первую же получку Степан принес столько денег, что Митя в колхозе за полгода не заработает. Тот злился, топорщился: «А, все легкой жизни ищут! Никто вон в колхозе холку гнуть не хочет…»
Был он не в нашу породу, Митяй. Мы все видные из себя, а он рос плохо, какой-то корявый, ершистый, как сук поломанный, весь в деда. Кажется, он и родился этаким маленьким мужичком. Курить начал чуть ли не с восьми лет. Правда, все деревенские мальчишки рано начинают баловаться табаком. Но именно баловаться, пробуют это зелье тайком, возвращаясь из школы, или вечером где-нибудь в низах, за баней. А Митя сразу же с малолетства начал курить при всех, в открытую. Он не забивал себе голову всякими стишками, как Степан. Школу бросил рано, в десять лет в косьбе не уступал любой бабе, а в четырнадцать – хоть и числился прицепщиком, но на самом деле подменял в ночную смену тракториста.
Зато у Мити было то, чего не хватало нам, другим братьям: он любил землю. Мы, видно, пошли в отца, а он в деда. Отец хоть и суетился, а порой и других учил, как надо пахать, скажем, или сеять, но у самого у него не было той сноровки, какая была у деда. Для разъездов Чугунок, наш председатель, выделил отцу лошадь и рессорную тележку. Другие бригадиры не слезали с этих самых тележек. Отец же никогда в ней не ездил: он и без тележки всю округу за день обежит почем зря. Встанет, бывало, чуть свет, сажень на плечи – и был таков! Мать ворчала:
– Вон и Кипяток, и другие бригадиры на рессорных тележках разъезжают, а ты… За весну пару сапог сбил… дюжину портянок сгноил. На обуву поди не заработаешь…
– Я не управляющий барским имением! В артели все равны. Почему ты должна ходить пешком, а я ездить на казенной лошади?! – отвечал отец.
Но это была отговорка. Ему просто не хотелось возиться с лошадью. Чтобы снарядить выезд, надо идти через все село на конюшню; надо собрать сбрую, запрячь непослушную конягу да потом весь день о ней заботиться, вовремя ее корми, пои. Все это обременительно. Куда проще – опорожнил кринку кислого молока, подтянул повыше штаны, вскинул двухметровку на плечо и пошагал: ни забот, ни хлопот.
А для деда повозиться с лошадью – ни с чем не сравнимое удовольствие. Конечно же, он стал колхозником вместе со всеми. В артели его определили ночным сторожем. В страду сторожил на току, а зимой у амбаров. Днем дед возился по хозяйству и ни на какую иную работу не выходил, кроме той, когда нужно иметь дело с лошадью. Только скажи ему: «Дедушка Андрей, съезди туда-то, привези то-то…». Минуты не замешкает, бегом побежит. Он к чужой лошади не подойдет; непременно свою кобылку обратает. При этом накричит на конюхов, что в стойле у нее давно не чищено, что овсеца мало задали перед поездкой… Одним словом, найдет причину поворчать. Выведет кобылку на волю, погладит ей гриву, почистит щеткой бока, круп. Когда вводит в оглобли, надевает хомут или там прилаживает чужую порванную сбрую, разговаривает с лошадью, и она знает, с кем имеет дело: кобылка шустро, в тонкости выполняет малейшее его желание и все время бодро помахивает хвостом…
Наконец дед запряг ее. Не спеша обойдет вокруг повозки, потрогает оглобли, посмотрит, крепко ли затянута супонь, не высоко ли поднят чересседельник, и, только убедившись в том, что все в порядке, берется за вожжи. Сел он в повозку – и будто помолодел на двадцать лет. Приободрится, приосанится, да выставит перед собой руки, да крикнет: «Сторонись!» Кобылка с места рысью, так что у деда шапка соскочит с головы.