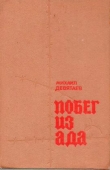Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
За едой Казак вспотеет, снимет плащ, расстегнет ворот посконной рубахи; черные глаза его соловеют.
Мать ласкова с пастухом. Она подливает в миску холодного кваса, а сама все заводит разговор про свою комолку. В этот год, мол, корова хорошо кормлена, особенно как стали гонять в Свиную Лужжинку… И сор не ест, и ботву…
Казак, в свою очередь, хвалит комолку: смирная корова, никогда не отбивается от стада…
Это повторяется всякий раз, каждый год: мать хвалит пастуха, а пастух – корову. И каждый год все лето мать носит мешками сорную траву, чтобы накормить голодную корову, и каждый год наша комолка ходит с синяками от пастушьих кнутов: она хоть и хорошая корова, но на редкость упряма и непослушна.
…Пока казачата наедаются, мы, пацаны, глазеем на них в открытое окно: а ну как дядя Казак разрешит потрубить в рожок или даст кнут пощелкать. Такое редко случается – пастух не велит баловаться своей амуницией. Иное дело подпаски. Рожки и кнуты свои они складывают в сенцах. Подойдешь к окну и скажешь:
– Грунь! – и, сложив ладони трубкой возле губ, покажешь ей, что, мол, подудеть хочу.
Грунька тряхнет головой, и тогда бежишь в сенцы, берешь ее дудку и кнут и трубишь, и щелкаешь кнутом сколько душе угодно – на зависть соседским ребятам. Они стоят тут же; они знают, что завтра пастух столуется у них. Значит, завтра медная дудка будет и у них в руках…
Вот, наконец, пастухи поели. Казачата выходят из избы и в той же последовательности, как шли раньше, направляются домой. Первым идет Казак в шляпе, следом – казачонок поменьше, еще меньше…
И, как всегда, последней бежит чумазая Грунька.
VII
В избе Грунька тихая. Сидит и только уплетает картошку да хрустит огурцом. За весь вечер слова не скажет и глазами в сторону ребят не поведет. Зато в школе она – сущий бесенок. Ни одному мальчишке в драке не уступит.
Вечно-нечесаная, босоногая, Грунька отличалась выносливостью и изворотливостью. Она никогда не болела, хотя всю зиму бегала в плисовом легком пиджачке; никогда не ябедничала, хотя ей больше других девчонок доставалось в потасовках… Вот вспыхнет на перемене драка. Трещат чубы и рубахи, слышны вскрики и удары кулаков. Кто-то побежал звать дежурного по школе. Девочки с визгом разбежались в дальние концы коридора. Глядь, бежит Груняша и ну разнимать дерущихся. Молча набрасывается на ребят, царапает лица ногтями, кусается, отбивается ногами. Глаза у нее блестят, черные кудри прилипли к потному лбу.
Ребята озлятся, набросятся на Груньку. А та забьется в угол и шипит: «Что! Получил?! Получил?!» Только слышно, как трещат в ее цепких руках мальчишеские портки и рубахи.
Когда прибежит дежурный, разнимать и успокаивать некого: Груня сама навела порядок.
Училась Грунька кое-как, вечно у нее ни тетрадей нет, ни учебников. Зато росла лучше многих своих подруг.
Помню, дня за два до начала занятой в седьмом классе я прибежал в школу узнать расписание. На площадке второго этажа перед фанерным щитом, на котором приклеено расписание, толпились ученики. Я подошел. Пришлось встать на цыпочки, чтобы разглядеть, где седьмой «А». Впереди меня стояла девушка – рослая, в голубом белым горошком платьице. Смуглая шея, красивые руки, коса. И какая коса! Такой косы я и после никогда не видывал: густая, длинная, отливает синевой, как воронье крыло.
У меня так и захолонуло что-то внутри. Смотрю на щит, а ничего не вижу. Графы, дни недели – все слилось в одно пятно. Только и вижу эту косу. Девушка вертит головой, отыскивая нужную графу, а коса так и переливается змейкой.
И мешает мне девушка – не видно за ней ничего, – и толкнуть ее боюсь: а ну как это какая-нибудь новая учительница!
Но вот девушка обернулась. Я так и остолбенел: да это Грунька!
– Груша, здравствуй! – обрадовался я, протягиваю ей руку.
Грунька сделала вид, что не заметила моей руки, слегка кивнула мне головой, перекинула косу наперед и пошла вниз по лестнице, полная девичьего достоинства…
Много лет спустя, став учителем, я не раз наблюдал в учениках такие резкие перемены, связанные с возрастом. Но тогда меня поразило необычное превращение Груньки из озорной, неряшливой девчонки в строгую, красивую девушку. Правда, она всю зиму ходила в школу в этом летнем платьице горошком. Теперь, однако, оно всегда было хорошо отстирано и выглажено. Ни в какие потасовки с ребятами Грунька не ввязывалась, никого больше не царапала. И вообще, казалось, что нас, своих однолеток, она не замечает. У нее появились подруги постарше.
Вечерами она ходила на посиделки. На посиделках на нас, школьников, цыкают («Шляются тут без толку – холодят избу!»). А Грунька сидит за столом вместе с невестами. Девушки вышивают, играют в жмурки. Иногда приходит гармонист. Начинается пляска.
Грунька выйдет в круг – упружистая, подобранная, словно дрофа перед взлетом, тряхнув длинной косой, запевает:
Холодна вода в колодце,
холодна, не видно дна…
Произнося первую часть припевки, Грунька стоит не двигаясь, лишь чуть раскачивается при этом и змеится коса у нее на спине.
Но вот в такт музыке Грунька переходит на новое место. Теперь мне видно ее лицо – смуглое, чернобровое.
Груньке весело. Пристукивая по полу каблуками стоптанных туфель, она поет вторую часть припевки;
Раньше парочкой ходила,
а теперь хожу одна-а…
И, плавно поводя бедрами (как делают старшие подруги), становится на прежнее место.
Пляшет Грунька легко, припевок знает много. Девки любят плясать с нею в паре. Но она не только хорошо отбивает дробь и мастер припевки петь, Грунька, на удивленье всем, и вальсы крутить умеет.
На селе, в клубе, раз в неделю показывают кино. После сеанса киномеханик складывает аппарат в серый ящик и относит свою музыку в сенцы. Пожилые колхозники расходятся по домам. А для молодежи представление только начинается. Ребята убирают скамьи, на стол вместо кинопередвижки водружается патефон. Накрутив до отказа рукоятку, Пашка, киномеханик, ставит пластинку. Звуки вальса наполняют крохотный зал липяговского клуба.
От духа человеческого, от мужичьих ватников и полушубков над лампой-молнией стоит сизоватое облачко.
– Приглашаю! – раскинув руки в стороны, киномеханик обходит круг девчат.
Девушки, говоря по-нашему, жеманятся. Они сбились в угол, к печке, и, ухмыляясь, поглядывают на парней. Ребята заняты своим обычным делом – стучат костяшками домино. Они делают вид, что вальс их не интересует, а в действительности – никто из них не умеет танцевать, потому они презирают Пашку.
А тот выкручивает коленца:
– Выходи, черноглазая! Не умеешь – научу! – Он делает па и останавливается перед Груней.
Груня не жеманится, как другие. Она снимает пальто, отдает его подруге. На ней все то же платьице горошком… Помялась немного Груня, глянув на свои стоптанные туфли, и шагнула Пашке навстречу. Тот положил руку Груньке на талию, и они закружились…
Девчата выстроились в круг.
«Пошла-таки!» – думаю я, наблюдая за Груней. Я играю с ребятами в домино. Стол, за которым мы сидим, находится на сцене. Отсюда мне все хорошо видно.
Пашка и Груня кружатся. Они танцуют не очень согласно, но им хорошо вместе. Коса у Груньки отделилась от плеч и плывет по воздуху. И сама она, кажется, тоже плывет – настолько легко она танцует.
Мне почему-то становится не по себе оттого, что Грунька так быстро, сразу, согласилась пойти танцевать с Пашкой. Киномеханик не наш, не липяговский. Парень он так себе: рыжий не рыжий, конопатый не конопатый – не поймешь. Ребята относятся к нему пренебрежительно. Они окрестили его кличкой Перепел и иначе, как Пашкой-перепелом, не зовут.
И ростом Пашка-перепел не удался, и волосы на голове реденькие, белесые, и глаза у него какие-то рыбьи, бесцветные. Невидный, одним словом, парень, но говорун, каких поискать! И кино, когда показывает, объясняет, и танцует с присказкой да с прибауткой:
– Кружись, лети, голубушка! Эй-эй, не то на пятки нам с тобой наступят. Ишь их сколько, танцоров и танцовщиц!
Ребятам Пашка-перепел не нравится, а девки – гуртом возле него. Он еще только афишу у сельпо вешает, а они уже обступили его, докучают:
– Паша, какое кино сегодня?
– «Свинарка и пастух», голубушки. Приходите – лучший фильм года! Опоздаете – не пущу.
Девушки, слушая его, шушукаются: у Пашки новые брюки в клеточку, желтая тенниска на молнии…
Паша – парень разбитной. Когда, случится, во время танцев погаснет «молния», он лапает девок, и они ничего, не убегают, а только взвизгивают.
Оно и понятно, Пашке-перепелу много надо успеть за вечер: и кино показать, и танцы покрутить. Мы все время в Липягах живем, а Пашка – он передвижной: сегодня у нас культуру внедряет, а завтра – в Хворостянке или где-нибудь в Дальних Выселках.
Девкам нравится киномеханик; они с завистью смотрят, как он крутит Груньку и все норовит прижать ее к себе. А мне Пашка не нравится. Не по душе мне и то, что Грунька разрешает прижимать ее. Я бросаю косточки домино на стол, говорю ребятам: «Хватит. Поздно уже», – и, не окончив партии, ухожу один из клуба..
VIII
Прошла зима, полная необъяснимых волнений и тревог. Весны в тот год почти не было – сразу наступило знойное лето.
Летом легче. Летом я редко вижу Груню. Она давно уже не ходит в подпасках. Старшие братья ее стерегут колхозное стадо, а ей отделили подтелок, и она с ними. Один лишь Казак по-прежнему нанимается к «обчеству», но подпасков берет со стороны.
Груню я вижу только на «кругу» – так зовется у нас место в центре села, где вечерами собирается молодежь. Груня еще больше похорошела, загорела. Когда приезжает с кинопередвижкой Пашка-перепел, они вместе ходят по кругу, и Пашка провожает ее до дому.
За лето я не обмолвился с Груней и словом. А осенью мне сшили настоящие мужские брюки. Взвалил я на плечи фанерный чемоданишко, набитый вареной картошкой и ржаными сухарями, и поехал в Скопин. Я стал студентом педагогического училища. Вместе с новыми заботами появились и новые друзья, и на какое-то время я совсем забыл про Груню и ее расчудесную косу.
Вдруг получаю из дому письмо. Среди других деревенских новостей мать пишет:
«А на красную горку было сразу три свадьбы. Васька Тяпин взял Нюшку Гришаву. А Бу-бо – Клаву Ефанкину. А еще Грунька Казачиха вышла замуж за механика, который с кино к нам ездит. Теперь хлопочут, чтоб усадьбу им дьячкову отдали, к нам переселиться хотят…»
И не дрогнуло, не заколотилось у меня сердце, когда я прочитал это. Только отчего-то грустно стало. Я ушел за город, на Вёрду, и весь день шатался в лугах, только что освободившихся от снега. А заколотилось у меня сердце потом, когда я приехал в село на каникулы. Оно всегда колотится и сжимается, щемит как-то, когда я один иду со станции. Еще издали, едва покажутся ракиты и серые соломенные крыши, вздрогнет неожиданно сердце: какие ни есть Липяги, а все-таки роднее их нет уголка на всей земле!
Город, друзья – все позабыто. Видишь соломенные крыши, вдыхаешь запах цветущей ржи, и ноги сами ускоряют ход. Во ржи перепела.
Перепел, перепел… Пашка-перепел… И я сразу представил себе Груню: белое платье, черная коса. И рядом с Груней – рыжий, бесцветный Пашка.
Вот тут-то и заколотилось сердце!
А наутро я увидел Груню.
Был какой-то деревенский праздник – духов день. Все село – от малого до старого – высыпало на церковную площадь. Мужики толпятся возле церковной сторожки, бабы и ребятишки стоят в сторонке, у сельпо.
Среди толпы я вижу молодых. Груня в новом цветастом платье, Павел в белой рубахе, рукава по-деловому засучены.
Больше других мужиков суетится мой отец. Он принимает в бригаду новых работяг – Груню и ее молодого мужа. Поженились они, а жить-то где? Правление решило передать им под дом церковную сторожку. Церковь сломали еще года два назад, а деревянный домишко, в котором жил когда-то церковный сторож, одиноко стоял под тополями. Сначала думали отдать его кооперативу, под склад. Но отец наш, Василий Андреевич, настоял на своем, и домик подарили молодым. За себя отец хлопотать не любил, ну а за других, как говорится, костьми лечь готов. Мол, Казак всю жизнь пастушил у общества – заслужил подарок. Пашка, муж Груни, из беспризорников, значит. Молодых подбил, чтобы они голос свой подали, – и вот сельсовет вынес решение: подарить сторожку молодоженам.
Небольшой домишко, но не очень старый и к тому же крыт железом. Теперь стены его схвачены рейками, свинчены болтами. Мужики решили, не разбирая, перекатить сторожку к нам, на Кончановку.
Вот зачем и собрался народ. Одни поглядеть пришли, все равно как цирк или спектакль в городах смотрят: не каждый день небось перекатывают дома на новое место! Другие и взаправду решили помочь. Вагами приподняли домик, сдвинули с фундамента – и на катки. Лошадей полдюжины, а то и больше в вальки запрягли. «Но!» – и пошло, и пошло – лишь успевай катки с места на место переносить.
До самого попова дома довезли без единой заковыки. А тут, возле дома отца Александра, промоина. Неглубокий будто овражек: в половодье да в ливни течет вода. Мост бы давно пора сделать, да, знаете, как у нас, в Липягах, водится: авось ничего, сойдет… И так ходить можно.
Теперь избушка уперлась краем стены в обрыв – и ни с места. Мужики свернули самокрутки, стали думать, что делать. Как всегда в таких случаях, находится много советчиков. Кто предлагает овраг землей засыпать, кто вагами надеется дом приподнять. Суетятся, кричат: порядок у нас лишь до тех пор, пока дело хорошо идет, а начнись неудача – каждый в свою дуду задудел! Кое-как отец наш всех перекричал, настоял на своем.
Решили новых лошадей впрячь, а дом вагами приподнять, может, вытащить удастся. Конюшня, благо, рядом. Усталых лошадей мигом выпрягли, отвели, новых впрягли и – «Но-о! Но-о!» Мужики кольями низ дома приподняли; венцы заходили ходуном; скрипнула крыша… Дом сдвинулся и полез в гору. Ребята, которые к каткам были приставлены, замешкались, видно, не ожидали, что избушка сдвинется. Еще миг – и дом на землю бы сел.
Молодой-то, Пашка-перепел, видя такое дело, схватил бревно, хотел под самые полозья подсунуть. Да не рассчитал – самого под дом подмяло вместе с бревном…
Не видел я толком, как это все случилось. Только слышу крик; «Стой! Сто-ой!» Лошади спутались. Кто-то из баб испуганно взвизгнул.
И сразу же:
– Па-а-ша-а-а!
Ее, Грунин, голос.
Протиснулся я сквозь толпу, вижу, Груня припала к Пашке, тормошит его. А он лежит на земле, лицо – желтее воска, белая рубаха в пыли, ноги неестественно вывернуты…
Груня целует мужа, обливаясь слезами, по-бабьи причитает:
– Пашенька, как же ты так?.. Соколик мой!..
Думала с оторопи, что насмерть придушило.
Но только мужики отнесли его в сторонку, под холодок ракит, как Пашка открыл глаза, огляделся и говорит:
– Ногу переломило…. Какой же я теперь культурник с кривой-то ногой?..
Сбегали за фельдшером.
Фельдшер перевязал перебитую Пашкину ногу, запрягли лошадь и мигом отправили Пашку на станцию в больницу.
Сторожку кое-как дотащили до места, бросили ее на пустыре между домом отца Александра и избенкой Бориса и Химы. Бросили и разошлись, все молчаливые и угрюмые, как с похорон.
И долго стояла потом эта скособоченная, свинченная ржавыми болтами изба, пугая черными провалами выставленных рам.
На всю жизнь запомнился мне этот день: яркое солнце, шумная толпа мужиков и баб на церковной площади…
IX
День этот запомнился и потому, что тогда, на площади, я в последний раз видел Груню счастливой и молодой.
Нелегкая бабья доля сразу же обрушилась на Груню и надломила ее.
Казалось бы, все у молодых со временем наладилось. Осенью вернулся из больницы Пашка-перепел. Он еще прихрамывал на больную ногу и ходил с костылем, но начал помаленьку возиться, хлопотать возле сторожки. Грунька с поля прибежит, ему помогает; братья ее придут, подсобят. К зиме и стекла в избе вставили, и печку сложили, и завалинку из глины смазали. Одним словом, появился у молодых свой угол.
Не знаю, когда они перебрались в него окончательно: осенью я уехал в город учиться. Вот приезжаю зимой на каникулы, иду как-то утром к колодцу за водой, вижу: баба какая-то незнакомая бадейку достает. Ватник старенький на той бабе, голова повязана серым полушалком.
Подхожу ближе – и захолодел весь: Грунька ведь это! Только как же свернуло ее за какие-то там полгода! И не узнать девки.
Подошел я. Поздоровались. Я ей про новоселье что-то говорю, а она мне в ответ:
– Ох, уж это новоселье! Не новоселье, а слезы одни. Печку сложили – дым не в трубу, а в избу все норовит. Так и топлю по-черному. Кто ж печку зимой перекладывает?
Она с двумя ведрами к колодцу пришла. Одно налито, другое нет.
– Давай помогу, соседушка… – Беру пустую бадейку, начинаю опускать.
А Груня стоит напротив и как-то застенчиво поджимает руки на животе. Понял я, беременна. Да что уж, разве это ладонями прикроешь! Да и зачем прикрывать?
Стал я выливать воду из бадейки в ее ведро и говорю шутя:
– Чем наш порядок хорош, что ни стадо тут не гоняют, ни машины не ездят. Карапузам у нас раздолье!
– Оно и видать, какое раздолье! – отвечает Груня. – Из-за одной воды руки скоро отсохнут…
– А ты что ж сама бегаешь? Муженек молодой, пусть носит.
– А где он, муженек-то! – Груня неловко улыбнулась. – Уселся в санки, да и разъезжает по селам со своим ящиком…
– И как же ты одна?
– Ничего, управляюсь.
Грунька подхватила ведра и пошла тропкой к дому. Я проводил ее взглядом. Нелегко, видать, ей. Встанет затемно, воды принесет, печку истопит – и в колхоз на работу бежит. Намотается за день, вернется домой, а тут – прибраться надо, поросенка, кур накормить.
Когда б ни встретил я Груню, всегда она грустная. Черные глаза ее погасли, запали, а в них тоска невысказанная. «А где мой Пашок беспутный? Может, в каких-нибудь Выселках теперь… обучает танцевать такую же глупенькую, как и я…»
Одной жить – все бы еще ничего.
Но пошли дети.
Когда я приехал в деревню не этим, а другим летом, то на поляне перед Груниным домом ползал крохотный Перепеленок. Мальчик был черноглаз в мать, но белоголов, как отец.
Яслей в колхозе не было, и Грунька вертелась как белка в колесе: и в поле бежать надо, и малыша одного оставить боится. Все подбрасывала его соседским старухам, те и приглядывали за малышом. Но когда уж очень суетно с ним становилось, уговаривали Груню, чтобы она в бригаду не ходила, дома осталась. Но Груня о том и слышать не хотела.
Не знаю, чем приворожил ее наш отец, но она стала самым надежным его «кадром». О таких, как Груня, Василий Андреевич говорил с гордостью:
– Это закоренелая колхозница! На такую можно положиться!
«Закоренелыми» отец называл тех, кто навсегда связал свою судьбу с колхозом. Такие, как Груня, не уедут в Каширу, не убегут на шахты: им некуда податься.
Как некуда? А Пашка-перепел?..
Пашка появлялся редко. Заявится, пощебечет – и был таков.
Ни кола ни двора вокруг избы, а он весь вечер на крыше с антенной возится – радио устраивает. Или сядет на завалинку, гармошку на колени – и давай наигрывать разные вальсы из кинофильмов.
Как милы, как дороги были для Груни эти скупые побывки его! Сразу она молодеет: сарафан новый, может, им же, Пашкой, в подарок привезенный, наденет: косу, неделю не чесанную, переплетет заново с лентами; и такой молодой, такой красивой вдруг станет – девушка, а никак не «закоренелая»… Подружек позовет. Отобьют дроби, вальсы покрутят и разойдутся затемно.
А утром, чуть свет, прогремит по пыльной улице таратайка. Это Пашка-перепел со своими жестяными коробками покатил… Прогремит таратайка – и снова неделю, а то и две подряд кручинится Груня.
Так и шла она, жизнь.
Груня работала в колхозе, а Пашка, беспутный муженек ее, разъезжал по округе со своими жестяными коробками. Считанные ночки в родной избе ночевал. И трудно было понять, как это случалось, только что ни осень Грунька, как говорят бабы, «чижалела».
Тем самым днем, когда началась война, она родила четвертого…
X
Грунька родила поздно вечером. А часами десятью раньше, в полдень, муж ее, Пашка-перепел, был призван в солдаты. Он забегал к ней утром – она лежала еще в палате – обещал прийти в обед, но так и не пришел. Не пришел он потому, что вместе со всеми другими липяговцами Пашку-перепела постригли, помыли, переодели в солдатскую форму и погрузили в эшелон. И поздним июньским вечером, когда на жестком топчане нашей районной больницы Грунька родила, эшелон этот находился уже в Ряжске, в ста километрах от Липягов. Из Ряжска их, Пашкин эшелон, прямым ходом двинули на Вязьму, в самое пекло.
Вскоре и меня призвали в армию. До самой осени я пробыл в артучилище. А осенью, по первому снежку, уже выкатывал свою пушчонку на опушку леса возле Ракони, что под Тихвином. Пока был в училище, получал из дому письма. Писала их мать. Она всегда писала только карандашом, мусоля во рту огрызок и ставя после каждого слова точку.
Писала мать о том, что вторую неделю нет весточки от Ивана, а Федор на Украине воюет, что третьего дня она видела во сне, будто я маленький и плачу у нее на руках. Не угнали бы и меня на фронт…
И все в таком роде. Да и то, о чем же другом может писать мать, у которой трое в солдатах? Не о Груньке же, не о Пашке-перепеле, непутевом ее муженьке.
Года два я ничего не знал о Груньке.
Но вот я отвоевался, отвалялся свой срок по госпиталям и вернулся домой. И первой в нашу избу прибежала Груня.
Я еще спал наутро после встречи, спал на родительской постели – в заднем углу, за занавеской. И вдруг сквозь сон слышу женский шепот. Различаю отдельные слова матери:
– Ох, такие ужасти рассказывал… В письмах писал: ничего, мама, жив-здоров… А стал рассказывать, как бомблять весь день… страх да и только!
Что-то шепчет другой голос. Вздох. Опять голос матери, повествующий о фронтовых «ужастях». Опять вздох.
Я слушаю рассказ матери и эти вздохи и смотрю на потолочины родной избы. Припоминается каждый сучок, вижу ржавые костыли, вбитые в матицы. На них подвешивали люльки с ребятами. И я когда-то качался. Мать шутя рассказывала, что я любил спать в люльке и чуть ли не до школы меня укладывали на ночь в плетенку. Это продолжалось до тех пор, пока однажды не проломилось в люльке дно и я полетел на пол. С тех пор меня укладывали спать на коник.
Да-а… Смотрю на потолочины избы, слушаю бабий шепот и не могу никак понять: кто это шушукается с матерью?
– Взгляну хоть одним глазком, какой он стал? – говорит собеседница матери.
Слышу шаги. Вот отдернулась занавеска, и я сквозь полуприкрытые веки вижу Грунино постаревшее, поблекшее лицо. Грунька посмотрела на меня скорбно, с состраданием, как смотрят на покойников, и снова задернула ситцевую занавеску.
– Носатый стал какой-то, – сказала она и опять вздохнула. – Ну, я побегу, теть Палаг… В обед зайду, может, он где Пашку мово видел…
– Заходи. Как же…
Грунька ушла. Немного погодя я встал и пошел в чулан умываться. Мать, суетясь у загнетки, рассказывала:
– Грунька Казакова прибегала. Все выспрашивала, не встречал ли ты, случаем, ее Пашку… Вестей от него давно нет.
– Он что – под Тихвином воевал? – спрашиваю.
– Кто ж знает… Прошлой осенью будто под Смоленском оборону они держали. Письма писал, деньги слал. Писал, что больно хорошо устроился. Радистом при штабе. Карточку выслал – ну не узнать! Морду разъел – во-о! – Мать повернулась от печки и, надув щеки, показала, какую морду разъел Пашка. – Да-а… Только с тех пор, с прошлой осени-то, ни ответа ни привета. Как в воду канул. Грунька и к командиру ихнему писала, и в Москву. Нет сведеньев – ответ. Вот теперича у Груньки сумленье такое: бывает на фронте так, чтобы Пашка ее, который не на самой передовой был, а в штабе, – могло ли случиться так, чтобы его убило? Она считает, что не может быть. С тем и приходила.
– На фронте всяко бывает, мама, – сказал я. – И штабы при бомбежке гибнут, и целые армии в лесах да болотах теряются…
Мать молча собирала на стол.
Не успел я сесть за завтрак, снова прибежала Грунька.
– Теть Палаг… Дай терку! Хочу картошки потереть, крахмальцу откинуть… – и, будто только теперь заметив меня, удивленно всплеснула руками: – Андрей Васильч! Заявились-таки! Ну, с возвращеньицем вас!
Груня села на коник и тут же позабыла про терку, за которой пришла. Села она на край коника и стала расспрашивать про Пашку своего: не видался ли я с ним? Да бывает ли так на войне, чтобы штаб большой под бомбы попадал?.. И письма Пашкины она принесла, и карточку, где он в форме радиста снят.
Не до еды мне стало, начал я читать письма, карточку посмотрел. Прочитал, посмотрел – хочется мне успокоить Груню, вселить в нее надежду. Говорю, что на войне, оно конечно, все случается. Но поскольку Пашка в штабе служил, то едва ли. Штабы в тылу, у них – охрана.
– Охрана, значит. А может, потому не пишет, что другую нашел?.. – говорит Груня.
Смотрю я на ее постаревшее, осунувшееся лицо, на ее руки, так похожие на руки моей матери, – потрескавшиеся, изъеденные осотом, в мозолях от нелегкого труда, – и мне не верится, что это та самая Грунька, с которой мы вместе бегали в школу. Она вспоминается мне такой, какой я увидел ее однажды после каникул у доски с расписанием уроков: платье, коса до самых пят и гордость девичья, впервые проявившаяся в ее взгляде, в ее походке…
Где ты, та Груня?..
Наговорившись, поплакав, она встала с коника. Я вышел ее проводить.
– Заглянул бы, Андрей, поглядел бы моих помощников, – сказала Груня, прощаясь на крыльце. – Такие все хорошие ребята, особливо последний. Ну вылитый Пашка! У тех хоть глаза мои, а у этого и глаза его, голубые. Проснусь ночью, укрою их, приласкаю… а все утехи нет…
И она посмотрела на меня, а я на нее.
Она не отвела своих глаз. И в них были тоска и любовь к тому самому Пашке-перепелу, который разъезжал по селам в таратайке.
И еще было в ее глазах что-то, что высказать мне она не могла…
XI
Никому она не могла рассказать про то: ни мне, ни мужу, случись ему вернуться живым с войны, ни сыновьям, подрасти они и стань мужиками… Потому как словами не передаваемая, только сердцем одним выстраданная да слезами выплаканная бабья доля!
Легко ли одной, без мужа, без коровенки, а зачастую и без крошки хлеба растить их, четверых детей? Накормить, обстирать, спать уложить… В поле успеть сбегать, огород лопатой вскопать…
Это все бы ничего, но среди людей живешь: председателю угоди, бригадиру угоди…
Каждому по-своему, да всякая-то баба по-разному…
Отцу моему, что в военные годы в председателях крохотного колхоза нашего ходил, угодить нетрудно. «Закоренелой» надо быть – и все. Выходи вовремя на работу, ворочай вместо мужиков, ушедших воевать, – вот и угожденье все.
Труднее угодить бригадиру – молодому зятю Чебухайкину. С этим надо ласковой быть.
Если ты мужнина жена, можешь и «здравствуй» ему не говорить, и без этого будешь хороша. Если ты замужняя и от мужа того письма с фронта получаешь, то ставь ты этому самому Глазку бутылку горилки – и огород будет вовремя вспахан, и скотине на зиму корм запасен. Но если ты солдатка-бобылиха, похоронную ли получила или год-другой весточки от него ждешь, надеешься – все одно: от тебя иная ласка нужна бригадиру.
Чуть свет стучится Глазок в избу:
– Груня, видчиняй!
Босоногая, в домашнем, давно не стиранном сарафане, Груня возится с чугунами возле печи. Услыхала голос Глазка, вздрогнула: ухват поставила к загнетке, волосы нечесаные рукой пригладила – и в сенцы. Не спешит отдернуть засов, так, через дверь, спрашивает:
– Чё, Григорий Иваныч?
– Та видчини, дило е!
– Шел бы к Тане Виляле, Гриша, – говорит она тихо. – Чего пристал как банный лист…
– Та видчиняй швидче! Председатель солому возити наказывал. Пойдешь в поле чи рожь сортувати будешь?
Груня знает, что эти слова Глазка про наряд только предлог. Она-то догадывается, зачем бригадир стучится в такую рань… Груня раздумывает минуту-другую и открывает засов.
Следом за нею бригадир входит в избу. Входит Глазок в избу, шлем с головы снимает, кожух свой меховой, на молниях, на гвоздь у самой двери вешает и садится на табуретку поближе к печке. Атласный кисет из галифе достанет, газеты листок и начинает свертывать самокрутку.
Сидит он спокойно, и такой вид у него, что ничего-то ничегошеньки ему от Груни не надо! Что так хорошо ему сидеть в отсветах печного огня, вдыхать утлый избяной запах… Мастерит он самокрутку и все заглядывает на печку. Головенки ребят не шевелятся – значит, спят хлопцы, значит, вовремя пришел!
Глазок встает и тихо, на цыпочках, подходит к Груне. Она задвигала чугунок в печь и не слышала, как он подкрался к ней. А когда увидела, то вынула из печи ухват и погрозила им бригадиру.
Тот ухмыльнулся.
– Дай огоньку прикурити! – и самокрутку ей показывает.
Груня отыскала на полу щепку, вытянулась вся, как струнка, на носочках и потянулась к горевшему в печи огню. Глазок стоит рядом, на ноги напрягшиеся ее смотрит, а у самого только желваки на щеках ходят.
Вот Груня достала огня, протягивает ему зажженную лучину. Бригадир на ее глазах мнет самокрутку – ф-фу! – и гасит лучину. Лучину погасил, а руки свои кладет Груне на плечи. Они у него теплые-теплые, такие теплые, что от их тепла Груня сама загорается, как та лучинка.
От теплоты его рук, от тепла его слов…
Глазок не нахальный, не такой, какими иногда бывают мужики. Будь он грубым и нахальным – легче б было. На грубость Груня нашлась бы чем ответить, но против ласки какая женщина устоит?
Прижимая Груню к себе, Глазок целует ее и горячо шепчет ей на ухо:
– Груня… коханка моя! Ну что ты чинишь отпор?.. Погиб же твой Пашка…
У Груни сердце заходится от его слов, от его ласки. Глазок чует эту минутную слабость, он подхватывает ее на руки и несет к не убранной еще постели.
– Ну, чего уж!..
Знает Груня, что не к одной к ней заглядывает Глазок вот так по утрам. И сдайся она теперь, он пришел бы к ней лишь через неделю, а может, и совсем не пришел бы, кто ж их, мужиков, знает. И работала бы она в тепле, и соломы бы приказал бригадир привезти. А так – каждое утро с нее начинает: измучает, изведет да в отместку за ее норовистый характер в поле завьюжное зашлет на весь день.
– Гриша, отстань, дьявол… закричу! – Стиснув от обиды зубы, Груня нащупала рукой повязку на раненом его глазу, сорвала ее.
Глазок не ждал этого. От неожиданности он разжал руки. Встав на ноги, Груня отталкивает его и бросает ему в лицо скомканный бинт.
– На-а, возьми! Будешь еще приставать, вышибу и последнюю глазелку чапельником!
Глазок нехотя отступает. Он садится на коник и начинает распутывать бинт и прилаживать повязку. Покончив с повязкой, не спеша мастерит новую самокрутку. Теперь ему «не треба огонька» – он прикуривает от спички и, попыхивая самокруткой, «агитирует»: