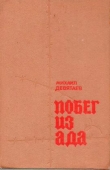Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Небось, як живий був, давно бы прописал… И зачем губить свою молодость…
Грунька молча суетится возле загнета. Когда Глазок уж очень растеребит ее, она зло ему выговаривает:
– Разъелся на чебухайских-то харчах и ходишь из дома в дом, как вон какой-нибудь кобель! Небось покрутился б с темна до темна на бабьем-то месте… Глядишь, не шлялся бы: с картошки-то одной и от законной жены отвернешься. Вперся к самым жадюгам да кулакам в зятья, а теперь ходишь…
Намек на Чебухайку не нравится Глазку. Аленка, дочь Чебухайки, как-то узнала, что ее муженек по солдаткам ходит. Сказала ему однажды про то. Глазок посмеялся. Но Дарья, бывшая тут, райкомом пригрозила. И он присмирел было, да ненадолго. Сами же бабы, хоть та же Таня Виляла, встретила как-то Чебухайку у колодца и давай ее корить:
– Кулачье проклятое! Захватили мужика… на замок норовят запереть, чтоб другим не доставалось…
Помолчал Глазок, слушая Грунины речи про Чебухайку, а потом и говорит:
– Ты о жене не беспокойся: ей хватает.
Перебраниваясь с Глазком, Грунька начинает нарочно греметь посудой, норовя разбудить ребят.
Груня знает, что он выжидает. Глазок ждет, когда она соберется идти за водой к колодцу. Прошлый раз она в избе отбилась от него, а лишь вышла в сенцы, он на нее навалился тут. Обнимает, хмельные слова говорит, а сам все норовит повалить ее на вязку соломы, приготовленную для растопки печи. Хорошо, что коромысло близко оказалось. Грунька огрела его коромыслом – неделю потом не заявлялся!
А теперь вот ребят раньше времени будить придумала. Стала громыхать чугунами – никакого тебе внимания! Ведра пустые без нужды по нескольку раз переставляла – дрыхнут и все, черти! Но только загремела алюминиевыми мисками – глядь, сразу зашевелились: привычны к этому звуку.
Завозились на печи ребята, и Глазок мигом затоптал папиросу, встал с коника, кожух надел и говорит намеренно громко:
– О так, Груняша! Запрягай Ефремкина мерина и – в Ясновой. Будешь солому на ферму возить.
– Чё ж, солому так солому! – вздохнув, отрывается от печки Грунька. – Мог бы и не заходя в избу через окно кликнуть, непутевый…
XII
…И наградил бог Груню за верность ее: дождалась-таки она своего Пашку.
Сколько слез она выплакала! Сколько ночей не спала, поджидая его! Уж совсем надежду стала терять. И тут-то он нежданно-негаданно вернулся.
Пашка возвратился позже всех. Все липяговские мужики – не все, а те, которым, отвоевавшись, суждено было домой прийти, – сразу же после победы, еще летом, вернулись. А он – поздней осенью, под самый Михайлов день. Уж зазимок был, но под самый-то праздник снова поотпустило, и бригадир послал всех баб картошку дорывать.
Груня там с бабами была.
Картошку копали возле той самой Свиной Лужжинки, где Глазок с самолета горящего спрыгнул. Не очень далеко, но и не так уж близко от села.
Осенний день короток. Обедать домой не ходили, хотя соблазн большой был: все лишний десяток картофелин в подоле ребятам принесешь.
Обедать не ходили: с собой узелки брали.
И Груня завязывала в тряпицу две вареные картофелины и кусок жомового хлеба. Был он синь, как холодец, и тверд, как кирпич, этот хлеб, замешанный на щепотке муки с прибавкой тертой редьки и картофельных очистков. Но ничего другого: ни соленого огурца, ни яичка в доме не было, и Груня, хоть и не всегда съедала то, что брала на обед, однако приходила, как все, – с узелком. Когда она работала, узелок этот лежал вместе со всеми такими же узелками под телегой, закрытый вязкой соломы, взятой с конюшни на поддержание коню.
И в этот раз ее узелок тоже был там. И потому Груня удивилась, когда в полдень увидала бегущего полем мальца своего. (Кое-кому на обед ребята из дому горячих щей в чугунках приносили.)
Увидала Груня сынка старшего, разогнулась, поправила сбившийся на лоб платок, вгляделась. И почудилось ей, что неспроста он бежит – босой, в школьной трепаной куртке.
Увидала – не удержалась: бросила кошелку да бегом навстречу ему. Да так спешила, что кошелку ногой задела и всю собранную картошку по борозде рассыпала.
Подбегает она к сынку, а он ей с ходу:
– Мам, папка возвернулся!..
И еще хотел что-то добавить, но Грунька, как услышала «возвернулся», подол юбки за пояс подоткнула, чтобы он не болтался, и напрямик полем паханым – домой.
Что там про орлов быстролетных да соколов острокрылых в сказках сочиняют! Проворнее орла, быстрее сокола несли Груньку крепкие ноги ее…
Вбежала Груня в избу, а уж и чемоданы все разобраны. И он, Пашка ее, уже с ребятишками меньшими играет. Кинулась она ему на шею, как была, с грязными руками, и не плачет, а только беззвучно содрогается вся.
А Пашка по спине ее гладит, успокаивает:
– Ну ладно, Груня, хватит… Хватит, Груня…
Выплакав всю тоску свою, Груня оторвалась наконец от Пашкиной груди, хотела глазами своими, полными слез, в глаза его заглянуть. Только видит: он мимо нее, на дверь куда-то смотрит. Обернулась Груня, а там, на углу коника, где, случалось, после неудач своих Глазок сиживал, сидит девка.
Грунька так и застыла от удивления: незнакомая девка, не липяговская. Гимнастерка на ней военная, юбка грубого сукна колом вся топорщится. А глаза – ничего, веселые, и волосы светлые, как у Пашки, по-мальчишески коротко остриженные.
«Может, сестренку на фронте встретил, – подумала Грунька, – он рассказывал как-то, что где-то была сестра у него…»
Пашка снял руки с ее плеч и говорит:
– Познакомься, Груня, Наташа – мой боевой товарищ… Жизнью своей обязан ей…
Груня отпрянула от мужа и уставилась на подругу ту, будто застолбенелая. Знала она, что нехорошо так, надо бы подойти, поздороваться, только сил у нее нет ноги с места сдвинуть. Стоит – руки все в земле испачканы, подол юбки, как бежала, подоткнут, и смотрит на незнакомку. Та тоже, видать, хотела приподняться навстречу Груне, но, видя взгляд ее, поерзала на месте и сказала:
– Всю войну партизанили вместе…
И улыбнулась.
Но улыбка у нее вышла какая-то неискренняя, виноватая.
– А-а… – только и выдавила из себя Груня.
Она еще постояла минуту-другую. Мало-помалу тяжесть от ног отступила, и Груня задвигалась. Пошла в чулан и загромыхала там сначала рукомойником, а спустя немного чугунками. Радость иль горе, а есть надо. Узелок с куском жомового хлеба под телегой в Свиной Лужжинке остался. Вспомнила Груня, что бабы теперь обедают, и почему-то слезы на глазах выступили.
Загромыхала, засуетилась Грунька, занявшись готовкой обеда, будто и забыла про девку. Картошки принесла, почистила ее, сковороду на таганок поставила. Сальца кусочек был припрятан у нее на всякий случай. Порезала его мелкими кусочками да туда же его, на сковородку, вместе с картошкой.
Пашка тоже суетится, не сидит на месте. То с подружкой боевой о чем-то шепчется, то в чулан к Груне зайдет.
– Грунь, ты чего, будто и не рада?.. Ладно тебе с загнеткой возиться, у нас там есть кое-что…
«У нас!..» – уловила Груня, и снова синь туманная заходила кругами в глазах: «Боевой товарищ!..», «Жизнью обязан…», «Всю войну вместе…» Знаем мы этих фронтовых подруг! Вон Стахан рассказывал бабам: была у него тоже фронтовичка одна… Не знал, как отвязаться. В госпиталь к нему ездила… «Подруга!»
А Пашка уже убежал из чулана, там, в избе, громко разговаривает:
– Грунь! А куда ты мой детекторный приемник дела? – И тут же спешит пояснить той, другой: – До войны я сам смастерил детектор… Все станции Европы принимал…
Груня вздохнет только: не заглянул в ушат – есть в нем вода или нет? А о наушниках – будь они неладны! – вспомнил. Сначала она подумала, что за войну Пашка поди совсем отвык от хозяйства и к колхозному делу несподручен будет. Но тут же усмехнулась: он никогда и до войны хозяйством не интересовался. Жил себе, щебетал, на гармошке поигрывал да про кино девкам всякие побасенки рассказывал.
И теперь нисколько не изменился.
– Выбросила детектор-то, Грунь?
– Ребята баловались…
– Ну, ничего… Я себе такой приемничек отхватил – закачаешься!
Стукнула крышка чемодана, и Груня краем глаза увидела, как Пашка выставил на лавку большую лакированную коробку.
– Грунь, а розетка где?
– Вон, под потолком…
Глянул Пашка: под потолком лампа керосиновая закоптелая висит. Понял, что электричества в избе нет. Сделал удивленное лицо.
– И-и-эх! Ли-пя-ги… – сказал он.
И, нисколько не огорчась этим, стал напевать веселый мотив и, посвистывая и пумкая, кружиться по избе. Был он в солдатских галифе, вылинявших, но чистых и наглаженных. Такая же стиранная-перестиранная гимнастерка висела на крюке, над коником. Снял, видать. Исподняя рубаха белая, с тесемками вместо пуговиц, велика была ему, и, когда он кружился, сзади горб мешком надувался.
«До этого-то ты всегда был мастак!» – подумала Груня, посматривая от печки на танцующего Пашку. А тот бегает от стола к чемодану, банки с консервами достает и вино в бутылках, разноцветными бумажками запечатанных.
– Командуй парадом, Ната!
Фронтовая подруга как ни в чем не бывало – за хозяйку: консервы ножом открывает, по тарелкам все раскладывает.
– Груня-я, кончай суету! Есть охота.
Груня вышла из чулана со сковородой жареной картошки. Стаканы принесла. Ручник старинный, самотканый достала из сундука, Пашке подает.
Обычай таков.
Сели.
Детей некормленых Груня с краю стола посадила. Мужа – в вышний угол. Девка пристроилась рядом на лавке. Сама Груня села на скамейке, чтобы удобнее было к печке бегать, никого не беспокоя.
Смотрят ребята на шпроты и на мясо, выложенные из консервных банок, и брать боятся. Защемило сердце у Груни: щей им миску налила, одну на всех, и они привычно застучали ложками.
Павел не заметил этого. Он занят был – вино разливал в стаканы.
Налил, встал, поднял свой стакан и к Груне через стол тянется:
– Ну, друзья, со встречей!..
XIII
Чокнулись, выпили. Павел выпил весь стакан, боевая его подруга – половину, а Груня лишь пригубила для виду. Пашка укоризненно покачал головой:
– Нехорошо, Грунь!..
Груня снова взяла стакан, отпила несколько глотков.
И горше сивухи показалось ей дорогое заграничное вино. От обиды. Оттого, что не такой, думалось, будет их встреча.
Ничего еще, если б эту горечь обиды наедине, а не на людях заставлял ее Пашка пить. Как назло, любопытные соседки нагрянули: Таня Виляла, Нюшка Хлудова, Арина Грамзова.
Любопытные, горемычные…
Уж какой-никакой он, Пашка, а все-таки живым-здоровым возвернулся. А их мужья где? У каждой из них похоронные за божницей лежат. Чернила, которыми фамилии их мужей в казенную бумажку вписаны, выцвели от времени. Только и осталось, что печатным написано: «Ваш муж погиб в бою смертью храбрых… Вечная память погибшим за Родину!..»
Пришли горемычные. Пашка всех соседок за стол усадил, угощает. И Груня с товарками за компанию выпила. Все выпили: и Таня, и Нюшка, и Арина. А Пашка и подруга его партизанская – те опять чуть ли не по полной.
Выпили они, и пошли у них рассказы да воспоминания. Про то, как штаб тот, в котором Пашка был радистом, немцы обошли, а потом танками блиндажи все проутюжили. Многие, кто не успел в лес выбежать, так и остались там, в блиндажах, навсегда.
Пашка, по его словам, не испугался. Видит, немецкие танки, рацию свою разбил, а сам юрк из блиндажа, да и в сосняк. Немцы кругом, стрельба, куда денешься? Забрался в болото, да и отсиживался в камышах до ночи. А ночью стал своих искать. Ну и набрел на эту вот бабу, что теперь слева от него сидит. Телефонисткой в штабе служила: «Алле, я «Радуга»… Тьфу! Нашел «подругу»!..
Нашел. Стали они вместе на восток, на звук боев, пробираться. От села к селу. Где накормят, где дорогу укажут. И так-то до самой зимы шли. А зимой набрели на партизан. С ними и остались. Всю войну в партизанах и провоевали бок о бок. До самых Карпат аж дошли.
– В партизанах куда труднее воевать, чем в регулярной армии, – рассказывал Пашка. – В армии ты знаешь: там фронт, там тыл. Ранен – тебя грузят в санитарную машину и отправляют в медсанбат, в тыл. А партизан окружен одними врагами. Кругом! И не знаешь, где ночевать будешь иной раз…
Бабы слушают рассказ Пашки, вытирают глаза передниками. А он все новые страхи им изображает: и как неделями приходилось корой да ягодами лесными питаться, и как сам лично штабной немецкий автомобиль подбил и полковника с важными документами живым захватил…
Бабы слушают, а Груня исподтишка девку эту, телефонистку, рассматривает.
Она ничего, партизанка: и улыбается приветливо, не жеманничает, и с лица упитанная. Не скажешь, что с коры осиновой отъелась. Вот только пятна у нее какие-то на лице – конопатины не конопатины, шут их знает!
И вдруг у Груни сердце на миг перестало биться. «А не беременная ли она, партизанка-то?!»
Пашка рассказывал про то, как он был ранен. Миной, взорвавшейся поблизости, всего изрешетило. Когда его принесли в глухой лесной лазарет, партизанский доктор, осмотрев его, сказал: «Не жилец…»
– Тогда Наташа за меня взялась, – он указал на партизанку. – Кровь свою отдала мне. Месяц ни на шаг от меня не отходила. Как младенца, с ложки кормила. Пролежни – во все это место… Поднимала меня на руки и часами на руках держала…
Не утерпела Груня, робко перебила Пашу:
– Что ж, всю жизнь разве решили вместе, как в партизанах? Аль роднее тебя у нее никого и нет?
– Груня!.. – Павел недовольно поморщился.
За войну он заметно постарел: много морщин появилось у него и на лбу и под глазами. Теперь он поморщился, и все морщинки, старившие его, обозначились еще резче.
– Ну, что ж, Паш, скажи! – настаивает боевая его подруга.
– Да как оно получилось? – помявшись, пояснил Павел. – Наташа сама смоленская. Старики в деревне жили. Заезжали мы. Деревню ту немцы сожгли. Отец в партизанах был, убит будто… Мать уехала к старшему брату. Он где-то в Донбассе. Адреса никто не знает.
«В деревню к ней ездил!» Хорошо, что при его рассказе Груня сидела. Но доведись ей стоять тогда, она бы не выдержала, упала.
– А в Липяги-то чё ж? – спросила у партизанки Таня Виляла.
– Да Паша говорил, что шахты у вас тут рядом. Может, там устроюсь. Жить-то где-то надо.
– Оно так, конечно…
– Хватит вам, бабы! Про то, как дальше жить, завтра разговор будем вести! – Пашка снова подлил вина всем. – А нынче за победу. Гуляем нынче! Вспоминаем боевой путь. Вот был такой случай… В сорок третьем году, когда мы еще в Брянских лесах стояли…
…И долог был этот Пашкин рассказ, да короток осенний день.
Незаметно завечерело. Попрощавшись, соседки разошлись по домам: скотину дотемна надо прибрать, ребят накормить. Груня тоже ребят своих умыла, и они отправились спать на печку.
Павел чаю попросил. Самовара у Груни нет, но горячая вода была в чугунке в печке. Груня вышла на кухню. Пока достала чугунок, да отыскала заварку, да заварила, четверть часа прошло, а то и больше. Разлила она чай по чашкам и несет. Вышла из чулана с чашками, а Пашка ее незаметно так одной рукой фронтовую свою подругу обнял, к себе привлек. И сидят они рядом в обнимку, как скворцы весной…
Груня виду не подала. Чаем их попотчевала.
Напились чаю, теперь и спать пора бы.
Видит Груня, мнутся они как-то. Время оттягивают.
Пашка на двор сходил, покурил, а потом и говорит:
– Я, пожалуй, на печку спать полезу, к солдатам!
Груня молча подошла к сундуку, открыла его. Ряднушку новую из сундука достала да ею их старую супружескую постель отгородила и говорит этой новой, партизанке-то:
– Стели сама… Простынь у меня нет…
Павел к Груне метнулся, сделал вид, что обижен очень:
– Груня, дорогая! Да мы!.. Да я!.. Она мне жизнь спасла…
– Чего уж тут! – только и сказала Груня. А сама взяла с вешалки дырявый овчинный полушубок, полученный в наследство от отца-пастуха, умершего на второй год войны, и постелила этот самый полушубок на лавке, ватник свой под голову и – футь! – погасила лампу.
XIV
Кто ж знает, сомкнула ли Груня за всю ту ночь хоть на миг глаза или лежала все время и вслушивалась, затихли ли там, за ряднинкой?
Утром поднялась она в обычное время, затемно. Холодно в избе, выдуло за ночь. Зима вот-вот, а избенка не конопачена, не ухвоена.
Груня сунула ноги в стоптанные валенки, телогрейку с лавки взяла, на плечи набросила. Потом заглянула на печку, где спали ребята. Раскрылся младший. Хоть на печи и теплее, чем у окна на лавке, где коротала ночь Груня, но все как-то зябко без прикрыва. Груня укрыла младшего, голубоглазого, и уже слезать с приступки стала, но вдруг опять к ним, к ребятам, потянулась, всех по очереди поцеловала.
Варежки в отдушине печной сушились, она надела их. Бесшумно ступая, на цыпочках вышла в сени, взяла ведра, коромысло и как ни в чем не бывало отправилась к колодцу.
На улице было морозно. Оттаявшую перед этим днем землю покрыло крепкой наледью.
Ни в одной избе еще не светились окна. Только звезды горели на небе.
Груня подошла к колодцу. Поставила ведро. За бадейкой потянулась. Опустила ее. И уж воды зачерпнула. Вынимать стала.
Вынула. Нагнулась над пропастью, чтобы бадейку подхватить и на притолоку поставить – и… Поскользнулась ли она нечаянно?
Голова ли закружилась у нее от бессонной ночи? Или заранее у нее все решено было?..
Кто ж про то знает…
А утром пошел Авданя за водой – сначала варежку ее достал, потом и полушалок.
Баб Авданя тут же покликал. Сбежались.
Достали Груню из колодца, похоронили.
Вскоре Пашка-перепел заколотил окна сторожки, забрал детей и смотался куда-то со своей товаркой боевой. Сказывали, будто в Бобрике-Донском он теперь на шахте клубом заведует.
Неделю, а может, и более, никто к нашему колодцу не подходил. Воду брали из самого дальнего Попова колодца.
Но разве за версту воды натаскаешься?
Бабы заволновались, стали из избы в избу бегать, шушукаться. Наконец договорились: освятить колодец надо!
Своего попа в Липягах давно нет. Как быть? Снарядили Таню Вилялу ехать за попом в Александрово.
Таня выпросила лошадь у бригадира, корзину с яйцами в сани – и поехала.
Поп в Александрове молодой, красивый, второй год только из академии присланный. Он, видать, прослышал про Грунину историю. Встретил Таню ласково, корзину с яйцами взял, обещал на неделе приехать.
Неделя прошла, а попа все нет. Другая…
А тут вскоре завьюжило, сруб колодца забило снегом. Правда, зимой, под самый Новый год, Авданя задумал баню топить и порешил воду из колодца брать. Пудовую гирю на канат привязал, бил-бил, да так и не пробил, отступился.
Весной какой-то заезжий шофер остановил у колодца машину. Видит, исправный колодец и бадейка, как положено, на месте висит. Достал шофер одну бадейку, в радиатор вылил. Достал вторую, поставил ее на притолоку, нагнулся, чтобы попить, а тут ребята подошли и говорят:
– Дяденька, из этого колодца никто воду не пьё… Грунька в нем утопленная…
Шофер как шарахнет бадейку! Слега со всего маху ударилась о землю и переломилась. Ночью слегу эту кто-то унес к себе и поколол на растопку. Потом унесли и подпорки от застрехи, потом нашлись люди посильнее – и самое застреху выломали.
Дальше – больше, и вот на месте нашего колодца, у самой Ефремовой мазанки, появилась яма. Летом бабы стали сыпать в нее золу, в дождливую погоду в яме бултыхались свиньи и гуси.
Прошел еще год-другой, заросла яма беленою и репейником. Редко кто теперь вспоминает, что на месте этих репейников глубоко под землею бил когда-то ключ, да придавило его – живого, теплого – холодной землей.
Привалило, придавило… Кому какое дело! Наша семья уехала. Ефрем с семьей в Каширу перебрался. И разве что какая-нибудь баба-солдатка, проходя мимо этих репейников, вспомнит Груню – бывшую соседку свою – и вздохнет: дай ей господь бог царство небесное?
Мадонна
I
– О-ох, Палага, в какие хоромы ты забралась-то! Чай, на колокольню легче взойти, чем по этой лестнице… – сказала тетушка Авдакея, откидывая с головы клетчатую шаль.
Мать засуетилась, помогая старшей сестре. Сняв шаль, Авдакея потянула за концы белый платок, покрывавший голову, и потопталась на месте, не зная, куда идти.
Случилось это в пятницу, а в пятницу у меня свободный от уроков день. Я сидел в комнате и корпел над своими «Записками». Услышав голос Евдокии Ильиничны, я оставил работу и вышел навстречу тетушке. Мы поздоровались и еще некоторое время постояли в прихожей.
– Какие тебе хоромы! – сокрушенно покачав головой, отозвалась мать. – Негде повернуться.
И, продолжая ворчать по поводу неудобств коммунального дома, мать пошла на кухню. Следом за ней, грузно переваливаясь с боку на бок, двинулась и тетушка Авдакея.
Я с благодарностью подумал о матери. Она трогательно оберегала мой покой, особенно в те часы, когда я работал: никого в комнату не допускала. И даже такую редкую гостью, как тетушка Авдакея, тоже спровадила на кухню.
Тетушка с трудом протискивалась в нашем узеньком коридорчике. Наблюдая за тем, как она бочком-бочком пробиралась на кухню, я впервые понял, что мать во многом права, критикуя нашу новую «фатеру». До этого мне казалось, что все сетования на неудобства школьного дома вызваны привычкой к старой избе, тоской по ней. Тоска по избе буквально изводила ее. Она нигде не находила себе покоя: ни у нас, ни у братьев, в их станционном доме. Поживет неделю у нас – все в нашей квартире ей не по душе: сходит на станцию – ворчит: лавки Федор из избы повыбросил, то да се.
А теперь вижу: права мать. Коридорчики в нашей квартире вполне современные. Я, например, тесноты не чувствую, а вот явилась тетушка Авдакея, и ей, как говорится, эти коридорчики оказались не по габаритам. Но и другое надо учесть: крупна старшая матушкина сестрица. Не столь высока, сколь в толщину пошла. И не то чтоб уж очень она толста. Просто стать у нее такая.
Стать эта во всем у нее, начиная с обличья и кончая манерой двигаться и говорить. Тетушке Авдакее давно уже за семьдесят перевалило, а старухой ее не назовешь. Лицо гладкое: ни морщин на нем, ни одутловатости. Правда, оно чуть-чуть бледновато, без загара, но эта бледность идет к ее голубым глазам. И лицо и руки у Евдокии Ильиничны не старческие: ладони не изрезаны трещинами, они белы и слегка припухлы, словно караваи из пшеничной муки, испеченные на поду. У запястья руки перехвачены, будто с этого места только что сняли браслетку, а повыше запястья – опять каравай, только соответственно побольше.
Да что там! Тетушка будто вся составлена из подобного рода караваев. Это сходство ее со сдобными, испеченными на поду караваями увеличивала еще и одежда. На тетушке был короткий плисовый казакин, каких теперь бабы не носят: узкий в плечах и широкий в талии. Из-под плисового казакина – этаким цветастым веером – до самого пола ниспадала грубая клетчатая понева. По всей видимости, под поневой была еще юбка тонкой шленской шерсти – ну все равно как теперь столичные модницы надевают нижние юбки из поплина. Оттого и топорщится понева на Авдакее; оттого и кругла она, как распущенный зонтик.
II
Следом за Евдокией Ильиничной я прошел на кухню.
Сестры стояли рядом: щупленькая, сухонькая старушка – мать – в черной заношенной юбке, в голубенькой кофте горошком, и рядом – упитанная, распушенная, будто пава, тетка Авдакея. Глядя на них, трудно поверить, что это родные сестры – настолько мать и тетушка не похожи друг на друга. Только, пожалуй, особый склад лба и голубые глаза имели какую-то отдаленную схожесть.
Евдокия Ильинична окинула взглядом стены кухоньки и, видимо, не найдя того, что искала, спросила у сестры:
– А образок-то где ж, Палага? Помолиться не на что…
Мать как-то виновато, улыбнулась и махнула рукой. Какой, мол, тебе образок, придумала тоже!..
– Я не хозяйка тут, – сказала она. – А молодые все партейные. Им образок иметь в доме не положено.
Мать говорила это не без лукавства – она сама не очень-то верила в бога. Правда, другим в том не признавалась. Внешне все было по-старому. Когда стояла изба, то в избе незыблемо была божница. Как и при дедах, на полке, в вышнем углу, чернели две-три иконки, такие же древние, пропыленные, как и сама изба. Помню, была иконка с изображением божьей матери и еще одна с ликом Христа-спасителя, предостерегающе поднявшего персты свои…
Дешевенький оклад на иконах давно потускнел, и в прорезях его трудно было различить лики святых. Белело лишь личико младенца, которого богородица держала на руках, да виднелся указательный палец Иисуса Христа.
Не помню, когда в последний раз зажигалась лампада, висевшая перед образами. Бабушка еще следила, а матери было не до этого. Медная цепочка от времени позеленела, масло в лампадке загадили мухи, а сама божница превратилась в обыкновенную полку. За образа прятали всякого рода «квитки» – по мясу, по молоку, по шерсти… мало ли их приносили! Там же, на божнице, помещалась и отцова канцелярия – карандаши, трудовые книжки, тетрадки с записями замеров. Он и счеты, на которых до полуночи подсчитывал трудодни, тоже ухитрялся за образа засовывать. А когда спешил, то приставлял их рядом с богородицей и убегал. Не раз случалось: придет соседка, перекрестится, а потом, заметив счеты, сплюнет и скажет матери: «Что ж ты, кума, считалку-то заместо иконы выставила?» – «Ох, это Василий непутевый поставил! – отзовется мать. – Он ведь счеты эти выше бога почитает, готов кланяться им сутки напролет. Как сядет, так и целует их весь вечер…»
Мать уберет счеты, заодно и паутину стряхнет с полки и с образов. Только уберет, а вечером, глядь, отцовы «святцы» опять там, на божнице. Насует отец за иконы бумаг всяких, коробок с семенами, книжек, разве что одну сажень туда не засовывал. Да и то потому, что она не помещалась: а если б можно было, то Василий Андреевич и двухметровку за божницу прятал бы: все будто рядом, под рукой.
Когда братья решили переехать из Липягов на станцию и наметили день, чтобы ломать избу, мать загодя сняла с божницы образа и спрятала их в сундук. Она, видно, надеялась, что они пригодятся. Но Федор, старший брат, когда поставили новый дом на станции, на месте божницы повесил тарелку громкоговорителя.
Так и остались богородица с Христом лежать в сундуке среди тряпья…
III
– «Им не положено»! Ишь как! – напевно заговорила тетушка Авдакея. – Али ты им не родная мать? Али не обливается у тебя сердце кровью, коль они, богоотступники, в огне адовом гореть будут?!
– А они в ад-то не верят, – заметила мать.
Тетушка строго глянула на нее.
– Ты виновата во всем, Палага! – сказала Авдакея. – Видать, не уважают тебя сыновья. Разве у меня-то нет их, партейных-то? Вон Гриша хушь. В Москве на видной должности состоит. И то, как в первую побывку повесила в квартире у него образок, так он и по сей день висит. Нет меня – он портретиком его закрывает, а приеду, пожалте, маманя! А эти… партейные!.. У-у… нехристи. Помолиться в доме не на что…
– Вон висит, помолись, – мать кивнула на угол за дверью.
В уголке, за кухонной дверью, висела картинка, вырезанная из «Огонька». На ней была изображена «Мадонна» Рафаэля, держащая младенца. Картинку сюда пристроила мать. Как-то пришла погостить, сидела с Андрейкой и от нечего делать копалась в старых журналах. И вдруг увидела «Мадонну». Рафаэлевская картина напомнила ей икону. Иконки у нас не было, и хотя мать не очень верующая, а все как-то без образка скучно. «Не басурманы небось какие-нибудь, – подумалось ей, – а крещеные». Картинка в журнале понравилась матери. Мать не любила портить книжек, а тут не удержалась: взяла ножницы, да и вырезала эту самую «Мадонну». Вечером, когда нас никого не было дома, она прибила картинку, старательно подложив в уголках бумажные прокладки, чтобы картинка прочнее держалась.
Я сразу же заметил «Мадонну», но виду не подал. Прошло еще немного времени, вижу, за край картинки, сверху, заткнут пучок спелых колосков. Видно, мать ходила с Андрейкой на пажу, шла полем, нарвала ржаных колосков и вот связала их белой ниточкой и устроила из колосков обрамление картинке. Точь-в-точь как вязали снопики и клали их на божницу, поближе к богородице.
Но не только художественные красоты рафаэлевской «Мадонны» привлекли мать, а именно ее схожесть с богородицей. Поэтому она водворила ее в уголке кухни. Иногда – на какой-нибудь праздник – перед тем как сесть за стол, мать выходила в коридорчик и, косясь через застекленную дверь на «Мадонну», торопливо крестилась…
Теперь вот она и Авдакею подвела к этой самой картинке: помолись, мол. И Евдокия Ильинична, ничего не подозревая, распушила поневу, замахала рукой, крестясь и делая поклоны картинке. Губы ее зашевелились: старуха шептала молитву.
Судя по выражению лица тетушки, иконка ей понравилась. Понравилась ей красивая женщина, держащая на руках младенца. Она, Авдакея, тринадцать их родила. И не с поклоном, не с улыбкой на устах каждый раз встречал ее Иван. Случалось, когда повивалка приводила роженицу из бани, Иван чернее тучи встречал жену на пороге: «Опять девку принесла?!»
Кланялась тетушка, шептала молитву, а надменная мадонна лукаво улыбалась, видя такое к себе почтение. Нельзя было не улыбнуться, глядя на глубокомысленное и аскетически подобострастное выражение лица тетушки.
Улыбалась мадонна, а заодно с нею улыбался и я.
– Что ж ты, Палага, окладок-то не схлопочешь? – проговорила Евдокия Ильинична, намолившись. – Уж больно богородица-то красива! Отродясь такой не видывала. Старую где выторговала или из штудентов кто написал?
Мать не знала, старинная эта картинка или теперь писанная. И она, верная ветхозаветной мудрости: молчание – золото, промолчала. Только вздохнула с этаким глубоким смыслом.
– Сичас и новые мастера пишут больно хорошо! – продолжала тетушка, присаживаясь к столу. – Намеднись ездила я в Александрово, к куме. Видала у нее образок. Богородица, наша заступница. Ну как есть живая! Два штудента из Рязани писали. Дешево за работу брали – по десятку яиц. И оклады сами сделали. Великие мастера! Не знала, а то себе бы заказала… Ну и мастера! – не унималась тетушка.
– Но все же не лучше этого, – указал я на «Мадонну».
– Не знаю, – уклончиво отвечала тетушка. – И этот образок хорош, а на тех – ну, прямо словно молоком лик умытый…
Я сказал, что лучше этого художника никто не писал. Тетушка возразила. Она, мол, за свою жизнь много разных икон видала! И в Питере была, и в Киевской лавре, и в соборе Успенья… Оклады по пуду золота видала, а тут – «лучше никто не писал»!
Тогда я и рассказал, что это за картина такая. Открыл тетушке, какому богу она молилась.
Все растолковал ей: и про время, в которое писал Рафаэль, и про католицизм. Мать очень испугалась, замотала головой, чтобы я замолчал, но тетушка все уже поняла. Она вскочила из-за стола да как закричит на мать:
– Не нашенскому богу молишься! Сама клятвоотступницей на старости лет стала и меня, дуру, в тяжкий грех ввела!