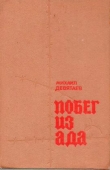Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
«Тише едешь – дальше будешь…»
I
– Эй, крестничек! Значит, мимо бежишь? Нехорошо, нехорошо… Так-то!
И правда, я почти бежал. Мне надо было сходить к одному из своих учеников – Димке Карташову. Он больше двух недель хворает.
Я спешил: хотелось обернуться до обеда. Пробегаю мимо пожарки, вижу: Авданя на своем посту сидит. Думал, не заметит. А он заметил, окликнул. Пришлось подойти, поздороваться. Все-таки человек из купели меня вытащил когда-то. К тому же Евдоким Кузьмич не какой-нибудь рядовой колхозник, а начальник.
Правда, никто его начальником всерьез не признает. Бабы за глаза называют Авданю наседкой без цыплят. Он знает это, но не обижается: пусть потешаются, коль в голове у них пусто. А кто хоть малость смыслит в жизни, тот смеяться над Авданей не станет. Оно, конечно, на первый взгляд может показаться, что смешная у Евдокима Кузьмича должность: начальник добровольной пожарной дружины. Начальником-то он проведен лишь для оклада, а никакой дружины у него в подчинении нет. Он сам себе начальник и сам добровольная дружина.
Не знаю, как у вас, а у нас в Липягах много таких начальников. Из них Авданина должность самая выгодная. У него хоть небольшое хозяйство: насос, бочка и пара лошадей, но и от этого небольшого хозяйства он имеет большую выгоду. Зарплату деньгами получает – это раз. Теперь другое: у него есть лошади. Без дела они у него не стоят. Огородишко он себе всегда вовремя вспашет, не прочь и соседу удружить – за поллитровку, конечно… И огород вспашет, и сена накосит, и соломы привезет. А ему больше ничего и не нужно. Никогда у Авдани скотины путной не водилось, а как стал на пожарке служить, одних овец развел полдюжины, да к тому еще коровенка, поросенок, гуси – все как положено.
Одним словом, сейчас нет в Липягах начальника выше Авдани. Зная это, Евдоким Кузьмич и ведет себя соответственно. Он не суетится, не бегает по конюшням, по всяким нарядным, а сидит себе на «пожарке» и только и делает, что курит да накручивает свои пышные усы.
В Липягах нет пожарной каланчи, как в какой-нибудь Хворостянке. Пожаркой зовется у нас просторный сарай с односкатной железной крышей. Стоит этот сарай в самом центре села, на бывшей церковной площади, напротив лавки Сельпо. Высокое тут место. Отсюда все Липяги как на ладони видны.
В сарае два отделения: конюшня и машинное.
Насчет машин-то, пожалуй, слишком громко сказано. Просто на дрогах установлен обычный ручной насос, а рядом с насосом логун с водой. Вот и все «машины».
Тут же, в машинном, как войдешь в ворота, на правой стороне – крохотная мазанка с двумя оконцами, выходящими на улицу, – дежурка. В мазанке нары, где спит Авданя, и печка, возле которой он обогревается, когда на улице холодно.
Но теперь был май, и Евдоким Кузьмич находился в своей летней резиденции: летом он всегда сидел на скамейке, что с солнечной стороны сарая.
Греясь на солнышке, начальник добровольной пожарной дружины обозревал с высоты Липяги. А все ли благополучно во вверенном ему царстве?
Чуть что, у Авдани под рукой все средства противопожарной борьбы. Слева, возле сарая, на дубовом столбе подвешен буфер от железнодорожного вагона – сигнальный колокол. При пожаре Авданя должен бить болтом по буферу, а потом бежать в сарай и выкатывать свои «машины».
II
Евдоким Кузьмич сидел на лавочке и курил.
Было около часу пополудни. Майское солнце припекало вовсю. От разогретой железной крыши сарая волнами шли голубые струи воздуха. Над площадью вились и пели жаворонки. Ворковали голуби, парочками расхаживая по утоптанному перед пожаркой «пятачку».
– Сядь-ка рядом, крестничек, потолковать надо, – сказал Евдоким Кузьмич, когда я подошел к нему. Он подвинулся, освобождая рядом с собой место на скамеечке, и по тому, как он ловко приклеил самокрутку к губе, я понял, что разговор предстоит долгий.
«Прочитал, наверное; что я про него писал, – мелькнуло у меня в голове. – Станет сейчас свои обиды мне выкладывать».
Ну что ж, не он первый… После того как журнал напечатал кое-что из моих «Записок», мне проходу не дают в Липягах.
Авданя покрутил кончики усов, кашлянул.
– Читал, читал, крестничек! – заговорил он. – Что ж, оно будто ничего… прославил, можно сказать. Только вот какая закавыка. Позволь тебя по-простому, по-родственному спросить: а где герой? Чебухайка, что ли, герой? Были, конечно, у нас такие – ничего супротив не скажешь. А где, как это говорится, такой вот герой! – Авданя встал со скамейки и, как Швейк, вытянул руки по швам, подбородок задрал кверху; лицо – усатое, волевое.
Я понял, о чем он говорит.
– Герой во весь рост! – сказал я.
– Ага! Понял, выходит. – Евдоким Кузьмич снова сел, пососал самокрутку, подымил, опять прицепил ее к губе и продолжал: – Разве нет у нас таких? Есть. Выходит, проглядел.
– Подскажи, Евдоким Кузьмич.
– Ну, взять, к примеру, хоть того, с кем ты теперь рядом сидишь, – сказал крестный. – Что ты про меня там прописал? На поводу у отсталых настроеньев пошел. Шуточки да прибауточки разные. А если про мою жисть по-сурьезному рассказать, то, может, другого такого героя во всех Липягах не я сыщешь!
Я улыбнулся, уверенный, что Авданя, по своему обыкновению, шутит. С крестным всегда начеку надо быть. Доверишься ему, начнешь поддакивать – он тебя вокруг пальца обведет, высмеет и посадит в галошу.
– У нас ведь как заведено, – продолжал Евдоким Кузьмич с самым серьезным видом. – Если ты пуд молока от коровы в день надоил, то ты – герой. А что Авданя стоит вот тут на посту круглый день-деньской и от огня обчественное добро сберегает, то над этим все подсмеиваются: стариковское, мол, это дело – пожарка! Можно сказать, списали Авданю в обоз. Не тут-то было! И в обозе можно быть героем. Почему в Липягах какой год пожаров нет? А-а? Молчишь! Они, бабы, думают, что пожары сами по себе перевелись. Ан нет! Их нет потому, что Авданя на посту. Потому что я бдителен! Вот почему…
Приклеенная к губе папироса, видать, догорала, или Евдоким Кузьмич почуял, что она вот-вот отклеится. Он ловко спровадил ее в рот, пососал-пососал – глядь, самокрутка опять задымила. Я наблюдал за тем, как крестный все это ловко проделал. Он уловил мой взгляд, заулыбался.
– Это как есть, точно подметил! Насчет папироски-то подметил, а жизнь мою – того: не описал как надо! Мне, может, памятник при жизни надо – вот тут, на площади! Пусть дети знают, кто Липяги избавил от пожаров. Ты молод, не помнишь, какие в старину случались у нас пожары. То-то! Бывало, как начинается лето, так что ни день, что ни ночь – вопли над селом: «Ой, горим!», «Пожар!», «Пожар!» Сколько людей сгорело в огне. Сколько детей на всю жизнь заиками осталось!.. Теперь, при моем руководстве, совсем иное дело. Нет и не будет более пожаров в Липягах!..
III
В одном Евдоким Кузьмич был прав бесспорно: пожары в Липягах страшное бедствие. И как им не быть, пожарам этим! Вы только взгляните на наше село, когда подъезжаете к нему. Соломенные крыши изб жмутся друг к дружке. Теперь-то пореже, а бывало, порядок – чуть ли не одна сплошная крыша. Как крыши эти оголились от снега, так и началось: «Пожар!», «Горим!» Редкая неделя летом обходилась без пожара. На моей памяти Липяги раза два заново отстраивались, и все из-за пожаров.
Теперь пожары стали пореже. Но только не потому, как мне кажется, что Авданя слишком бдителен, – изменился уклад жизни на селе. От этого меньше и пожаров.
Отчего в старое доброе время случались пожары? Ну, по неосмотрительности: мужик пошел «до ветру» да бросил недокуренную козью ножку или малыши спичками побаловались… Все это редкие случаи. Как правило, пожары бывали от хлебов. Не все теперь знают, что такое хлебы печь. Теперь все со станции, из города хлеб волокут. А ведь раньше как оно было? Взять хоть нашу семью. Едоков много. Как две недели прошли, так снова хлебы.
…С вечера в избу вносится дежа. Это широченная, ведер на десять, бочка. Мать вливает в нее кипятку, сыплет муку, кладет кусок закваски, оставленный от прошлых хлебов. Замесив тесто, мать накрывает бочку чистым ручником. Хлебы должны подойти. Поздно вечером мать руками месит поднявшееся тесто, добавляя при этом муки. Потом она лезет в печь и кладет «клетку». Для хлебов поленья дров выкладываются посреди печи высоким штабелем.
Летом в день хлебов из избы выносится все добро: как бы не случилось беды. В избе на ночь остается лишь одна мать. Она часто встает, проверяет, все ли хорошо в деже.
Утром, чуть свет, мать задувает печь. Высохшие за ночь дрова вспыхивают, как порох. Яркое пламя гудит и рвется из печи. Случается, что язык огня вымахивает наружу из трубы, и мать то и дело выбегает из избы и смотрит, не выскакивает ли из трубы пламя.
Свод печи раскален докрасна, а матери все мало. Она раскатывает пылающие головешки по всему поду, добавляет дров, следя за тем, чтобы каждый уголок печи раскалился. В избу нельзя войти: трещат венцы от жара, а мать все «жарит». Только прожарив печь как следует, она чистит помелом под и начинает сажать хлебы…
Чуть не исправна труба, и вот тебе: «Горим!», «Горим!»
Мать наперед знала, когда у какой соседки хлебы, и весь день беспокоилась: «Ой, у Тани Вилялы хлебы нынче! Из трубы-то как тянет. Пойду скажу…»
Пусть не хвастает крестный, что это он пожары извел. Они сами по себе отошли.
А Евдоким Кузьмич не унимался:
– Если б не мое руководство, и теперича, как чуть что, горели б Липяги! А люди не оценивают это. Ефрему хорошо: он саблю покажет, а на ней надпись дарственная Чапаева. Сразу видно: герой! А моя жизнь прожита так, что и похвалиться нечем. Все, что есть у меня, все на мне… – Авданя похлопал ладонями по большим заплаткам, красовавшимся на коленях его брюк. – Все на мне и все при мне. – Он показал мозолистые ладони и добавил: – Правду я говорю?
– Пожалуй…
– В таком случае, если согласен, приходи ко мне как-нибудь с карандашиком. Выпьем по маленькой, да и покалякаем. Я тебе всю свою жисть расскажу, а ты запишешь.
– Зачем же откладывать?
– Да видишь ли, можно и теперь. Только жаль, что ты без карандашика.
– Я запомню.
– Э-э, знаю я тебя! Запомнишь одно, а напишешь другое. Ну, ничего не поделаешь: сичас так сичас. Тогда слухай…
Евдоким Кузьмич приосанился, потрогал усы и начал свой рассказ.
– Угораздило же меня родиться при царе! – начал Авданя. – Серость. Грамоте учился у дьячка, а всякой другой науке, как-то: пахать, сеять, косить, вставать рано – научили чужие люди. Я ведь всю молодость в работниках жил, батрачил. Так и прожил бы жизнь тюхой-матюхой, если б в солдаты не забрили. Забрили в солдаты – обмотки на ноги, кокарду на голову: хошь не хошь – умри героем за царя-батюшку. Была такая возможность. Я и теперича, знаешь какой: али голова в кустах, али грудь в крестах… А тогда, в империалистическую, помоложе был и совсем ничего не боялся. Да-а… А вот крестиков-то не нахватал! Подружился я в окопе с землячком одним – туляком. Он-то мне и объяснил, за что воюем. С ним мы и подались в плен к австриякам… Как теперь я о своей жизни думаю, это не совсем того, не героический был поступок. Плен – на всю жизнь пятно. И сичас, и тогда так было. Самому униженье, семье притесненье. В России революция, гражданская война началась… самое время силы свои испробовать, а мы в бычьих вагонах по всей Европе мыкаемся. Отсюда мой второй минус – в революции не участвовал. Всю жисть потом в анкетах писал: «Не участвовал»… Каково мне! Я ведь, знаешь, привык, всегда впереди чтоб…
IV
Слушаю я рассказ Евдокима Кузьмича и думаю: а в самом деле, чем Авданя не герой!
Не знаю, каким был мой крестный в молодости, но он и теперь, на седьмом десятке лет, вполне может сойти за героя. Евдоким Кузьмич высок, сухопар. На вид ему больше пятидесяти не дашь. Он не сутулится, в ходьбе спор, легок. Голубые хитроватые глаза его смотрят молодо, тонкий нос с горбинкой и в довершение всего великолепные усы – не то русые, не то подпаленные самокруткой. Усы – краса и гордость Авдани. Он сам их подстригает время от времени, то и дело подкручивает, одним словом, холит.
Закрученные кверху усы, сухощавость, подвижность – все это молодит Евдокима Кузьмича.
Его ровесники – взять хоть того же отца моего – в Морозкином логу лежат, а кто жив, тот горбатится и покряхтывает. А Евдоким Кузьмич в мужской компании не прочь и о бабах поточить лясы: и одна солдатка его зазывала, и другая блинами потчевала… Хотя никто не верит в Авданины успехи у молодаек, он начнет уверять и расписывать с самыми живыми подробностями. Мне же вообще кажется, что, хотя мой крестный и кичится своим успехом у женщин, он за всю свою жизнь ни разу не изменил Прасковье Ивановне.
На словах-то Авданя прыток, а на деле едва ли: не до того ему. У него всю жизнь одна забота – как бы прокормить семью.
Прасковья Ивановна, жена его, с виду такая же, как и сам Авданя: сухонькая, с кроткими глазками женщина, невидная из себя, а рожала чуть ли не каждый год: что ни ребенок у Прасковьи – то непременно девочка. Да все какие-то болезненные, золотушные. Бывало, то одну Авданя в город к врачам везет, то другую. Хворают, а не мрут. Семья растет, а надела Авдане не добавляют: девка – не человек, на нее надела не положено.
Если бы не колхоз, дошел бы до сумы Евдоким Кузьмич со своим бабьим царством. И не покручивал бы теперь своих усов, и не разводил бы всяких там философий о смысле жизни! На двух-то наделах разве прокормишь такую ораву!
А в колхозе его семье почет и уважение.
Как теперь помню: в самые трудные годы, когда никто из баб не хотел за отцовы «палочки» работать, семья Евдокима Кузьмича всегда его выручала. Обежит отец, бывало, весь порядок, горло надорвет, уговаривая баб. Все отговариваются. Тогда он идет к Авданиной избе. Час целый просидит там, а сагитирует девок. И то: из целой бригады баб меньше наберешь, чем из одной избы крестного.
– Эх, уж это бабье царство! – Евдоким Кузьмич ладил новую самокрутку. – Я бы не бабам героя за многодетство давал, а мужикам. Родить-то – экое дело! А вот прокормить, в люди всех вывести… Это все нашим, мужицким, горбам достается!
– Значит, Евдоким Кузьмич, хочешь быть отцом-молодцом?
– А ты, крестничек, не смейсь! Конечно, у кого ребята, тем можно и не давать. Парни – это другой коленкор. Парень женился – и все. А девка… О-о! До замужества ты ее учи, наряжай, чтобы не хуже других невест была. Замуж вышла – опять тебе не легше: у одной муж оказался пьяницей, у другой свекровь сварлива, у третьей… Да пусть бы у третьей – это еще туда-сюда, а то ведь их целая чертова дюжина… Всех замуж повыдал, а все к отцу бегут. Вчера приходит Кланька, младшая, значит. Муженек, фартовый ее, пьяный заявился домой, да и давай куражиться. Она, понятно, к отцу: «Уйду!» – «Ну что ж, – говорю, – уходи. Этих, значит, старших, которые после войны вдовами остались, ребята днюют и ночуют, да ты двоих с собой приведешь. И опять у нас со старухой вроде колхоза сорганизуется. Так-то оно лучше: чем больше народу, тем веселей…»
Признаться, до этого разговора я мало задумывался о жизни Евдокима Кузьмича. Авданя и Авданя, бегает, суетится, да и только. Никто из липяговцев не принимает его всерьез. Человек в возрасте, а никто не величает его по имени и отчеству. Слишком долго выговаривать: Евдоким Кузьмич, Авданя-то покороче. Но вместе с тем в этой кличке заключена и какая-то человеческая неполноценность.
Надо сказать, что Авданя сам себе такую славу поддерживает: славу чудака. Слова единого он не скажет так, а все с шуточкой да с прибауточкой. А размотай-ка этот клубочек – и поймешь, что в нем иголочка колючая запрятана. Многим иголки-колючки Авданины не по душе приходятся. Оттого иные сами в отместку норовят подшутить над ним, стараясь принизить. Авданя, мол, такой да сякой: и ленив он, и на руку будто нечист, и выпить любит…
Все это правда и в то же время неправда. Ничего не скажешь, лясы точить крестный мой мастак. Но и в деле мужицком он никому не уступит. Раньше него никто на селе не встанет, никто позже него не гасит лампы. С темна и до темна он на ногах. Бывало, куда бы его бригадир ни определил – пахать ли, сеять ли, – он шел с охотой. Работает он весело – с присказкой, с шуткой. Сколько он наворочал за свою жизнь – накосил, наскирдовал, напахал! Никому сделать это не под силу, машина и та стерлась бы, износилась. А он – ничего…
Я уж и то начинаю думать: не по причине ли зависти к его неистребимому жизнелюбию липяговцы постоянно стараются принизить Авданю, подсмеиваются над ним?
Вот хоть такой пример. Прозвали его почему-то Бур-буром… А разве справедливо это? Нисколько! У нас многие мужики почаще Авдани прикладываются к горлышку водочной бутылки. И, однако, никого из них такой кличкой не наградили. Почему так? Да потому, что разные люди и пьют по-разному.
Не хочу ходить далеко за примером, скажу о своем отце – Василии Андреевиче. В бригадирах сколько лет ходил. У одного крестины, у другого именины. И все зазывают. Ну, как не пойти! А придя, как не выпить! Пивал и Василий Андреевич, но, выпив хоть самую малость, отец ни за что не пойдет ни в правление, ни на баз. Скажет матери: «Кто будет спрашивать, говори – в поле ушел». А сам закроется в мазанке и спит себе…
Авданя не таков! Если он выпил стопку, весь порядок знает. А не дай бог опорожнить ему шкалик!.. Тогда «пошла писать губерния», тогда всем Липягам известно, и по поводу чего Авданя выпил, и сколько он выпил (последнее, разумеется, преувеличивается в десяток раз).
Выпив, Авданя непременно отправляется вдоль села. Он идет по улице и, хотя почти трезв, поет: «Шумел камыш…» Он поет, чтобы все слышали; он качается, чтобы все видели, что это он, Авданя, пьяный идет, а не кто-нибудь иной.
Таков уж характер у моего крестного.
V
Выпить – это что: Авданя украсть не может, не похваставшись.
Тут я подхожу к самому щепетильному месту своего рассказа. Кое-кто в Липягах считает Евдокима Кузьмича мужиком жуликоватым, нечистым на руку. Я никогда не завел бы о том речи, если бы крестный сам первый не заговорил на эту тему.
– Если ты, крестничек, напишешь, что я вот этой рукой не бросал отцу Александру медных, чтобы взять сдачу серебряными, то это неправда будет, – сказал Евдоким Кузьмич, показывая свою дубленую, не очень чисто вымытую руку. – Эти руки все делали! Было и такое: каюсь, богохульствовал. Бросал за свечку пятак, а сдачи брал двугривенный. И торф чужой увозил. И то правда… Но пропиши так, чтоб люди узнали: не из-за любви к этому ремеслу Авданя воровством занимался! Жизнь заставляла! Удивляюсь я иногда: из колхоза ничего не давали, а все чем-то жили! Так ведь, фартовый?.. Никто вором себя не считает, а на меня почему-то указывают…
«И то правда», – подумал я, слушая Евдокима Кузьмича.
Дед мой, Андрей Максимович, о котором я рассказывал, он ведь тоже вором не родился! А воровал-таки старик…
Только, в отличие от деда, Авданя никогда не брал колхозного. И скирды клал, и картошку, и овощи всякие в заготовку возил. Что овощи – пшеницу сеял! На севе-то украсть проще всего: привалил землей мешочек пшеницы, а ночью послал девок, и целый месяц ешь белый хлеб!
Однако и на севе Авданя не брал.
Но зато, как у нас говорят, слямзить с чужого огорода он был непревзойденный мастер. Причем, что интересно, воровал он «культурно», я бы сказал, даже поэтично.
Вот, скажем, начинает поспевать капуста.
На верхних огородах, у Авдани, капуста едва-едва вилочки начала закладывать. А в низах, у Чебухайки, вилки уже с коровью морду, даже лопаются от крепости. Чебухайка на станцию носит малосольную капусту, а Авданя слюнками исходит: до чего хочется щей, молоком забеленных, из свежей капусты – помри, да и только!
Встретит Авданя Чебухайку и говорит ей:
– Гляжу я на тебя, Дарьюшка, до чего ж ты беспечна! Такая капуста у тебя в огороде, а ты ее не караулишь. Ведь не ровен час – посрубают.
– Чё? А, караулить? Да разви усидишь день да ночь?! Мне вот к поезду надыть… Сам, Ефимка-то, на ферме, а Аленка с телятами.
И понесет, и понесет глупая старуха! Сама того не подозревая, и выболтает все: когда у них никого дома не бывает, когда безопаснее всего в огород к ним наведаться.
А Евдокиму Кузьмичу только того и надобно. Выбрав такой час, он идет в низы. Рядновый мешок для капусты повяжет наперед вместо фартука, тряпицу какую-нибудь на голову набросит: со стороны кто глянет – Чебухайка, да и только! Но это со стороны… А ну-ка на самое Дарьюшку наскочишь?
И это предусмотрит спорый на выдумку Авданя.
Чебухайкина корова, брухучка-то, на задах паслась. Тут же, поблизости, и теленок на веревке привязан.
Авданя подойдет к теленку, колышек, за который привязана веревка, из земли выдернет, сунет его в карман и понукает, гоня перед собой, глупое животное, норовя загнать телка в огород. Теперь, если и Дарья нагрянет, у Авдани оправдание есть, почему он в чужом огороде оказался. «Бегу, – скажет Авданя, – за торфом в городок, вижу: теленок по капусте разгуливает. Дай, думаю, вытурю!»
Теперь Авданя со всех сторон огорожен, в любом случае сухим из воды выйдет. Поэтому, войдя в огород, он не спешит, не суетится, а делает все по-умному, основательно. Он не жадничает, не срубает все кочаны подряд, а так – слегка прореживает. Чебухайка жадная, она норовит посадить так, чтобы вилок к вилку впритирочку рос. Ну, Авданя и придает всему соразмерность. Он не дергает кочаны с корнями, а срубает их топориком, причем только сердцевину. Листья остаются. Мало того, срубив, Авданя аккуратно прикроет срубленный вилок листьями редьки или свеклы – так замаскирует, что и сама Чебухайка не сразу догадается, что в огороде без ее ведома похозяйничали.
Взяв сколько надо, Авданя вместе с телком выходит из огорода и задами, меж зарослей ракит, не спеша побредет домой. Часть капусты – на щи – оставит, а часть посолит в небольшой кадочке. Глядь, как-нибудь собрались мужики выпить. Гадают насчет закуски.
«Закуски сколько угодно!» – скажет Авданя и выставит на стол огромную миску капусты свежего посола.
Мужики, понятно, удивляются: их бабы только собираются солить капусту, а у Авдани она давно посолена! Евдоким Кузьмич тут же добродушно признается:
– А я тут как-то у Чебухайки взаймы мешочек взял… Да ничего, на том свете рассчитаюсь угольками.
Авданя говорит насчет «займа» без шутки, серьезно, но мужики покатываются со смеху: Чебухайка давно уже всем уши прожужжала, что у нее кто-то капусту своровал.
А Авданя угощает соседей чужой капустой, да еще и похваливает ее:
– Хороша закусочка, берите, не стесняйтесь!
Мужики закусывают да посмеиваются.
Ну что с него, с Авдани, взять?
VI
Все, что рассказывал мне теперь Евдоким Кузьмич, я давно знал. Он жил нараспашку, ничего не скрывая.
Меня теперь больше занимало другое: в какой последовательности он будет излагать эпизоды из своей «героической» жизни. Не скрою, я с нетерпением ожидал того момента, когда Авданя подойдет к главному – к рассказу о своем подвиге.
Да, да! Мой крестный совершил настоящий подвиг! Правда, ему не дали за этот подвиг ордена, не напечатали про то в газетах. Я считаю так: в жизни каждого, даже самого что ни на есть заурядного человека, случается день или час, когда человек этот поднимается до свершения подвига. Но жизнь наша такая коварная штука, что редкий подвиг становится известным всему человечеству.
Так случилось и с Авданей. Мой крестный немцев обманул. Из-за этого случая Липяги наши прославились. Как про село Уклёево, что лежало в овраге, говорили: «Это то самое село, где дьячок на похоронах всю икру съел», так и про Липяги, когда спрашивают, что это за село такое, все говорят: «Это село, где живет Авданя, который немцев об-манул…»
Как же это случилось?
Когда немцы побежали из Липягов, они побросали свои машины да скорей обоз организовывать. Лошадей, каких получше, поотбирали, сбрую – все это мигом. Дошло дело до возчиков. Подростки-то все с отцом нашим на Пензу подались – скот колхозный погнали. В селе остались бабы, дети да старики, негодные к призыву. Из всего села немцы человек пятнадцать отобрали, и Авданю в том числе. Как он ни крутился, забрили, миленького.
– Да, забрили, – рассказывал теперь Евдоким Кузьмич. – Собрали всех нас с повозками вот сюда, на площадь. Тут и машины ихние – застряли в снегу и стоят, как идолы: черные, брезентом крытые. Офицерик всем распоряжается – рыжий с виду, расторопный. «Ать, два!» – командует. Чтобы мы, значит, с машин имущество брали и на сани б грузили. Стали перегружать, вижу: ящики с боеприпасами, мешки с пшеницей, какие-то посылки. Награбили, видать, расстаться жаль. Ну, перегрузили и – марш! Поехали. Впереди танкетка на гусеницах; за нею мы на подводах, а позади нас трое мотоциклистов. Чтобы обозники не разбежались в пути.
Авданя помолчал, вспоминая.
– Не рано было, – продолжал он через минуту. – Переехали мы мост на Липяговке, стали подниматься в гору, на Хворостянскую-то сторону… Оглянулся я – позади Липяги. Село-то внизу, все видно. Мороз. Кое-где дымок из труб… И сдавило вот тут, в грудях: «Куда же это ты, старый хрен, едешь?» Это себе-то, значит, говорю. Гляжу на других: все мужики сидят понурые, у каждого одни мысли. А что поделаешь? Впереди офицерик на броневике, а позади эти тарахтелки с прицепами, и на каждом по два фрица с автоматами. «Прощайте, – говорю Липягам. – Случалось, нечего греха таить, и клял, и поносил я вас, а вот пришел час расставаться – и не могу без вас!..» Шепчу это про себя, а у самого, веришь ли, слезы на глазах.
Авданя замолк. Я подумал: не расстроился ли он от воспоминаний? Нет, он сидел все так же, положив руки на колени. Взгляд его устремлен был к лавке сельпо.
Я тоже поглядел туда. На крылечке магазина стояли двое мужчин: один – невысокий, на костылях, другой – в дешевеньком сером пыльнике и шляпе. Первого я узнал сразу: это был Стахан. Товарищ мой, рубаха-парень. Мы вместе с ним бегали в школу. В то время он звался Николаем Корзинкиным. До войны не было в Липягах тракториста лучше, чем он. По пять норм давал, особенно на пахоте. Оттого и кличка. С фронта вернулся он без ноги, одно время бригадирствовал, да прогнали бабы: совсем спился. Теперь от сельпо работает: закупает у баб молоко и отвозит на станцию.
– Сообразили, видать! – сказал Евдоким Кузьмич. – За стаканом сейчас придут…
И точно: Стахан заковылял к пожарке. Не дожидаясь, пока он приблизится, Авданя сбегал в мазанку, вернулся со стаканом и, отдавая его Корзинкину, сказал, чтобы тот принес стакан обратно.
– Не беспокойся, дядь Авдань! – Николай засунул стакан в карман брюк и, опершись на костыли, пошагал к магазину. Пройдя несколько шагов, обернулся и добавил: – Натурой, как всегда, отплачу. Много не обещаю, а лафитничек на заправку оставим.
– Можете не оставлять… – с напускным равнодушием отвечал Евдоким Кузьмич. – Я на посту не пью! Всякое может случиться.
VII
Мы помолчали, наблюдая за тем, как Стахан и его собутыльник, расположившись в холодке, откупоривали поллитровку и резали хлеб на разложенной газете. Когда они закончили все приготовления, Авданя не утерпел, крякнул. Подымив самокруткой, он продолжал свой рассказ:
– Да, едем, значит… Скрылись из виду Липяги. В Хворостянке у церкви такой же обоз стоит: нас дожидается. Пристроились они к нам, поехали вместе – подвод тридцать набралось. А выехали на большак – там столпотворение! Машины, тягачи с орудиями, солдатня ихняя, немецкая. А повозок этих – пруд пруди!.. Наши, знать, прослышали, что немчура отступает. Штурмовики над большаком снуют, постреливают. «Эге, думаю, плохо дело. Итак и этак крышка всем нам! Бежать – немцы прикокают, а не сбежишь – свои же с самолетов накроют…» Сижу, понукаю конягу, а сам все об одном думаю. Убьют, думаю, скажут потом: немцу Авданя продался. Хлеб, боеприпасы им подвозил. Предатель!.. За себя не так обидно, обидно за семью, за девок. Кто ж, думаю, женится на дочерях предателя? И такая меня решимость одолела, что готов я на штык живым пойти. Не Авданя ты будешь, говорю сам себе, если ты немца не обманешь. А как его обманешь? Впереди – танки, позади – танки…
Евдоким Кузьмич замолк. Опять минуту-другую приглядывался, как Стахан и его собутыльник по очереди опоражнивали стакан, запрокидывая при этом головы. Точь-в-точь как куры пьют из лужицы воду.
Авданя сплюнул.
– Не люблю пить в жару, – сказал он.
– Да, в жару пить нехорошо, – согласился я.
– В Клекотки, – заговорил вновь Евдоким Кузьмич, – мы приехали часу в восьмом. И дальше б нас гнали без останову, но лошади выбились из сил. Стали на ночлег нас определять. Село большое, а избы все немцами забиты. Наш рыжий офицерик бегал-бегал, нашел два дома незанятых, у самой станции. Там наши часто бомбили, и немцы боялись поблизости от станции ночевать. Ну а нам един конец. – Авданя махнул рукой, помолчал. – Расстилаю ватник на полу, а сам думаю: сбегу ночью! Лег – не сплю. Филька Курчавый – царство ему небесное, сколько лет прошло, а о нем ни слуху ни духу – и шепчет мне: «Не спишь, мол, Авдань, сходи, понюхай, может, улизнуть можно?» В полночь сунул я ноги в валенки, ватник на плечи набросил, будто по малой нужде во двор выхожу. Только вышел – у двери часовой с автоматом. «Мочись тут!» – говорит. Вернулся, значит, сказал Фильке… К утру, чую, многие заснули – поистомились за день. А я никак глаз сомкнуть не могу. Лежал-лежал – и на тебе! – про портянки вспомнил. Обмотал я левую ногу шерстяной портянкой и давай тереть. Тру и тру спокойно, пока все спят. Чую: волдырь вскочил, чуть повыше пятки, значит. Больно стало, а я все тру. Невмоготу стало, а я все тру. Шут с ней, с ногой! Придут завтра наши – вылечат, а не вылечат – так и с одной ногой как-нибудь дотяну до доброй смерти, но семьи и детей не посрамлю. До кропи, до кости растер, да еще поискал в шароварах пятак, приложил к ране. Зубами скрежещу, а терплю.
Он снова спровадил самокрутку в рот, попыхал ею. Вздохнув, сказал с огорчением:
– Так и знал: не оставят, черти! – И тут же, без всякого перехода, продолжал: – Чуть свет вбегает в избу офицерик: подъем! А я и встать не могу. Офицер ко мне подскакивает. «Саботаж!» – кричит. Я ему ногу свою показываю, а на ней рана краснющая – самому страх глянуть. Поднялся с трудом и говорю: «Гер офицер, я так торопился услужить господину фюреру, что в спешке обул не свои, а женины валенки, и вот от неудобной обуви растер ногу…» – «Дезертир, собак! Все равно поедешь!» – кричит. Ничего не поделаешь: стал собираться. Правую, здоровую, ногу сунул в валенок, а левую замотал кое-как портянкой, завязал веревкой, вышел. Наши уже лошадей запрягают, и я, ничего не евши, начал суетиться. Напоил, значит, лошадь, впряг. Пока топтался к колодцу и обратно, чую: невмоготу мне стало. А обоз уже вытягивается на дорогу. Снова бежит мимо офицерик, а с ним еще двое, повыше его чином, проверяют. Я опять про свою ногу. Развязал повязку и прямо на морозе всем и показываю. Поглядели те, другие, что чином постарше, и тыр-тыр – переговариваются, значит, по-своему. Но я-то чуть-чуть кумекаю по-ихнему. Рыжий настаивает, что я дезертир, а один из тех, что повыше его чином, говорит, что в санчасть надо. Медпункт тут недалеко был, при станции.