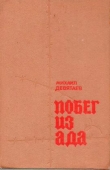Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Приду: Лузянин за столом сидит, газеты читает. Посидим, выпьем чаю, в шахматы партию-другую сыграем. А случается и так: приду – тихо в избе: Лузянин на печке русской лежит, спиной к горячим камням.
– А-а, лейтенант! Обождите, я сейчас встану.
– Лежите, – говорю, – Николай Семенович… Я так, повидать пришел.
И он лежит, не встает. Так и разговариваем: я с коника, а он с печки голос подает.
Уходя, я часто прошу его, чтобы он захватил меня с собой в поля.
– Николай Семенович, если поедете к «дубу» гречку посмотреть, захватите и меня.
– Обязательно! – обещает он. – Только имейте в виду, я встаю рано.
Назавтра встал я чуть свет (дело было в каникулы), побрился; только сел за стол кофе стакан выпить, слышу, будто лошадь у окна фыркнула. Выглянул на улицу, а у калитки Ландыш стоит.
Ландыш стоит у калитки, а Лузянин с брезентовым ведром в руке идет от колонки. Подошел к лошади, попоил ее, а остатки воды не выплеснул без цели, абы куда, а аккуратно вылил на втулки колес.
«У такого хозяина, – подумалось мне, – не то что у Авдани: колеса от недогляда на ходу не рассыплются!»
Я позвал Николая Семеновича пить кофе, но он приложил руку к груди и поклонился: спасибо, сыт!
Через минуту я вышел; мы уселись в тарантас и покатили.
Сразу же за Кончановкой свернули вправо и у кладбища выехали на Александровскую дорогу. Налево зеленели овсы, а справа от дороги, волнуясь под свежим утренним ветерком, лежало поле пшеницы. Распевали жаворонки.
Не проехали мы и километра, как впереди показался сначала дуб, а потом и весь лес.
Дуб стоял на отшибе, одиноко. Он был высок, могуч. Сохранилось предание, что именно с вершины этого дуба дозорные засечной черты впервые обнаружили полчища татар, движущихся к Куликову полю. Не знаю, так ли оно было в самом деле, но, несомненно, дуб этот – свидетель многих событий в жизни липяговцев.
Мы ехали, покачиваясь на мягких рессорах тарантаса; я рассказывал Лузянину эту легенду. Он слушал, поглядывая то на дуб, то на поле цветущей гречихи, подступившее к самому лесу.
У «дуба» исконно гречишные поля. Но вот уже несколько лет кряду на этих землях сеяли кукурузу. Посоветовавшись со стариками, Лузянин решил весь клин у дуба засеять гречихой. Всходы были отменные, но я давно не бывал там и не знал, что гречиха уже зацвела. Цветущее поле гречихи издали походило на море в бурный, ветреный день.
Я сказал об этом Лузянину. Он не отозвался. Мы проехали некоторое время молча. Вдруг Лузянин повернулся ко мне всем корпусом и проговорил:
– Как заснеженный Волхов в тот день…
Я понял, в какой день, и согласно кивнул головой.
– Вы оставались там после меня, – продолжал Лузянин. – Как мои гвардейцы стреляли тогда?
– Стреляли хорошо! – ответил я. – Стреляли так, что страшно было. Наши бойцы и те чуть было из окопов не сбежали. Впервые ведь «катюшу» слышали…
– Ну и как, взяли тогда Зеленцы?
– Зеленцы взяли, а из-за насыпи немцев выкурить так и не удалось. Вскоре нас перебросили под Кириши, развивать успех Пятьдесят четвертой армии в районе Синявинских болот.
– Горячий тот день был.
– Горячий. Но вы тогда, Николай Семенович, напрасно рисковали. Можно было послать со мной командира огневого взвода.
– А разве теперь, лейтенант, нельзя было послать в Липяги еще кого-либо? – ответил он и пошевелил вожжами.
Ландыш встрепенулся, побежал рысцой.
До самого «дуба» мы не проронили более ни единого слова.
XII
У «дуба» мы распрягли Ландыша и, стреножив его, разрешили ему пастись. Сами же пошли полюбоваться цветущей гречихой. Мы прошли опушкой леса до самого Врехова лога. Тут на старой вырубке, обнесенной березовыми жердочками, стояла колхозная пасека.
Налюбовавшись гречихой, мы заглянули на пасеку.
Пасечник – Ефимка Бутенков, муж покойной Чебухайки, – сухонький, сгорбившийся, вышел на лай сторожившей у входа собачонки и, увидев Лузянина, обрадованно заговорил:
– Пожалте, пожалте!.. Она не кусается, – указал он на собаку. – Так, для близиру приставлена.
Ефимка долго водил нас от улья к улью. Старик рассказывал про пчел, какая в том или ином улье семья, когда отделена, сколько дает меду. Хвалил Лузянипа за гречиху.
– Взяток больно хорош, – говорил Ефимка. – Если лето сухое постоит, меду много будет.
Попутно старик указывал на нехватки, что, по его мнению, надо было еще сделать для пасеки. Лузянин раза два записывал что-то в свою книжицу, чтобы не позабыть.
Мы изрядно устали от хождения по пасеке. Становилось знойно.
– Может, медочку гречишного отведаете? – предложил Ефимка.
Лузянин согласился.
Мы зашли к пасечнику в землянку. Тут было прохладно и уютно. Мы сели за низенький столик, плетенный из ореховых прутьев. Старик поставил перед нами деревянную, им самим выдолбленную миску, наполненную густым коричневым медом.
Лузянин ел и похваливал:
– Ай хорош, давно не ел ничего более вкусного!
С пасеки мы поехали в Денежный, где должен был начаться сенокос.
От «дуба» к Денежному вела торная проселочная дорога. У нас она зовется еще «верхней» или «сакманской». Когда-то в давние времена по этому шляху, через Дикое поле, проникали сюда полки крымского хана. Потом, спустя несколько веков, купцы гоняли этой дорогой скот из Воронежа, из Донецких степей в центр, в Москву.
По обе стороны дороги широко раскинулись поля. Впереди, на самом горизонте, маячил черный Куликов столб.
Обстановка располагала к откровенной беседе.
Я наконец решился спросить у Лузянина об обстоятельствах его прихода к нам.
– Николай Семенович, – заговорил я, как только мы отъехали от «дуба». – Скажите, что заставило вас приехать в Липяги? «Небось проштрафился, – говорили бабы. – К нам, мол, хорошего не пошлют…»
Лузянин заулыбался, покачал головой.
– Ну, а теперь что говорят?
– Теперь будто ничего…
– Нет, не проштрафился! – продолжал он серьезно. – На собрании я не считал нужным рассказывать об этом, а вам могу рассказать, как оно все случилось… Приехал я прошлой осенью в ваш район. Побывал в кое-каких колхозах. Вижу, плохо дело! Собрал районное руководство и говорю: «Вот что, дорогие товарищи, надо кончать с запущенностью села. Запущенность эта – от бескультурья, от плохого руководства хозяйствами. Согласны?» – спрашиваю. «Согласны», – отвечают. «Раз так, говорю, тогда кто из вас хочет пойти на руководящую работу в отстающие хозяйства?» Сказал – и сразу все приутихли. Я жду минуту, другую. Молчание. Снял я очки, будто протираю стекла, а сам смотрю на них и думаю: молодежь! Большинство из них без году неделя как выдвинуты на работу в управление. Выходит, им предстояло по второму кругу идти. Это все равно как из госпиталя на передовую возвращаться… Да-а… Протираю очки, слышу: кто-то карандаш по столу катает. Поглядел: начальник управления. Сидит рядом со мной и незаметно так толкнет карандаш пальцем, тот и покатится по столу. Остановится карандаш, начальник прикроет его ладонью и обратно к себе. Смотрю на то, как катается по столу взад-вперед карандаш, и думаю о своей жизни. «Вот так же, думаю, и я всю жизнь». То туда меня партия бросит, то сюда… То на одни курсы, то на другие. Теперь и не припомню всех. Но одни курсы мне на всю жизнь памятны. Их-то я и припомнил в тот час… Было это в двадцать первом году. Год помните какой?..
– Не помню, Николай Семенович, я тогда еще под стол пешком ходил.
– Ну вот. А я уже гражданскую отвоевал… только что начал учительствовать. И послали меня в Москву на курсы политпросветовцев, а оттуда попал я делегатом на Второй съезд политпросветов. Там выступал Ленин. Никогда не забуду тот день.
– Я знаю эту речь, – сказал я. – Это где Владимир Ильич говорил о силе личного примера…
– Вот-вот! – живо поддержал меня Лузянин. – Было время, говорил Ильич, когда нужны были декларации, манифесты и декреты. Этого у нас достаточно. Теперь настала пора не декларировать, а личным примером показывать… Самый простой рабочий, говорил Ленин, станет издеваться над нами. Он скажет: «Что ты все показываешь, как ты хочешь строить, ты покажи на деле, как ты умеешь строить…»
Протираю очки, вспоминаю это, а они все молчат. Тогда я надел очки и говорю: «Ну что ж, хорошо! Я пойду. Где у вас самый отстающий колхоз или совхоз? Давайте мне самое запущенное хозяйство, и вы поглядите, что я сделаю с ним через два года!..» Гляжу: растеребил! «И я согласен!..» – говорит один. «И я!» – кричит другой. Вот, лейтенант, какими судьбами я у вас, в Липягах!
– А как там, в области, отнеслись к вашему шагу?
– Очень просто: поругали, пожурили за горячность, все равно как вы теперь вспомнили про Зеленцы. А в общем, одобрили. Они характер мой знают: сказал, значит, не отступлюсь.
XIII
Как есть что-то волнующее и поэтическое в извечной смене времен года, так есть и что-то трогательное в извечной повторяемости крестьянского труда… Казалось бы, сколько ни живу, все одно и то же из года в год: пахота, сев, сенокос, косовица хлебов, заготовка. И знаешь, что за чем следует и как оно все бывает, а всякий раз, как услышишь слова: «Завтра в луга!», так и застучит радостно сердце: сенокос пришел.
С этим трепетным чувством мы подъезжали к Денежному.
Внешне все было так, как в тот вечер, когда Назарка искал клад. Так же стрекотали тракторные сенокосилки; так же дымил костер у родника, все так же нарядные бабы ходили по рядкам и разбивали их, чтобы сено поскорее высохло.
Только приглядишься получше: ан не все оно так, как вчера было. На лугу не видно было косцов.
Ранней весной Лузянин послал сюда фрезу. Она соскребла все кочки, размельчила дерн. А в мае, в пору, когда трава пошла в рост, росистый луг подкормили селитрой, и теперь травостой у ручья чуть ли не в рост человека.
Мы спустились расщелиной с увала и подъехали к ручью.
Вечерело.
Я помог Лузянияу распрячь Ландыша. Сложив сбрую в тарантасик, мы пошли к роднику. Лукерья – босоногая, в белом фартуке – хлопотала у костра.
– Вовремя приехали, мил люди! – сказала она вместо приветствия. – Сичас придут работнички, кормить буду.
Мы вымыли руки, и, когда вернулись к костру, тетя Луша уже сняла с угольев чугунок с кашей и гремела мисками и ложками. Подошли девушки, сгребавшие сено. Среди них было много учениц-старшеклассниц. С бригадой, о которой мечтал Алексей Иванович, ничего пока не получалось, но с весны все ученики работали в поле – на прополке кукурузы, на сеноуборке.
– Девчата, ужинать! – звала тетя Луша.
Девчата, умывшись, подходили к костру. На луговине, возле костра, вместо стола разостлан был брезент; на нем в мисках ломтями нарезанный хлеб, перья зеленого лука. Лукерья черпала деревянной ложкой кашу из чугунка и подавала каждой девушке миску. При этом она непременно что-либо приговаривала: «Это Ирочке-милочке… Это Светику– семицветику»…
Потом получили ужин трактористы, а уж после них – и мы с Лузяниным.
Николай Семенович примостился с краю брезента, ел кашу и похваливал бабу Лушу:
– Ах, хороша каша. Дома старуха никогда так вкусно не сготовит.
– Потому с дымком она, Николай Семеныч, – говорила Лукерья. – А с дымком слаще.
Вдруг Лузянин, не доев каши, встал и, болезненно поглаживая рукой спину, – бочком-бочком – пошел прочь от костра в темноту. Я проводил его встревоженным взглядом, но виду не подал, что заметил его исчезновение. Прошло довольно много времени, а он все не возвращался. Меня одолела тревога.
Выбрав минуту, когда все увлечены были едой, я поднялся с брезента и пошел в том направлении, где скрылся Лузянин. Цепляясь за редкие кусты шиповника и низкорослые дубки, я поднялся на взгорок. Огляделся. Лузянина нигде не было видно. Я прошел еще несколько шагов к Ясновской дороге и вдруг увидел председателя. Подостлав под спину пиджак, он лежал навзничь и, казалось, считал звезды – так неподвижен был его взгляд, устремленный на небо.
Я подошел и сел рядом.
– Вам плохо, Николай Семенович?
– А-а, это вы, Андрей Васильевич… – отозвался он. – Ничего, сейчас пройдет. – Он полежал еще немного не шевелясь и, отдышавшись, заговорил спокойнее: – Со мной это бывает. Оттого и езжу на тарантасе, а не в машине. Осколок дает о себе знать, особенно когда много сидеть приходится. К непогоде тоже. Как заломит, как завертит!.. Хоть ложись и помирай. И я должен лечь на время и полежать. В машине с шофером приходится ездить. Чувствовать себя беспомощным перед посторонним человеком не очень-то приятно. А в тарантасике я один. Как схватит, я Ландыша остановлю, лягу, отдышусь… оно и легче…
И в самом деле, ему скоро стало легче. Он поднялся, и мы некоторое время посидели молча.
Взошла луна, и весь луг по ручью вдоль Денежного преобразился от ее неяркого сияния.
– До чего ж хорошо тут! – сказал Лузянин.
– Да, красиво, – согласился я.
– А правда, что в этом месте клад татарский зарыт?
– Говорят.
– Искали?
– Искали в старину. Мой дед и тот пробовал.
– Интересно! Расскажите.
Я рассказал, как оно было.
– А в наше время не пытались?
– Пытались. Раз тут один тракторист поставил лопату вместо пневматического копнителя и всю ночь копался.
– Нашел что?
– Секиру нашел и забрало.
– И как фамилия тракториста?
– Назарка, сын бухгалтера.
– Любопытно! Очень… Что ж вы мне раньше не рассказали? Познакомили бы…
– Он ушел из колхоза еще года два назад. На станции шофером дрезины работает.
– А если с ним потолковать? Может, он вернется.
– Не знаю, попробуйте.
– Мне не раз уже говорили такое: «Попробуйте!» Ан я не испугался.
Лузянин помолчал и заговорил тихо, словно про себя:
– Раз секиру нашел, значит, тут и в самом деле что-то есть!
Я посмотрел на Лузянина. Мне показалось, что он говорит это в шутку. Но лицо его было строго и сосредоточенно.
Мы сидели на вершине Денежного и молчали.
Мне вспомнился почему-то дед Андрей перед часовенкой; отец, склонившийся над счетами; наивно-юный Назарка, и я подумал про себя: «Ну вот – еще один искатель появился на нашей липяговской земле…»