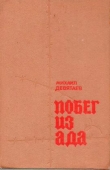Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Однако не только в этом сказывалась разница между отцом и дедом. В любом крестьянском деле. Сядет дед отбивать косу – заслушаешься: музыка, да и только! Отец все утро грохает молотком по наковальне, а коса все равно тупа, как обух.
IX
…Года два прошло с тех пор, как липяговцы организовали «коммунию». Пророчества деда по поводу того, что мужики не захотят трудиться сообща, не оправдались. Не знаю, как в других местах, а наш липяговский колхоз на первых порах преуспевал. На поля выходили дружно, с песнями. Каждый старался похвастать перед другим усердием и хваткой. Рожь подойдет, выйдет, бывало, сразу сорок косцов. Взмахнут разом крюками – звон до самых Сандырей! За каждым косцом вязальщица. Бабы в клетчатых поневах, в цветастых кофтах, на головах белые платки, а за плечами крендели готовых перевясел.
Среди косцов и отец. Косит он неумело, норовя силой сшибить жесткие ржаные стебли. Руки его как-то не гнутся, и сам он весь прямой, нескладный, будто аршин проглотил.
Мать, идущая за ним следом, тайком от всех срывает не срезанные косой стебли и засовывает их в снопы, которые вяжет.
Вечером, когда все мужики и бабы сносят снопы в крестцы, отец ходит поперек скошенного поля, вымеряя его двухметровкой. Потом долго сидит на снопах, окруженный косцами, считает, то и дело мусоля во рту огрызок карандаша. Наконец, поднявшись, говорит: «Хорошо работали, товарищи! По трудодню каждому приходится».
«Трудодень» – новое слово. Ко всяким новым словам липяговские мужики относятся с предубеждением. Однако к «трудодню» полное доверие. Осенью колхозные амбары ломятся от хлеба. Все в полях убрано. Наступает время расчета по трудодням. На селе праздник. Скрипят нагруженные зерном и овощами повозки. Возят по очереди: кому две подводы везут, кому три. Все зависит от того, у кого сколько выработано этих самых трудодней.
Мать норовит, чтобы у нас их было как можно больше. Она только что родила Степана, причем родила в поле. Сама надрывается и нас всех замучила. Прибежишь из школы, не успеешь бросить на лавку сумку с книжками, как она уже подступает к тебе:
– Андрюша! Федя! Вы куда? Хлебайте скорее щи да бегите на скотный двор. Дед навоз возит, будете нагружать ему. Все, может, лишних полтрудодня запишут…
Зимой на селе свадьбы. Всю масленицу по улицам разъезжают повозки с бубенцами. Дуги и конские гривы унизаны разноцветными бумажками. Чугунок не жалеет застоявшихся коней ради всеобщего веселья. И свой выезд он отдал молодежи.
Председатель наш, Павел Павлович Чутунов, или просто Чугунок, как звали его мужики, чернявый, сухопарый. Ни дать ни взять цыган. Но хватка у него наша, мужицкая. Косу в руки возьмет – никто не поспеет за ним; плясать пойдет – любого перепляшет. Шахтер, «чужак», а понимал крестьян, и они верили ему. А он что ни год все заводит разные новины. Камень раскопал у Подвысокого, понастроил за селом каменных ферм, купил где-то на Волге невиданных в нашей округе пестрых коров, сад насадил, организовал для детишек ясли… Дотошный был человек, даже картошку особую приказал сажать; сизую такую, что ни клубень, то поди с баранью голову. Она и по сей день водится у нас. Чугунка-шахтера все позабыли, а картошка так и поныне зовется «чугуновской», или короче – «чугунка».
Не много лет существует наш «Красный пахарь», а слава о нем как о передовом колхозе уже на всю округу идет. Пригнали в район тракторы. Кому первому давать технику? Передовикам, конечно, липяговцам.
Трактор встречали за околицей всем селом, с флагами, с духовым оркестром. Мы, малыши, разинув рты, наблюдали, как четыре лемеха тракторного плуга выворачивали землю. Мы радовались. А мужики стояли возле межи, чесали затылки: «Ишь ты, как здорово! Только не будет ли хлеб пахнуть керосином?»
Потом пригнали еще тракторов. Потом пришли комбайны. Потом прилетел самолет и начал удобрять землю с воздуха. Неделю школа закрыта была – все ученики с утра до вечера дежурили возле мельницы. Забавно так: сядет самолет, засыплют в него какой-то желтоватый порошок из бумажных кулей, летит он над полем и посыпает всходы ржи.
Мужики, заложив руки за спину, наблюдали. На поле суетились представители МТС. Ветер трепал красное полотнище с надписью «Дорогу технике!»
Трактор пашет, сеет; комбайн косит; самолет удобряет; автомашины отвозят зерно на элеватор…
Будто и нечего делать мужику. Да! Но и нечего получать мужику.
Соберутся вместе, ломают головы. Как же оно так получается? Трудодни будто у каждого есть. И верно, отец по-прежнему до полуночи корпит над бумагами, считает выработку, записывает трудодни в трудовые книжки. Но вот настает осень. Сойдутся липяговцы на собрание, а председатель и докладывает:
– Зерна мы получили всего столько-то центнеров. Из них столько-то центнеров отвезли в заготовку, столько-то оставили на семена, столько-то выплатили натуроплаты МТС…
– А это что такое, натуроплата? – допытываются мужики.
– Это, товарищи, – поясняет председатель, – отчисления в МТС – за работу трактористов, за горючее и прочее.
– Так! – Мужики почесывают себе затылки: натуроплата вдвое больше, чем заготовки.
– А кто ж такую плату выдумал? – недоумевают липяговцы.
– Как кто? – отвечает председатель. – Знамо, не Авданя…
– Надо бы посчитать, во сколько обходится пуд ржи колхозу и сколько нам за него платят. Ведь задарма хлебушек-то берут. Поэтому и не сводим мы концы с концами.
– Чего считать! Поумнее тебя небось головы считали! Докладай, председатель, сколько приходится нам на трудодни?
Председатель в ответ только разводит руками.
– Эй ты, чего стоишь там с вилами?! – кричит мне сверху Федор. – Иди в низы, там и мечтай. А тут не мешайся!
Я отошел в сторонку, в тень ракиты. И почти тотчас же сверху упало на землю бревно и, пыля, покатилось мне под ноги.
Гляжу я на это полуистлевшее, со следами воробьиного помета бревно и думаю: «А не тогда ли, не двадцать ли пять лет назад, упало оно, это первое бревно, с нашей старенькой избенки?»
X
Росли мы на редкость быстро. Как-то я признался ученикам, что до призыва в армию успел сносить всего две пары собственных штанов. Среди моих учеников есть и такие, которые носят узенькие брючки и растят бакенбарды. Они, конечно, посмеялись надо мной: как это, мол, так – две пары? Вот так, объяснил я им, нас было пятеро братьев. Сначала шаровары носит старший, а как только он вырастет, их надевает младший. Мне всегда доставались Федькины штаны. Когда они становились мне чуть ли не по колено, мать штопала их, стирала, гладила, вернее, катала на скалке ребристым рубелем, и в них облачался Иван. Если и после него они еще держатся, то достаются напоследок Митяю.
Вырастал один, его штаны переходили к другому. А вместе с этим младшему как бы переходили и более взрослые заботы. Осмысливать жизнь и сопоставлять приходилось самим, ни отец, ни мать тут не были помощниками.
Отец «полинял» как-то со временем, городской лоск с него сошел. В бригадирах ходить нелегко. Вечно он небритый, усталый, кирзовые сапоги стоптаны. Старенький пиджак болтался на его узких плечах. Газеты читал редко, не хватало времени, с дедом не ругался. Поднимется бригадир чуть свет и еще до завтрака побежит по домам: «Эй, Марья! Выходи просо полоть…», «Анна! Бери грабли, сено пойдешь сгребать…»
Обежит все порядки, явится на баз, ждет-пождет – ни Марьи, ни Анны. Он снова бежит к ним: «Марьюшка, дорогая! Поглядела бы ты, какое просо! Пропадет же, если вовремя не прополем!» – «А по мне – пускай пропадает! – отвечает Марья. – Все равно нам ничего не достанется. А у меня вон картошка на огороде бурьяном заросла. Прополю свое, будет время, схожу на просо…»
Отец готов на колени встать перед Марьей. Уговаривает ее так и сяк, обещает дать лошадь для окучивания картошки, соломы обещает, чтобы крышу у избы перекрыть. Но Марья неумолима.
Он к Анне. У Анны муж с весны поступил работать на «железку». На хлеб у нее есть. Она и слушать не хочет мольбы бригадира.
И так что ни дом, то от ворот поворот! Набегавшись по чужим избам, отец чернее тучи приходит домой. Позавтракав, принимается командовать:
– Бери, Пелагея, грабли, пойдешь к Подвысокому сено сгребать! А вы, – он кивает мне и Федьке, – отправляйтесь к «дубу» просо полоть.
– А еще кто на сено пойдет? – осторожно справляется мать, собирая со стола.
Отец молчит.
Дед ухмыляется.
Мать тоже догадывается, что все бабы отказались выходить по наряду. Она хоть и побаивается отца, но тут и у нее терпение кончается.
– Одна я не пойду, Вася! – говорит мать жестко. – Что я, дура, что ли? Весь день гнуть спину за твои палочки! И ребят бы не посылал. Посмотри, у соседей огороды-то как ухожены, а наш повиликой да сурепкой зарос. Полоть думала. Они помогли бы мне.
Мать не стремится теперь к тому, чтобы заработать побольше трудодней. Наоборот, теперь она по-всякому – правдой и неправдой – норовит почаще остаться дома. Все ее мысли сосредоточены теперь на огороде: как получше удобрить его, как побыстрее вскопать. Одной ей трудно, потому и нас норовит дома придержать. И то: другим колхозникам отец дает лошадей, чтобы посадить картошку, окучить ее, а для себя никогда лошадь с конюшни не возьмет. Боится, что его будут попрекать бригадирством, что, мол, о себе заботится больше, чем о других. И мы вскапываем огород лопатами и окучиваем грядки тяпками. Мать в запальчивости выговаривает ему все.
– Ты мне брось разводить агитацию против колхоза! – кричит в сердцах отец. – Сама погрязла в мелкособственнической тине и детей за собой тащишь! Не выйдет! А ну – собирайтесь и марш на просо!
Мы с Федькой отправляемся к «дубу» полоть просо, а мать идет в луга. Идет не одна: если она попросит, с нею пойдут и Марья и Анна.
Вечером после ужина, когда отец, разложив бумаги, погрузился в свои подсчеты, мать, моя посуду, говорила:
– Не посылай ты ребят на свою прорву! Им учиться надо. Вон Федька семь классов кончил. Подумал бы, куда пристроить.
– Пристроен! – Отец яростно стучит косточками счетов. – Тот ученый, тот убежал в город. А кто землю пахать будет?
– Сам бы и пахал! А то тоже – белоручкой заделался!
Отец пускает колечки дыма и что-то пишет. Мать, продолжая возиться в чулане, разговаривает сама с собой. Вернее, так кажется, что речь ее ни к кому не обращена, а на самом деле она ведет все тот же спор с отцом.
– Что же это такое? – рассуждает она. – Мужики из колхоза бегут. Вон и Ефим и Васька Беленький… Все на станцию устроились. Одни мы… Будто не люди… Сами себе лиходеи. Хлеба-то опять до нови не хватит. Последнюю поневу в Чернаву отвезешь с таким-то мужем. Ребята растут, их учить надо. А разве ушлешь их в город без денег-то?..
Отец сидит понуро, курит, но счетами не стучит, слушает. В другое время он наверняка оборвал бы ее. «Перестань зудеть! – сказал бы он. – Надоела. Завела, как комар над ухом…»
Но сейчас он молчит.
XI
Молчит он потому, что дела в колхозе с каждым годом все хуже и хуже. Нет больше у нас веселого, предприимчивого Чугунка. Его взяли в район, и он вскоре куда-то канул. Говорили, что он посажен как враг народа… Но как бы то ни было, а Чугунок исчез. Вместо него колхозными делами командует Сафрон Коноплин, мрачноватый, крикливый мужик по прозвищу Кипяток. Не будь всего этого, отец не стерпел бы укоров матери. А то молчит.
Поздно. Мы идем спать в мазанку, а мать с отцом остаются в избе. Утром мать роется в сундуке и извлекает из него кусок черного сукна. Недели две в доме непонятная суета. Сушатся на противнях сухари, мать после работы бегает куда-то на село, к родным. Наконец мы узнаем, что Федька едет в Скопин держать экзамены в техникум. Ему шьют настоящие, как у взрослых, брюки с обшлагами, с петельками для ремня. Я же получаю старые его штаны. Они длинноваты мне, на коленях свежие заплаты. Но зато у них два кармана, в один можно напихать жареной картошки, в другой – сунуть книжку, и хоть весь день не показывайся домой.
Вскоре Федор уезжает. Проходит неделя, другая – является, выдержал! Мать от радости прослезилась, а отец хоть бы что! Только хмыкнул что-то про себя и тут же попросил, чтобы скорей подавали обед.
Я знал, что Федька выдержит экзамены. Он у нас был способный, это все учителя говорили. Обо мне говорили, что я «мечтательный», а о нем – «способный». И правда, он учился хорошо. Он до тех пор сидит за столом, пока все уроки не сделает. Федька ни за что не побежит в низы кататься на санках, если у него задача не получилась. Ночь просидит, а решит. Я же в детстве был ужасным непоседой. Бывало, сидим вместе, делаем уроки. Перепишу, что задано по письму, посмотрю физику, ботанику. Примусь за арифметику. Если все идет гладко – мигом решу! А как не заладится дело, брошу задачник, и поминай как звали!
Федор же никогда не сдастся. Он и косить хваток, любому мужику не уступит, и скирд умеет уложить – зиму простоит, не протечет.
Для отца отъезд Федьки большая потеря. Хотя он и не говорит об этом прямо, но я вижу.
Теперь отец взялся за меня. Все лето посылал меня на всякие работы. Я и сено кошу на конной сенокосилке, и солому стогую на току, но нет во мне той сноровки, которой отличался Федор. Лошадь запрягу – обязательно не затяну супонь, и несколько раз случалось, что телега катилась в одну сторону, а лошадь преспокойненько шагала в другую. Помню, однажды спускался я с горы у пруда возле Змейки, лошадь уперлась, хомут-то и соскочил с шеи. Смеху было – умора! Сено косить поеду, непременно в карман книжку суну. По росе сделаю десяток кругов, а как только овод начнет донимать лошадей, распрягу их, сяду в тенек, да и почитываю про всякие там таинственные острова да про всадников без головы.
Читаю я много – все, что попадет под руку. Причем другие как-то время знают, а я, если уж взял книжку, не оторвусь, пока не дочитаю до конца. И по ночам читаю, и на уроках, и на косьбе. Знаю ведь, что нагрянет отец, будет взбучка, но отложить книжку выше моих сил. Никто не следит за моим чтением. Только изредка дед, заметив у меня в руках новую книжку, подсядет и скажет:
– А ну, Андрейка, читай вслух.
Дед стар, однако продолжает служить сторожем. Каждое утро, особенно осенью, когда он сторожит на току, вернувшись с ночного дежурства, заходит в мазанку. Дед заходит туда во всем своем ночном облачении – в полушубке, в больших кирзовых сапогах. А выходит из мазанки босой, в одной холщовой рубахе. Меня заинтересовало: что он там делает?
Как-то я подсмотрел за ним. Войдя в мазанку, дед взял пустую севалку, поставил ее на ряднушку и… принялся выворачивать карманы. До этого мне почему-то казалось, что во всем дедовском одеянии есть всего лишь один карман в полушубке, где он хранит кисет с махоркой. А оказалось, их чуть ли не дюжина: и в шароварах, и под подолом рубахи… Да все такие большие! Как вывернет карман, так полсевалки ржи! Опорожнив карманы, дед по очереди снимал сапоги: из них тоже посыпалось зерно.
«Он ворует!» – подумал я. Меня это открытие поражает. Деда все считают честным. Не далее как этой весной был такой случай. Ехал он с поля. Вдруг в овражке, в самом начале Подвысокого, заметил прикрытый дерном какой-то бидон. Дед остановил лошадь, подошел к промоине. В овраге стоял наспех зарытый бидон – с фермы в таких возят молоко. Дед открыл его – сполна налит, до краев. Отпробовал, не молоко, а сметана. Дед поставил бидон на повозку и прямехонько в сельсовет. Бабушка долго потом ругала его: почему не привез бидон домой. Сколько масла бы сбили! Сразу за весь год по молоку бы рассчитались.
Дед только посмеивался в ответ.
А тут – вон оно что!
Однажды над севалкой его застал отец. Невозможно рассказать, что тут было! Отец побледнел, затрясся весь. Подлетел к деду, схватил его за ворот полушубка, приподнял.
– Как ты смеешь?! – зашипел отец. – Поймают, навечно позор всей семье! Еще раз увижу, сам заявлю!
– Убери руки, щелкопер несчастный! – Дед спокойно отстранил руки отца и, поправляя шубейку, продолжал: – Подумай лучше, кто кормит твою семью? Неужто ты думаешь, что весь твой выводок святым духом питается?! Я лишнего не беру. Не торговать зерно ношу, а по справедливости, на прокорм. Что заработал, то и беру.
Отец пуще всего боялся суда и милиционеров. Он сказал кому надо, и деда от дежурств на току освободили. Не знаю, то ли от безделья, то ли старость к нему пришла, но дед после этого случая как-то весь почернел, скрючился. Только и осталась от бывшего Андрея Максимыча одна борода. Сядет на задоргу и сидит, словно сорока на суку: весь в черном и сам черный, только борода белая.
Той же зимой дед умер. Соседи говорили, что умер дед Андрей хорошо. Пошел утром расчищать дорожку к погребу, взял лопату – смурыг, смурыг – и вдруг уткнулся лицом в сугроб, и все…
Мать первой увидела. Подняла его, а он не дышит. Запричитала, заголосила. Отца дома не было. Собрались соседки. Внесли деда в избу, положили на коник. Бабы шмыгают носами. Мне жутко, я первый раз вижу смерть…
День ото дня забот и хлопот мне прибавлялось. Но как ни старался отец приучить меня к землепашеству, наука эта мне не давалась. Он очень скоро махнул на меня рукой – подрастали меньшие сыновья.
Наступил день, когда и мне, как и Федьке, сшили настоящие мужские брюки с отворотами и с петельками для продевания ремня. И насушили сухарей. И дали денег на дорогу. И я, как и Федька, выплыл в море жизни.
Я стал студентом педагогического училища.
…Одно за другим падали на землю пыльные полуистлевшие бревна. С каждым вновь упавшим бревном все ниже и ниже становилась наша изба.
А на каждом бревне масляной краской пометки: «Ю-8»… «В-7»…
XII
Пометки эти означают: южная сторона, восьмое бревно: восточная сторона, седьмое бревно… Это для того, чтобы плотники, собирая сруб на новом месте, не путали венцы. Место это недалеко – всего в трех километрах от Липягов, на станции. Разобранную по бревнышку избу мы сложим в кузов автомашины и повезем. Машина придет вечером, Федор уже договорился. Там, на станции, посреди огромного пустыря, начинающегося сразу за угольным складом, стоит тесовая времянка. Неподалеку от нее высовываются из земли каменные столбы – фундамент для нового дома.
На станционном пустыре таких времянок много. Они стоят двумя рядами, как бы образуя улицу. Возле сараюшек – горы шлака и камня, штабеля досок. Глядишь, осенью станционный поселок раздвинется, обогатится еще одной улицей. Их и так немало, новых улиц. Исстари мужики из Липягов подрабатывали на станции. Стрелочниками, кладовщиками, ремонтными рабочими – служили кем придется. Но из села не уходили. А теперь все вдруг захотели жить на станции. Кем бы ни служить, лишь бы устроиться на «железке». Оно и понятно: на станции совсем иной мир, чем у нас в Липягах. Если ты работаешь на «железке», у тебя каждые пятнадцать дней получка. На станции есть ларьки с хлебом, и школа, и клуб, и кино.
Со всех окружных сел перекочевывают дома на станцию. Вот и мы наконец решились. На первый взгляд, ничего особенного нет в этом переселении. Просто исчезает еще одна изба с нашего порядка. Их немало уже исчезло за последние годы. Наша улица напоминает теперь челюсть старого-престарого человека: то тут, то там вместо зубов видны щербины.
Что ж, будет одной щербиной больше…
Отболело.
Отболело ли?
У меня, пожалуй, да: отболело. К тому же я не уезжаю из села. Я живу в коммунальной квартире. Ее дали мне как учителю. У Степана тоже душа не болит об отцовском гнезде – он парень бесшабашный. Но на Митю мне смотреть больно. Ему дорого все, что связано с избой. После смерти деда и сама изба, и сарайчики возле нее – все понемногу обваливалось, ветшало. Никто – ни отец, ни братья – рук не прикладывали к дому, только он один старался. Было время, когда Митя вообще тянул всю семью. Старшие братья воевали; отец погнал в эвакуацию колхозный скот. Мать, убитая горем, едва ходила. Он остался за хозяина.
Немцы подошли вплотную к селу. Оставшиеся в Липягах бабы и старики собрались и решили: колхоз сохранить. Они все припрятали – и семена и инвентарь. На базу остались лишь старые телеги и лошади.
Но в ночь, когда в Липяги вступили немцы, несколько мужиков не утерпели и явились на конюшню, чтобы поживиться кое-чем. Узнав об этом, Митяй тоже отправился на баз. Вскоре он подъехал к дому на телеге, запряженной общипанной лошадкой, еле стоящей на ногах. На дрогах – соха, какие-то рваные хомуты, сбруя. Мать рассказывала, что она сначала обрадовалась: мол, молодец Митя, другим не уступил, а потом перепугалась – имущество-то ведь колхозное!
Митя подъехал к сараю: «Тпру!» Важно так, как это делал дед, слез с телеги, бросил вожжи на круп лошади. Стаскивая соху, рассказывал:
– Игнат Старобин впрягал уже. Едва отбил. «Не смей! – говорю. – Этот мерин от нашей кобылы! От нашей! Понял?!» Я давно с него глаз не спускал. Ничего, что он в лишаях. В моих руках быстро поправится…
Мать помогла Мите снять соху. Вместе отнесли ее в сарай.
Однако и двух недель не прохозяйничал Митя. Только что и успел, что меринка в порядок привел: помыл его купоросной водой, почистил. Вскоре немцев прогнали. Вернулся отец. Узнав, что Митя привел с колхозной конюшни мерина, заставил его отвести обратно лошадь. Когда тот вернулся с база, снял с Митьки штаны и выпорол его ремнем. Отец все еще думал, что Митя ребенок. А ему шел уже пятнадцатый год. И к тому же он был злопамятен. Митя не мог простить отцу рукоприкладства. Он не захотел больше работать под началом отца в колхозе. Той же осенью устроился учеником в депо. Работа у него была грязная (он чистил паровозные котлы). Получал Митя мало. Но он не унывал: как и дед, находил, чем восполнить плату за свой труд. Не было дня, чтобы он вернулся со станции с пустыми руками. То тесину сунет под мышку, то брусок какой-нибудь вместо палки в руки возьмет, то антрацита насыплет в сумку. Глядишь, весной в сарае целый воз тесин, филенок, листов фанеры. Все лето вечерами Митя возится на дедовом верстаке – что-то строгает, сколачивает. Потом, глядишь, в сенцах появилась новая дверь. Так, незаметно, он и рамы новые повязал, и полы в мазанке настлал.
XIII
Ожидая, когда сбросят очередное бревно, Митя стоит под ветлой. Опершись на вилы, тычет ботинком в солому, потроша ее.
– Ищи, ищи! Я сам видел, как дед Андрей кубышку с золотом в пелену затыкал… – смеется над Митей Степаха.
Для Степана все происходящее – сцена, комедия. Но у меня щемит сердце, как только я подумаю о том, что никогда уже больше не будет стоять на месте наша изба. Столько воспоминаний с каждой половицей, с каждой тропкой возле дома!..
Я замечаю, что никому не доставляет радости наша теперешняя работенка. Ни улыбки на лицах братьев, ни удали; только и слышны деловые команды:
– Ну-ка, Павел Мироныч. Поднажми ломом! Осторожно… так…
Подошла мать. Отнесла, видно, кудель в мазанку и вернулась – не терпится посмотреть, как и что.
– Смахни-ка, Митя, пыль, – просит она. – Погляди, не сгнили венцы-то…
Митяй вязкой соломы обметает бревно. Мать щупает сосновый кругляк и вздыхает. Она считает, что во всем виноват Федор. Он-де старший, не захоти он переезжать из Липягов, все поприжали бы хвосты. Кому плохо в деревне, пусть тот и переезжает на станцию! Федор и коммунальной квартиры добился бы…
Оно, конечно, Федор в чем-то повинен, но не меньше виноваты и все мы, дети колхозного бригадира, не пожелавшие пахать землю.
Думая над всем этим, я прежде всего обращаюсь к себе: почему ты не стал рядовым колхозником или механизатором? Ведь сколько раз судьба возвращала тебя к земле!
Вспоминаю военные годы.
Отвоевался я рано: десяти месяцев не провел на фронте. Меня изрядно-таки садануло, так садануло осколком, что целый год валялся потом в госпитале. Ничего, отошел. Выписался из госпиталя. Что делать? Служака из меня никудышный: дали белый билет. Вернулся я в Липяги. Никто не встречал меня на станции, да я и не извещал. Захожу в избу. Отец сидит на ящике; перед ним на лавке коробка с сапожным инструментом: подбивает сапоги. Седой, сгорбившийся. Здорово война его подкосила.
Мать была в поле. Соседские ребятишки помчались за ней. Четверти часа не прошло – прибежала. Увидела мое увечье, заголосила. Собрались соседки, успокоили: слава богу, жив.
В войну наш «Красный пахарь» разделили на три крохотных колхоза. В одном из них отец председательствовал. Представьте себе, как он обрадовался моему возвращению. На выбор любую должность предлагал: и бригадира, и счетовода, и фермой заведовать. «Обожди, говорю, дай осмотреться». Меня поддерживала мать: дай, мол, человеку отдохнуть, с войны ведь пришел…
Пожил я, погулял недельку, а потом набросил шинелюшку на плечи, вещмешок в руки и подался в стольный город наш Рязань. На фронт взяли меня с третьего курса педучилища. Зачетка чудом сохранилась. С этой зачеткой я и пришел в пединститут. Фронтовик, инвалид… Ничего, приняли. И не как-нибудь, а сразу на второй курс. Холодно в нетопленном студенческом общежитии и голодно порой, а все-таки лучше, чем в Липягах…
XIV
И вот спустя три года я снова в Липягах. У меня диплом учителя. Все лето, на радость отцу, я работаю в поле: кошу, силосую, мечу скирды. Наконец настает первый день занятий в школе. В избе суета. Вдруг является почтальон и вручает телеграмму от Федора: встречайте, поезд такой-то.
Федор знал, с каким поездом лучше приезжать – с вечерним, астраханским. Всей семьей отправились мы на станцию. Подкатывает скорый. Из дверей спального вагона вышел наш старший братец. Китель на нем цвета бутылочного стекла; сапожки – что тебе зеркала: начищены так, что смотреться в них можно. В руках чемоданы, видно, заграничные, под крокодилову кожу. Вся грудь бронзой увешана. Одним словом, боевой офицер, вояка!
Мать бросилась сыну на шею. Потом Федор расцеловался с отцом, с каждым из нас. Ну что ж, со счастливым возвращением тебя, Федя!.. Можно бы идти домой. Только видим, возле вагона стоит обескураженная шумной встречей статная такая, широколицая девушка в военной форме.
– Знакомьтесь, – говорит Федор. – Клавдия, моя жена…
Что ж, жена так жена… Старший сын, ничего не поделаешь! Мать растерянно заулыбалась, не зная, целовать невестку или ограничиться поклоном; потом решилась, поцеловала. Братья по очереди подошли к ней, пожимая руку. Стоит девица, изучающе смотрит на всех нас. Пилотка на ней, гимнастерка с погонами сержанта, юбка – все как положено по форме. Правда, все как-то свободно, широко, но никто из нас не обратил на это внимания: известное дело, военная форма не красит женщину.
Перездоровались, перецеловались, теперь, кажется, можно и идти. Только что делать с чемоданами? Стоим мы, переглядываемся: за крокодиловы-то чемоданы заграничные и браться боимся, не привычны.
Но рано или поздно, а пришли домой. Что надо русскому человеку со встречей? Выпить. Я думаю, что тогда, в год победы, на Руси было выпито столько, что Каспия одного не хватило бы, если бы пили воду. Но пили водку и самогон, а этого добра всегда в достатке. И мы выпили в тот день изрядно. И с радости и с горя. Радостно, что мы победили и вернулись домой, и больно, что за этим столом нет брата Ивана: он погиб под Ржевом.
Выпили. Начали пересказывать друг другу всякие боевые эпизоды. Отец тут же завел разговор про колхоз. Теперь, мол, мужики отвоевались, соберутся, слетятся в Липяги, и дела в артели пойдут на поправку. Но слушали его плохо – молодежь затянула песни… Одним словом, до рассвета колобродили. Улеглись где попало, настолько всех разморило.
Наутро вышел я из мазанки. На дворе солнечно, прохладно. Вижу, Федя стоит под ракитой и вытирает мохнатым полотенцем лицо. А фронтовая его подруга в легком халатике, в модных босоножках умывается под рукомойником.
– Доброе утро! – говорю я, подходя.
– Доброе утро… – отвечает она и, застеснявшись, перестает плескаться; запахнула халат и тянет руки к Феде за полотенцем.
Смотрю – батеньки мои! А сержант-то наш, того, на сносях!..
За завтраком мать невесела. Она догадывается, но вида не подает. Мать не знает, как угодить молодой невестке. Достала ручники из сундука, постлала их ей на колени. А невестка обе руки на стол положила и яичко за яичком берет, ловко так очищает, себе и мужу подкладывает и непринужденно болтает:
– У нас в полку одни мужчины. Женщины только связистки да медички. Мужчин много, а женщин мало. Совсем как в песне. Поймите, мамаша: очень трудно на войне женщине. Мужики увиваются, подарки, слова разные. Сам полковник никогда не пройдет мимо санчасти, чтобы не заглянуть. Можно было составить более приличную партию. А полюбила вот деревенщину… – и, догадавшись по надутому лицу Федора, что сболтнула лишку, примиряюще добавила: – Но мне никого другого не надо ни за какие деньги! Посмотри, Федя, это яйцо, кажись, тухлое.
Федор берет очищенное яйцо, смотрит, пожимает плечами. Мать меняется в лице. Мне жаль ее. Она-то знает, что яйцу некогда протухнуть. Она ждет не дождется, когда снесется та или иная курица, щупает их, затыкает все дыры в плетнях: не дай бог греха, убежит и снесет яйцо у соседей.
Мать отдает яйцо Степахе; тот, не долго думая, с вытаращенными глазами проглатывает его и вылезает из-за стола. Мать молча провожает его взглядом. Она знает, почему он вылез. Она с трудом сдерживает слезы.
Невесел и отец. «Такую полоть не пошлешь», – думает небось он, глядя на невестку.
После рассказов про полковых мужчин и про жизнь в Европе не помню кто – то ли отец, а может быть, мать – осторожно справляется о том, что они намерены делать дальше.
– Отдохнем, посмотрим, – отвечает Федор.
Мать вздыхает. Федя был на последнем курсе, когда началась война. Оставалось лишь защитить диплом. Рулоны бумаги с чертежами она сумела уберечь даже от немцев. Мать думала, что, вернувшись из Германии. Федя в первый же день заберет эти чертежи и поедет в техникум. Но он про них даже не вспомнил. И ей стало горько.
Лишь один отец не терял уверенности. Снова, как в свое время передо мной, он начал выкладывать свою «колхозную номенклатуру»: и завфермой можно устроить, и бригадиром строителей…
– Ну что вы, папа! – говорит за Федора супруга, вытирая губы ручником. – Разве мы можем оставаться навсегда в деревне?!
Чай пили молча.
Выходя следом за сержантшей из-за стола, Федор щелкнул крышкой серебряного портсигара и, угощая отца сигаретой, как бы между прочим сказал:
– Папа, я думаю отгородить себе угол в избе. Как-никак все-таки семья.
XV
Если я что-либо и не любил в нашей избе, так этот угол, вернее, эту перегородку. По-моему, с нее-то именно и надо было начинать потрошить избу. Но переборка, как назло, стояла. Она и печка. Все так, как на пожарище. Неестественно высокая черная труба и запах гари.