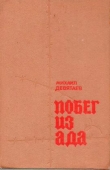Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Тетя Луша не спешила с ответом. Накрыла миски полотенцем, вытерла руки о фартук и вразвалку, переваливаясь с боку на бок грузным телом, подошла к девушкам.
– Подвиньтесь-ка! – Она шумно привалилась широкой спиной к стожку.
– Теть Луш, теть Луш… Ну расскажи! – приставала Света.
– Эка! Да откуда я знаю, в чем оно, счастье-то.
– Ну уж! Прожила жизнь и не знаешь!
Наблюдая, как оживились девушки, едва Лукерья заговорила о счастье, я думал, что в школе мы очень мало говорим с учениками о смысле жизни. Мы требуем знаний. Я объясняю, когда жил Джордано Бруно и какое значение его работы имели для развития астрономии и физики, историк непременно требует назубок знать все походы Александра Македонского. Математик, само собой, долбит задачки… И никто из нас, учителей, не поведет на уроке речь о том, чем счастлив был Бруно, сгоревший на костре, и почему страшился всего Македонский, владевший чуть ли не половиной мира.
Да что там на уроке! Даже теперь я, агитатор, рассказывая людям про коммунизм, ни словом не обмолвился о счастье. Я напирал все время на то, что коммунизм – это равенство, что это изобилие, что это расцвет науки и культуры и т. д. А будут ли люди счастливы и как они будут счастливы – та же Света, тот же Назарка, – об этом я не сказал ни слова.
А как, оказывается, это их волнует!..
VIII
– Во-на! – подхватила, помолчав, Лукерья. – Чего вы захотели! Чтобы я сказала вам, какое оно, счастье?! Если б я знала, для себя бы припрятала.
– Тетя Луша, а разве ты не считаешь себя счастливой?
– Да как вам, девки, сказать? На свою жизнь не обижаюсь, хоть клада никакого и не находила… – Тетя Луша усмехнулась и продолжала: – В старину за счастье богатство принимали. Выйдет какая-нибудь баба за богатого мужика. Все завидуют: Арина, мол, счастлива! А смотришь на нее – сохнет девка… да!.. Бывало, каждый старался урвать, разбогатеть. Обманом или еще как. Купцы там, помещики разные. Ну, мужик, известно, на клад надеялся. Думал, найдет клад – справит новый дом, лошадок каких получше заведет, землицы прикупит. Вот почему и копался каждый тут, в Денежном. В одиночку норовили, ночами… Пугали друг друга насмерть. Одни рядом копались, другие в поисках счастья ходили за тридевять земель. Вон хоть старик Санаев…
– Дед Савватий-то? – отозвался я. – Сосед наш. Как же! Бородатый такой старик был… Соберет, бывало, нас, ребят, начнет рассказывать про всякие земли…
– Так вот, этот Савватий, – продолжала Лукерья, – ходил в дальние земли, искал страну Беловодье. Это будто страна такая, где текут белые молочные реки, где вечно весна и птицы райские поют, где люди ничего не делают – все у них и без того есть: ешь, одевай, что хочешь.
– Ну и что ж, нашел? – Вера, сидевшая в сторонке, зябко повела плечами, подсела поближе к подружкам.
– А то как же! Долго, говорит, ходил только: и в Киргиз-кайсацком крае был, и в Китае… Пока он ходил, искал, много воды утекло. А тем временем в этом Беловодье, в стране ить, беда случилась. Речка их самая главная, в которой молоко текло, плотину-то и сорвала. Ерунда, небольшая еще брешь была. Людям бы взять в руки лопаты и дружно заделать ее. Но люди в той стране не умели работать – зачем им работать, когда все, что надо, вокруг лежит! Речка размыла плотину, молоко-то все и утекло в пустыню…
– Савватий, значит, опоздал?
– Он так сказывал… Вернулся он из этой самой страны худющий-прехудющий. От зипуна одни рукава остались. Слепил он себе землянку на самом конце порядка, да и доживал спокойно свой век. Наберет зимой кусочков, насушит сухарей, а все лето пташек разных ловит да продает их на ярмарках…
– Соловьев, что ль? – допытывалась Вера.
– Не одних соловьев – и дроздов, снегирей. Но он торговал ими не из-за денег, а так… интересно было ему шататься по всяким ярмаркам. Сейчас, я замечаю, народ не ходит. А бывало, и зимой и летом идут и идут. Разутые, раздетые, в чирьях все – ужасть! Один ходил на «вольную» – так тогда целина называлась. Другой по святым местам шлялся: счастья у бога вымаливал. И идут, и идут. В лаптях; есть какая самотканая рубаха – и та с плеч сползала. Нальешь ему в чашку тюри, а он сидит за столом да только плечами подергивает – вши заели. И вот что скажу: каждый норовил в одиночку идти. Авось мне подвезет! Сосед ходил – ни с чем вернулся, а я вымолю у бога счастье свое.
Лукерья замолкла.
Костер почти совсем погас. Светлана подбросила на угли сухого сена. Сизоватый дым приник к росистой траве. Но вот вспыхнуло пламя, и на миг из темноты возникли стожки сена, разбросанные по лугу, правильные рядки свежескошенной травы, казавшиеся сейчас черными.
Мужики, накурившись, дремали.
Коростель дернул раз-другой и затих.
Слышно было только урчанье трактора на самом взгорке, у Денежного.
– А Назарка все ищет… – сказала Вера.
– Ить молод, пусть ищет! – в тон ей отозвалась тетя Луша.
– И не боится… один-то! – обронила Света.
Никто ничего не ответил. Девушки начали укладываться спать. У каждой из них был узелок с одеялом; они разбирали эти узелки – одно одеяло подстилали, другим укрывались. Укладывались так, как ребята в ночном – рядышком. Жались ближе друг к дружке: – так теплее спать. Дольше всех возилась Света Коноплина. Она затеяла перед сном расчесывать волосы, и пока возилась с ними, все улеглись.
Света устроилась с краешка, возле тети Луши. Старуха, прежде чем улечься, долго что-то суетилась, вздыхала, и, уже засыпая, я все еще слышал ее голос:
– А счастья-то в одиночку нет… Нет, девоньки! Ведь где-нибудь в заграницах людей нарочно разъединяют… садиком да огородиком, а то и, глядишь, машиной. Живи, мол, обогащайся! Счастлив будешь… А я вот, скажу вам по чести, дома, для себя, готовить не очень люблю, а для всех – иное дело…
Костер погас, лишь тлели угли, бросая красноватые блики на росистую траву, на зеленые кусты осоки, теснившиеся вдоль ручья.
Прикрывшись полушубком, я долго лежал, не засыпая, смотрел на звезды, на черные увалы лога и думал сразу обо всем – и о прошлом, и о звездах, и о будущем…
Вот кто-то всхрапнул на нашей мужской половине; еще спустя минуту-другую затихло все и у девчат. Звездный мир, слитый с землей, померк в ночной дреме.
IX
Я проснулся от холода. Луна светила прямо в лицо. Небо словно выцвело – стало белесым, и звезды на нем едва различимы. Было по-прежнему росисто, но туман уже начинал понемногу редеть.
Я поднялся. Спросонья прохватила дрожь. Осторожно достав из-под головы полотенце, я прошел к ручью и умылся. Вернувшись к телеге, возле которой спали косцы, бросил полотенце, закурил.
Заря уже обложила весь край неба на востоке. Птахи неистово гомонили. В их гомоне чего-то будто не хватало. Я не сразу вспомнил, чего именно. Потом догадался: не хватало урчанья Назаркина трактора. «В самом ли деле Назарка ищет клад или шутит?» – подумал я, и мне захотелось заглянуть к нему.
Покурив, я направился к трактору.
Пологие скаты лога испятнали фиолетовые островки цветущей кашки. Мохнатые соцветия ее, словно перламутровые пуговицы, белы от влаги. Наступишь на них, и тотчас же легкие росинки тумана слетают, и на лугу остается зеленый след от сапог. Чем выше я поднимался, тем дальше мне становилось видно. Налево, до самого горизонта, стояли поспевающие хлеба. Направо, вдоль дороги на Ясновое, выстроились остроконечные побеги кукурузы. На нежно-матовом разливе восхода стебли растений казались гуще, чем днем. Рядки их с ровными промежутками напоминали чем-то пики воинов, стоящих в строю…
Чем ближе к перевалу, тем бледнее растительность. Вот под ногами зашуршал жесткий чабрец: бесцветные листочки его были сухи и безжизненны, словно вырезанные из бумаги. На каждом шагу, то тут, то там виднелись завалившиеся ямы, заросшие полынцой и репейником. Это места, где когда-то липяговцы искали клад. По краям оврагов и промоин кудрявились низкорослые дубки, рос колючий шиповник. Его цветы пожухли от зноя. Опавшие лепестки белели под кустами, как будто ветром намело сюда снежинки.
Неожиданно я увидел неподалеку трактор. Он стоял на самом взгорке, где спуск к логу не так обрывист. Трактор был новый, с пневматикой. Здесь, на лугу, им копнили сено. Спереди к нему монтировался сенокопнитель: он захватывал сразу всю копешку сена, волочил ее и укладывал в стог. Сейчас на тракторе вместо сенокопнителя приделан был ковш. Шустро работал Назарка: вон какую ямищу отрыл за ночь!
Я хотел пробраться к траншее, но мокрая глина липла к сапогам. Они стали тяжелыми, как гири. Пришлось подняться еще выше на взгорок. Назарки в кабинке не было. Я обошел яму. И тут вдруг заметил, что под кустом, в сторонке, что-то будто чернеет. Я подошел.
Под дубком, подостлав свежескошенной травы, спали Назарка и Света.
Светлана спала, как спят дети. Она лежала на боку; правая рука ее подложена под голову, левая – придерживала ватник, которым укрыл подругу Назарка. Лицо ее было спокойно и вместе с тем радостно – той особой светлой радостью, с которой засыпают только в юности.
Назарка, распластавшись на спине, лежал рядом. Ворот клетчатой рубахи расстегнут; испачканные мазутом руки разбросаны в стороны. Даже и во сне он улыбался чему-то.
«А Назарка нашел-таки свой клад!» – подумал я с усмешкой. И вдруг увидел в тени дубка черное сиденье из кабины трактора. На дерматиновой обивке аккуратно, одна к одной расставлены были какие-то странные вещи. Сначала я принял их было за бесформенные комья глины, но, приглядевшись, понял, что предметы эти извлечены Назаркой из земли.
Осторожно, стараясь не потревожить сон Назарки и Светы, я раздвинул куст и взял один из этих предметов в руки. Это оказалось старинное оружие наших предков – алебарда, вернее, не вся алебарда, а сама секира. Лезвие ее было изъедено временем, а нижняя часть с отверстием для древка сохранилась довольно хорошо.
«Нашел-таки! Молодец Назарка!»
Мне не терпелось рассказать об этом всем. Я поспешил вниз, к роднику. Сначала шел шагом, раздвигая кусты руками, потом побежал. Кусты шиповника царапали руки, цеплялись за одежду, но я даже не чувствовал этого.
Еще издали я заметил, что наш цыганский табор у родника уже пробуждается. Возле телеги стоял Авданя и, посмеиваясь, что-то рассказывал тете Луше, хлопотавшей возле чугунков.
У источника умывались девчата. Я подбежал к ним и сразу же выпалил насчет клада. Девушки окружили меня. Я показал им кусок металла, облепленный со всех сторон желтой глиной. Девчата тотчас завладели им и, вырывая друг у дружки из рук, начали счищать с него глину. Подошли Авданя и тетя Луша.
Авданя, вдруг посерьезневший, вертел алебарду в руках и все качал головой. Тетя Луша вздыхала. Ей не верилось, что эта железка пролежала столько лет под землей и не сопрела.
Кто-то из девушек предложил обмыть находку в ручье, чтобы не было на ней глины, но в это время Вера вспомнила про Назарку.
– Девчата! Что же это мы? Айда поздравим Назарку! – сказала она и первой бросилась вверх, к Денежному.
Она была длинноногая, эта Вера, и крепкая; за нею не так-то легко угнаться. Девчата, побежавшие следом, взбирались на перевал цепочкой.
Вера была уже на самом горбу лога, как вдруг остановилась и растерянно обвела взглядом бегущих за нею девушек – Светланы среди них не было.
Вера как-то вмиг сникла, даже будто меньше ростом стала: постояв на перевале, она медленно пошла обратно вниз, навстречу все еще продолжавшим карабкаться вверх подругам.
– Веруха! Ты чего?
Вера молча пожала плечами, сорвала на ходу былинку кашки и, покусывая ее, сказала, сдерживая слезы:
– Подумаешь, железку какую-то нашел! Вот если бы он золото настоящее отрыл…
И она пошла вниз. Девчата постояли, подумали и, не согласившись, по-видимому, с Верой, снова побежали вперед – все выше и выше.
Когда Вера вернулась к костру, к ней подошла Лукерья. Старуха молча обняла ее и, увидев, что я наблюдаю за ними, ворчливо, с напускным недовольством сказала:
– Ишь железку нашел! Добра этого сколь хочешь в нашей земле! Прошлой весной я у себя на огороде мину немецкую откопала. И то ничего! Обось, как помню себя, люди только тем и занимаются, что делают ребят и воюют. И уж будто учили всех, а они все не унимаются. Мало, видать, им земного счастья… Нашел?! Железку нашел. Побежали. Чтоб им!..
Бирдюк
I
На рыжих стенах мазанок белеют паутины. Их так много, что они видны даже из окна. Паутины неподвижно висят в воздухе, как канаты от колоколов, спускаясь откуда-то сверху до самой земли. Пока дойдешь из школы до дому, всего тебя опутает паутина – и лицо, и руки, и портфель с ученическими тетрадями.
Ничего не поделаешь – бабье лето.
Народ в поле. Самая пора копать картошку. Дни теплые, звонкие. Двери погребов и сарайчиков открыты настежь. Малыши и старухи копаются возле погребков – перебирают картошку. Все взрослые в поле. Редкостная стоит погода. Надо успеть до первого зазимья убраться.
В такие дни на деревенских улицах всегда безлюдно.
Именно таким днем в самом начале бабьего лета и появился на нашей улице Бирдюк.
Братья мои избу с Кончановки перевезли на станцию. А огород-то посажен был с весны. Теперь пришла пора убирать. Федор с женой приехал и мать. Я после школы прибежал помочь им.
Несу кошелку с картошкой и вижу – Бирдюк идет. От центра, от правления. Сначала я не обратил на него внимания: мало ли хлопот у эмтээсовского кузнеца! Может, машина какая застряла в поле. А может, в гости к кому захотелось. У них, у эмтээсовцев, свои порядки.
Но вот Бирдюк прошелся вдоль улицы, от бывшего поповского дома до выбитого скотом выгона, и остановился на кичигинском пустыре.
Улицы у нас в Липягах узкие, все видно. Два ряда бревенчатых изб, крытых соломой: по обе стороны пыльной дороги рыжие мазанки и шалаши погребов. А тут, как раз напротив того места, где стояла наша изба, – пустырь и посреди него остов большого, сложенного из красного кирпича дома.
Когда-то, еще в годы нэпа, на этой усадьбе задумал обосноваться наш липяговский купчишка Терентий Кичигин. Он жил на селе у самой церкви, там и лавка у него была. Торговал Терентий подсолнухами, астраханской селедкой, крестиками с изображением распятого Христа, солью и прочей мелочью. Видно, поднакопил Кичигин деньжат и задумал строиться. Приглядел себе участок на самом краю нашей улицы, или, как у нас говорят, порядка. Усадьбу Кичигин отхватил большую, чуть ли не с десятину. Земля тут неважная, где-нибудь на низах, у Липяговки, куда лучше. Однако Кичигин не посмотрел на это.
Он думал о другом, о деле.
Наш порядок выходит на большую скопинскую дорогу. Место бойкое. Сколько мужиков проезжало тут, особенно в пору ярмарок! Ехали из Чернавы, из Лебедяни, из Венева.
Кичигин и задумал поставить тут, с краю села, что-то наподобие постоялого двора. Чтобы дело со стройкой спорилось, он оборудовал свой небольшой кирпичный заводишко. В просторной риге лошади месили глину. Лошади были привязаны к длинным жердям, укрепленным на колесе. Морды их занавешены торбами: к хвостам подвязаны холстинные мешочки.
Коняг погоняет мальчик. Он стоит в центре, на колесе, и то и дело ударяет кнутом понурых кляч. Мальчик этот я. Нас у родителей полдюжины, а год костричный, неурожайный.
Я стегаю по очереди лошадок. Клячи ходят по кругу и копытами месят глину. Разделанную, словно тесто, глину режут на куски и относят к станкам. За прессами сыновья Кичигина. Они формуют кирпичи. Кирпичи складывают рядками и после просушки отвозят на пажу. Там их закладывают в ямы и обжигают.
Кичигин приторговывал кирпичом – сбывал с рук какой похуже. Себе оставлял самый лучший, что звенит при ударе. Из этого кирпича он выстроил лабазы, погреба для хранения пива и сельди, потом принялся за хоромы. Кичигин заканчивал кладку дома – большого красного дома на две половины: одну для жилья, другую для лавки: и тут вдруг липяговские мужики заговорили о «коммунии».
Терентий сразу сообразил, к чему клонится дело. С весны он прикрыл свою лавчонку, распродал лошадей, прессы и другое оборудование кирпичного заводишка. Насобирал деньжат и тихо-тихо спровадил куда-то сыновей. А осенью и сам за ними следом. Заколотил досками погреб, ворота лабаза, окна недостроенного дома, и был таков… Куда юркнул Терентий, никто толком не знал. Ходил слух, будто он купил себе дом где-то под Москвой – не то в Ступине, не то в Орехове. Говорили даже, будто бы он помер перед самой войной. Так ли, не знаю. Во всяком случае, никто из Кичигиных не наведывался за все это время в Липяги, чтобы заявить о своих правах на наследство.
Да и то, если говорить по правде, о каком наследстве могла быть речь! От кичигинского поместья почти ничего не осталось. Сначала мужики побаивались: а ну-ка Терентий кому-нибудь поручил доглядывать. Потом мало-помалу осмелели. Одному потребовалась сотенка кирпичей, чтобы подправить развалившуюся трубу: другой задумал подлатать фундамент под избенкой… За каких-нибудь пять-шесть лет соседи растащили кичигинский лабаз. Настало время, добрались и до погреба. Видя такое дело, наш тогдашний колхозный председатель Чугунок распорядился изъять кулацкий кирпич на артельные нужды. Кичигинские погреба разломали, бут и кирпичи перевезли к Липяговке, и все это пошло на телятник.
Разломали бы и дом, но он оказался прочнее железобетона. Бились-бились, да так и не сумели разобрать. Только и удалось снять несколько кирпичей с карниза. Многие пробовали свою силенку. Ничего не получалось. Все отступились.
Так и стоял, зияя пустыми глазницами, красный кичигинский дом. Тридцать лет стоял. И еще простоял бы сто годов если бы не Бирдюк.
ІІ
Бирдюк приблизился к кичигинскому пустырю, постоял возле ям обвалившихся погребов; потом подошел к кирпичным стенам дома, заглянул внутрь, поковырял ногтем швы кладки, измерил ширину оконных проемов, снова постоял, оглядываясь и прикидывая: потом заложил руки за спину и так же не спеша пошагал на зады.
Кузнец был огромного роста, длиннорукий и сухопарый. Однако, несмотря на свой огромный рост, он никогда не сутулился, отчего казался еще выше.
Вдоль вала, отделявшего огороды от пажи, росли ветлы. Бирдюк осмотрел каждую ветлу, перешагнул через осевший, полуразвалившийся вал и все той же размеренной, неторопливой походкой направился к Кузьмину логу в МТС. Кузнец ни с кем не встретился, ничего не расспрашивал у соседей, копавшихся в огородах. Не знаю даже, обратил ли кто-нибудь на него внимание, кроме меня. Да и сам я не придал никакого значения этому.
Но дня через три Бирдюк появился снова.
Наши кончановские бабы возвращались с поля. В сумерках было дело. Вдруг видят: с горки от Кузьмина лога катит кто-то на мотоцикле. Бабы перепугались. Думали, директор. И в войну, и после войны бабы понемногу потаскивали с поля, особенно в уборку. А в этот год впервые ввели «десятину». Вы знаете, что это такое? Это, коротко говоря, работа исполу. Выкопала колхозница десять кошелок картошки. Девять высыпает в общий ворох колхозу, а десятую – в мешок, для себя.
Бабы ехали на подводе и везли эту самую десятину. Все было законно. И все-таки они струхнули, увидев мотоциклиста. Кто его знает, сегодня десятина законна, а завтра, глядь, и… Одним словом, бабы заерзали на мешках, стали прикрывать их. Таня Виляла, правившая лошадью, хотела даже свернуть с дороги к логу, чтобы посбрасывать мешки в овраг. Хорошо, что другие бабы оказались посмелее и отговорили ее.
У самого въезда в село мотоцикл нагнал подводу. Ба! Да это Бирдюк со своей молодой кралей катит! – удивились бабы. Те, что помоложе, мигом стали прихорашиваться, поправляя платки и полушалки: чай, не хуже его крали!
Обдав повозку перегаром бензина, мотоцикл профырчал мимо и, помаргивая красным огоньком, стал подниматься в гору.
– Ишь расселась, не боится, что пузо растрясет… – сказала Таня Виляла, кивнув на женщину, сидевшую в коляске.
– А чего ей бояться, небось не на телеге едет. Под ней рессора есть.
– Удержит такую рессора! Разъелась, ажно бочка.
– За таким-то мужем и я бы за год растолстела так, что дизелем не переедешь! – не без зависти отозвалась Татьяна. Она молодухой осталась в войну без мужа с тремя детьми. Всякого пришлось хлебнуть. Однако не потеряла ни чувства юмора, ни былой своей красоты.
– С картошки не растолстеешь поди!
– Толстеют-то от спокойной жизни.
Пока, судача и пересмешничая, бабы въезжали в село, мотоцикл протарахтел вдоль улицы и остановился на кичигинской пустоши.
Бирдюк соскочил с сиденья и помог вылезти из коляски сидевшей в ней женщине. Она была маленькая, но полная. Правда, полнота ее не от еды, о чем судачили бабы: она была беременна. Однако беременность не портила ее. Ее положение скрадывала со вкусом сшитая одежда. На ней надето было широкое, без пояса, коричневое пальто с накладными карманами, белый из козьего пуха полушалок повязан туго, не так, как повязывают ли пяговские бабы. Из-под полушалка выбились на лоб завитушки русых волос. Эти легкомысленные завитушки да еще чуточку вздернутый носик молодили ее. А рядом с угловатым верзилой, каким был кузнец, она и подавно выглядела девчонкой. Ее скорее можно было принять за дочь его, чем за жену.
– Ну как, Аня? – проговорил Бирдюк.
– Что ж, мне нравится…
Бирдюк взял жену под руку и повел к остаткам кичнгинского дома. Так же, как и в тот, первый, раз, они осмотрели развалины погреба, лабазов, затем подошли к самому дому, то и дело останавливаясь, долго топтались возле стен. Бирдюк все что-то говорил, размахивая длинными своими руками, а женщина громко и счастливо смеялась.
Уехали они, когда уже совсем стемнело.
III
Наутро только и разговору было о Бирдюке.
– Бирдюк-то из эмтээсовцев к нам собирается. Приезжал вчера кичигинскую пустошь смотреть. Дом хочет отделывать.
Бабы без устали судачили о Бирдюке. Вспоминали его прошлое, жалели оставленную им Бирдючиху, завидовали втайне маленькой голубоглазой женщине, ставшей его новой женой.
Бирдюк наш, липяговский. Однако никто не знает, откуда пошла его кличка. Все, от малого до старого, звали его так, и никто не величал по имени и отчеству – Яковом Никитичем, а все Бирдюк да Бирдюк. Он не обижался. Даже в приказах часто писали не фамилию его, Промтов, а кличку. Может, сначала и обидна была ему кличка такая: Бирдюк – почти что Бирюк. Но давно уж его так величают. Привык.
Он ушел из Липягов лет четырнадцати. Их у матери была чуть ли не дюжина – один меньше другого. Отец погиб в гражданскую, в бою под Касторной. В деревне разруха, голод. Сначала Бирдюк ушел на «железку», а в тридцатом году, как только начала создаваться машинно-тракторная станция, поступил в МТС кузнецом. Но на самом деле он был не только кузнецом. Когда надо, он и токарничал, и слесарничал, и плотничал. Одним словом, Бирдюк на все руки мастер. И какой мастер! Случись в горячую пору, поломается какая-нибудь замысловатая деталь в тракторе или комбайне. Запасной нет. Как быть? Механик берет эту детальку в машину и мчится к Бирдюку. Так и так, мол, спасай.
Бирдюк поставит к наковальне молот, вытрет ладони о жесткий фартук, возьмет из рук механика сломанную деталь, осмотрит ее со всех сторон, помурлычет что-то себе под нос и наконец коротко бросит: «Можно».
Он сам откует заготовку, сам выточит, отшлифует. Причем, если надо, проторчит в мастерских всю ночь, а все-таки сделает, что обещал.
Кузнец всегда небрит, черен от копоти. Водки он не пил, дружеских компаний ни с кем не водил. Трактористы и механики его чуждались. Но он этим мало огорчался. Ему не хватало времени, чтобы ходить по гостям. Вечно он был чем-нибудь увлечен. Кроме того, что Бирдюк был несравненным мастером, он к тому же искусный выдумщик.
МТС создавалась у Подвысокого на голом месте. Когда-то, до революции, тут было крохотное поместье. Но в революцию барский дом сожгли. Пруд зарос осокой; ракиты и тополи, росшие вокруг поместья, крестьяне повырубили. Сначала в бывшем именьице обосновался табаководческий совхоз. Но земля наша слишком плоха для табака. Табак чах, раньше времени засыхал, и «тютюн-трест» от своей затеи отказался. Вдруг в одно прекрасное утро появились тут, у Подвысокого, черные свиньи. Зимой и летом свиньи разгуливали на воле; не знаю, кормили ли их, ухаживали ли за ними, уж очень страшны, худы они были. И до того голодны, что, как кобели, набрасывались на живых людей. Наши бабы одно время боялись даже ходить к Подвысокому. Свиньи перепахали носами все луга по Липяговке. Не помню точно, сколько лет владел этой пустошью свиносовхоз, только однажды черные свиньи так же неожиданно исчезли, как и появились.
На перепаханном свиньями пустыре началось строительство МТС. Более четверти века прошло, а пустырь в Подвысоком так и остался пустырем. Тесовый навес для хранения машин. Мастерские, сложенные из дерна, два-три домика, в которых жило начальство и специалисты, – вот и все. Ни мостовой, ни деревца вокруг… Уныло, ветрено на взгорке.
И среди этого уныния зеленым раем выглядит дом Бирдюка.
Вскоре после перехода с «железки» в МТС Бирдюк заслал сватов к богатому мужику Даниле Лункину. Кузнецу приглянулась единственная дочь Данилы Ефросинья. Выслушав сватов, Данила рассвирепел. Он обозвал будущего зятя беспорточным, а сватов вытолкал взашей. Но не на того напал Данила. Бирдюк легко не отказывался от того, что задумал. Спустя некоторое время кузнец сам пожаловал к Даниле. «Не смотри, Данила, что я беспорточный, – сказал ему Бирдюк. – А жизнь Фросе сделаю райскую. Как пеночка, будет сидеть моя женушка в саду да песенки распевать».
Время для Данилы было сумеречное, беспокойное: как раз накануне у него описали все имущество за невыполнение в срок «твердого задания». Подумал-подумал Данила, да и махнул рукой. Черт с ней, с дочерью, – вся жизнь рушится!
Сыграли свадьбу. Бирдюк и приданого не взял за Фроську. Посадил ее на велосипед, да и покатил к Подвысокому.
Вскоре он выхлопотал себе участок и начал строиться. Поставил пятистенок, сарай. Огород вспахал трактором чуть ли не на метр глубиной. Думали, он картошку собирается сажать, а кузнец с картошкой не спешил. Все лето, придя с работы, копался на вспаханном огороде. Рыл ямы, разбрасывал навоз. Осенью насадил сад. Чудный сад! Росли в нем невиданные в нашей округе деревья; груши вызревали величиной с черпак, черная рябина… А в саду Бирдюк вырыл пруд; пологие берега запруды оцементированы. Летом в пруду плавали белобокие гуси. Неподалеку от пруда беседка, увитая вьюном.
По вечерам в беседке, поджидая мужа, сидит Ефросиньюшка. От спокойной щедрой жизни Бирдючиха (ее никто не звал по-другому) располнела, раздобрела, да так, что едва проходила в дверь. А чего ей не добреть? Хорошо ей, спокойно в доме. Ее кузнец сделал все, что обещал. Жизнь у нее и вправду райская. Другие бабы из-за одной воды за день надорвутся так, что руки отсыхают. Один-единственный колодец на весь поселок. Поноси-ка воду за полкилометра. А Бирдючихе никуда ходить не надо: только включи насос, и вода сама хлещет из крана.
Жить бы да радоваться Бирдюку, а он с каждым днем все мрачнеет, все больше хмурится. Потчуя мужа, Бирдючиха подкладывает на тарелку самый лучший кусок мяса. А он отстранит его, вздохнет.
– Ты чего, ангел мой?.. Не захворал ли? Может, чаю тебе с сушеной малиной заварить?
Бирдюк вздохнет только в ответ. А сам подумает со злостью: «Лопнула бы ты, бочка! Нерожавая. Для кого я все понастроил? Эх, сына бы…»
Он надевал картуз, садился на велосипед и катил на работу.
Бирдючиха собирала со стола, кормила гусей, буренку и снова спешила в беседку.
Так дни и шли.
IV
На войну Бирдюка взяли не сразу. Он имел броню как специалист машинно-тракторной станции. Его мобилизовали лишь осенью, когда немцы окружили Тулу и вплотную подошли к Липягам. Служил Бирдюк минометчиком. Воевал честно, даже геройски. Но про то мало кто знает. Бирдюк не любит хвастаться. Орденов и орденских планок не носил даже и по праздникам.
Вернувшись в Подвысокое, он прежде всего заглянул в мастерские. Посреди груды развалин виднелось ржавое колесо – маховик воздуходувки от горна. Бирдюк вынул колесо, отнес его к вагончику, в котором помещалась контора.
– Пусть полежит, – сказал он механику. – Я вечером приду.
И пошел домой.
Дом его уцелел, в саду все было как прежде, только еще больше разрослись яблони, а кусты вишенника заполонили грядки, на которых когда-то росла клубника. И пруд зарос. И забор кое-где пошатнулся. Но это Бирдюка не страшило. «Ничего, все поправится со временем, – подумал он. – Главное, я опять дома».
Бирдюк взошел на крыльцо и постучал щеколдой.
Дверь ему открыла незнакомая женщина, беленькая, голубоглазая. Он принял ее за дальнюю родственницу жены, пошутил с ней и, не стесняясь ее, целовал свою Фросю. И лишь потом, когда сели за стол и эта женщина стала прислуживать, он вспомнил, что жена как-то писала ему, что пустила к себе на квартиру беженку-латышку и что та помогает ей по хозяйству.
Пообедав, Бирдюк отправился в контору. Вернулся вечером. Помощницы уже не было в доме. Фрося выдворила ее.
– Теперь и сами управимся, – сказала она.
– Как же так сразу! Надо бы ее куда-нибудь на работу устроить, – обиженно сказал Бирдюк. – А так, выходит, выбросили на улицу.
– Устроится. Она шустрая.
Ругаться и объясняться с женой Бирдюку не хотелось. Без того забот хватало. Он принялся наводить порядок в доме, в саду. В хлопотах совсем позабыл про латышку.
Однажды, придя утром в мастерские, Бирдюк неожиданно увидел ее. Она убирала в мазанке, где помещался стенд испытания моторов. Маленькая, в белом фартуке, русые кудряшки выбились на лоб.
– Здравствуйте, Яков Никитич! – сказала она весело и прижалась личиком к рукоятке метлы.
Бирдюк остановился. Почему-то ему стало неудобно за свою черную, лоснящуюся робу и за свои длинные руки, которые не знал, куда деть.
– Э-э, ну как? – только и выдавил из себя кузнец.
– Ничего. Вот пока уборщицей определили.
– А с жильем как?
– Директор приказал каморку мне выделить в общежитии.
Бирдюк буркнул что-то и, заложив руки за спину, пошел вдоль мастерской. Ему сказали, чтобы он сам подыскал себе уголок для кузни. Но в мастерской, построенной наспех, кое-как, приткнуться было негде. Так он и доложил директору.
«Лепите сами, рабочих у меня нет, – сказал директор. – Нужен помощник? Берите Аньку». Директор послал за Анькой, и вскоре пришла та самая блондинка в белом фартуке.
Кузню лепили из дерна. Зеленую луговину неподалеку от мастерских Бирдюк разметил на ровные квадраты. Подрезая дернину лопатой, кузнец с силой отдирал землю, накрепко схваченную корневищами трав. Аня, припадая на колено, бережно принимала дернины и складывала их на обочине в штабель. Помощница была проворна, трудолюбива. Был у нее только один изъян – любила поточить лясы. А Бирдюк терпеть не мог болтливых людей, особенно на работе. Аня же, казалось, не замолкала ни на минуту. В первый же день она все рассказала о себе.