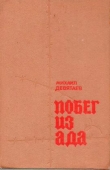Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Щегол в клетке
I
Было восемь, когда я отложил последнюю контрольную работу. «Наверное, сегодня никто не придет», – подумал я. (На новую квартиру ко мне стали часто заглядывать соседи на огонек.) Но только подумал я об этом, как слышу – кто-то стукнул щеколдой. Скрипнула дверь, и тотчас же по дощатому полу в сенцах раздались глухие удары: тук… тук… Я невольно улыбнулся: это постукивал палочкой колхозный агроном Алексей Иванович Щеглов, или просто Щегол.
Встав из-за стола, я открыл соседу дверь. Войдя, Алексей Иванович снял картуз, пригладил ладонью реденькие седые волосы и только после всего этого поздоровался. Я пожал агроному руку, хотя мы с ним уже виделись. Утром, когда я шел в школу, Алексей Иванович, по своему обычаю, бежал откуда-то с поля. Скорее всего, он был у «дуба», где убирают кукурузу. Там что-нибудь не ладилось, и потому он спешил в правление. А когда агроном спешит, то при ходьбе резко наклоняется вперед; со стороны может показаться, что он постоянно кому-то кланяется. Это у Алексея Ивановича с гражданской войны. В гражданскую он был ранен осколком в ногу; левая нога у него не сгибается и несколько короче правой, оттого он и кланяется. Однако, несмотря на хромоту, Алексей Иванович очень подвижен и спор в ходьбе. За ним и молодой не всегда поспеет.
Утром мы встретились с ним у школы; встревоженный и озабоченный чем-то, агроном бежал с поля по проулку. Он даже не остановился, увидев меня: вскинув палку и, помахав ею в знак приветствия и то и дело кланяясь, побежал дальше.
Алексей Иванович и теперь был чем-то взволнован. Я догадался об этом сразу, едва услышал стук его палки в сенцах.
– Читал? – спросил Алексей Иванович, входя следом за мной в комнату.
Я не сразу понял, о чем идет речь. Агроном кивнул на газету, лежавшую на краю стола. Я сказал, что да, читал. Обычно Алексей Иванович любит прощупать и выведать мнение собеседника. «Ну и как?» – спросит. Но на этот раз не сдержался и сразу же выпалил:
– Так! Значит, новая забота нашему председателю: надо срочным порядком доставать семена бобов…
Агроном шумно высморкался и опустился в жесткое кресло.
Я с участием поглядел на Алексея Ивановича. «Удивительный человек наш агроном, – подумал я. – Нисколько-то он не меняется!»
Я помню его с самого своего детства. Вечно он такой: шустр, шумлив, и всегда ходит вот с этой палочкой, и всегда небрежно одет. Случись вам встретить его где-нибудь в Скопине, куда его часто требуют на совещания, вы ни за что не подумаете, что перед вами интеллигент, агроном высшей аттестации, человек, знающий не только науку о земле, но начитанный и в литературе, и в философии. Еще, кажется, Глеб Успенский заметил, что русский интеллигент невнимателен к своей одежде. В те старые времена такое невнимание могло быть и по причине нехватки. Об Алексее Ивановиче никак нельзя сказать этого. У него небрежность не от недостатка. Семья у агронома небольшая – он да жена. Был у них сын, но погиб в войну. На двоих им хватает; и на новые книги хватает, и на всякого рода журналы, которых он выписывает бездну. А вот на новый костюм Алексей Иванович разориться не может.
По-моему, он просто не обращает внимания на свою одежду. Летом носит грубого сукна толстовку, подпоясанную узеньким ремешком, и такого же грубого сукна галифе. На голове – старенький кожаный картузишко. Зимой на нем бараний, рыжей дубки полушубок, латанный-перелатанный, и развесистый бараний треух. Обут он всегда – и летом и зимой – в огромные кирзовые сапоги. Он вообще считает эту обуву чуть ли не вершиной цивилизации нашего века. Шутя Алексей Иванович любит повторять, что этому сапогу надо бы поставить памятник. Сколько солдат в последнюю войну топало в кирзовых сапогах!
Алексей Иванович любит подобного рода шутки, когда не знаешь; то ли он шутит, то ли говорит всерьез. Особенно если он в хорошем настроении. За это я и люблю его. Но сегодня, судя по всему, Алексею Ивановичу не до шуток.
– Горох?! Да разве русский крестьянин не знал цену ему! Мужик знал… Мужик – он хитер! Да мы сами вдолбили ему, что горох и чечевица – это от бедности! – Говоря это, Алексей Иванович все продолжал качать головой.
Чтобы как-то вывести его из брюзгливого настроения, я спросил про книгу. В последний свой приход он взял у меня книгу «Рязанская земля». Теперь он принес ее, однако, увлеченный своими мыслями, позабыл про нее, продолжал держать под мышкой.
– А-а! Собственно, затем и пришел! – оживился Алексей Иванович, возвращая мне монографию. – Одолел. Чудесная книга! Жаль только; кончается на временах Тохтамыша. Нет ли у вас еще чего-нибудь в этом роде?
Я сказал, что нет. Алексей Иванович помолчал, потом вдруг, откинувшись на спинку кресла, проговорил мечтательно;
– Почему я не занялся археологией?! Копался бы теперь в доисторических курганниках и городищах да писал бы годовые отчеты: «За лето в Дятловском городище нами обнаружено столько-то горшечных черепков…»
В книге, которую вернул Алексей Иванович, описано множество древних поселений на нашей рязанской земле. Рассказывается про находки и клады; есть, кажется, упоминание и про Денежный. Все это очень любопытно. В другое время Алексей Иванович пофилософствовал бы по этому поводу. Он любит философствовать. Но сегодня он был явно не в настроении.
– Вы говорите так, будто и без того мало за свою жизнь написали отчетов, – сказал я в тон агроному. – Небось, если собрать все сводки, которые вы сочинили, получится десятка два томов…
Алексей Иванович махнул рукой: не говори, мол, писал! На его продолговатом лице – обросшем, давно не бритом – мелькнула невеселая усмешка. Видно, своим замечанием я задел больное место. Он сам в последнее время много думал об этом.
– Да, писал! Только следа не осталось. А опиши я древние черепки и копья, отчеты мои изучались бы и через сто лет. То – наука, а отчеты – так себе, трын-трава.
– Алексей Иванович, может, выпьем чаю? – предложил я, не зная, чем отвлечь агронома от тревожащих его мыслей.
– Всегда рад.
Только я встал из-за стола, чтобы сказать про чай Нине, явился дед Печенов.
II
– Здравствуй, хозяюшка! – обратился дед к Нине, вышедшей встретить его. – Дома ли наш физик?
– Дома.
– А-а, и Алексей Иваныч тут!
Дед Печенов, покашливая, вошел в комнату. Здороваясь, он опять назвал меня физиком. Он всегда меня так называет, даже на собраниях. Слово «физик» звучит у него уважительно. Он считает, что прогресс современной науки связан исключительно с успехами физики, которую я преподаю. Восхищаясь науками, дед Печенов, однако, мало ими интересуется. Читает он только военные мемуары; причем читает все без разбора – и наших генералов, и чужих. Возвращая книгу, непременно сделает какое-нибудь замечание. На такой-то странице, скажет, есть досадная неточность: 317-й полк не мог участвовать в боях на Перекопе, так как в это время он был на переформировании…
И сейчас, передавая мне прочитанную книгу, он сказал что-то в этом роде и повернулся к агроному. Алексей Иванович привстал, но первым руки не подал. Дед Печенов ухмыльнулся и выставил перед собой длинную, как перекладина шлагбаума, руку. Они вежливо поздоровались, каждый стараясь при этом сохранить свое достоинство.
Я заулыбался, наблюдая эту картину. Прошлый раз, будучи у меня, они переругались так, что, казалось, и руки друг другу не подадут всю жизнь.
– Читал? – Алексей Иванович взял со стола газету и потряс ею в воздухе.
– Читал. А то как же! – Старик долго и не спеша усаживался, подбирая полы пиджака, чтобы не помять их.
Дед Печенов – не чета Алексею Ивановичу: он аккуратист. Дед рядовой колхозник. Но по виду его легко принять за сельского интеллигента – бухгалтера или фельдшера. Семену Семеновичу за шестьдесят, однако он выглядит значительно моложе своих лет. Он высок ростом, сухопар. Ни усов у него, ни бороды. Одет, не в пример агроному, всегда опрятно: черный костюм и косоворотка – когда бы он ни пришел – гладко отутюжены. В нем, как говорит Алексей Иванович, есть порода. У него узкие кисти рук и благородные черты лица.
Дед Печенов, как бы сознавая это, никогда не спешит, не суетится; говорит мало, предпочитает послушать, что скажут другие. Но насчет спокойствия я, кажется, оговорился. Он бывает спокоен лишь в те вечера, когда не застает у меня Алексея Ивановича. Тогда он придет, сядет в уголок к окну и, ожидая, пока я закончу готовиться к урокам, возьмет какой-нибудь журнал и шелестит им. Он не раскрывает даже табакерку, боясь помешать мне. Потом Семен Семенович выберет новую книжку и, извинившись за беспокойство, уйдет. Он не останется даже выпить с нами чашку чаю, хотя дед Печенов, как все рязанцы, известный водохлеб.
Не то при Алексее Ивановиче. Застав у меня агронома, дед Печенов уже после второй-третьей фразы начинает горячиться; Алексей Иванович возражает, и дело кончается обычно крупной ссорой. Каждый раз для этого находится новый повод. Часто я никак не могу понять, с чего эти ссоры начинаются.
Вот явился дед Печенов; сел, достал из кармана пиджака тавлинку, постучал по крышке, захватил щепотку зеленовато-серой пыльцы; поднеся к носу, блаженно закрыл глаза и… чих! Вздохнул и снова – чих!
Алексей Иванович переждал, пока дед Печенов отчихается, и спросил с надеждой:
– Ну и что?
– Что ж, решение правильное, – сказал Печенов, пряча табакерку; подмигнул мне; мол, смотри – начинается!
– Гм! – Алексей Иванович поерзал в кресле. – А именно?
– Я именно так понимаю, – нарочито повторяя выражение агронома, продолжал дед Печенов. – Решили провести линию дальше. Начали с чего? Начали с того, что повысили закупочные цены. Потом дали возможность самим колхозникам командовать землей…
– Может, где-нибудь оно и так, – сказал Алексей Иванович, – но у нас, в Липягах, привыкли ждать команды из района. Вот заговорили в газетах о бобах – жди, завтра и нас всех позовут в район и скажут: сейте бобы! И мы будем сеять. Самим думать непривычно как-то.
– Нет, дорогой ты мой Алексей Иванович, не то! – горячо возразил дед Печенов. – Совсем не то. Я так думаю: наверху правильно рассудили. Почему? Сам подумай! Сколько лет прошло с сентября? А смотрят там, наверху, дело подвигается медленнее, чем надо. С мясом, с молоком – ничего, прибавка значительная. А вот с хлебом – оно неспоро как-то получается. И тут, конечно, сдвиги есть, но в основном за счет целины и других районов: Кавказ там, Поволжье… А кое-какие области, как наша, к примеру, из производящей стала потребляющей.
И, видать, не одна наша! Посмотрели все это и решили: не пора ли проверить, как колхозники землей своей распоряжаются? Посмотрели, а мы, как и двадцать лет назад, травку вместо хлеба продолжаем сеять. Не дело! – сказали. Да всем вам, травопольщикам, и стукнули по шапке: не смейте разбазаривать землю! Пусть горох, пусть бобы, все одно это лучше, чем ваши травы…
– Профанация! – Алексей Иванович не мог усидеть в кресле. Он вскочил и принялся ходить взад-вперед по комнате. Расхаживая, он выкрикивал: – Невежество, Семен Семенович! К земле нельзя подходить с одной меркой. Согласен: кое-где необходимо сеять бобы. А в другом, может, лучше оставить клевер.
– Значит, травы оставить?.. Неисправимый ты, Алексей Иванович, травополыцик!
– Клевер – это еще не травополье!
– Вон оно что?!
– Да, не травополье!
Подойдет к столу, бросит фразу и опять заковыляет в угол. С каждой новой фразой движения его становились резче, мысли – обрывочнее, а слова – все желчнее. Алексей Иванович в эту минуту, как никогда, оправдывал свою кличку: Щегол. Он и в самом деле очень походил на щегла в клетке. Серенькая птичка прыгает на жердочке и беспрестанно строчит свое чи-чи-чи… Так и агроном: бросил фразу – проковылял, пропрыгал в угол; возвращаясь к столу, договаривает свое чи-чи-чи.
– Травополье да травополье!.. Только и талдычат. А кто из вас знает, что такое травополье?! Травополье – это вершина науки о земле. Ату их, травы! – кричат особенно ретивые и не задумываются: а как же вести борьбу с эрозией? Имя Докучаева стыдимся произнести вслух. Нашего старика Требора чуть было не вытряхнули из могилы… Вильямса я не знал лично, а у Требора учился пять лет. Умнейшая голова – скажу вам…
– И ты, Алексей Иваныч, умнейшая голова! – заметил дед Печенов. – А вот лет тридцать, верно, ты у нас этими травками занимаешься. И скажи по чести: прибавилось ли от этих твоих трав хоть капельку хлеба? А?
Алексей Иванович остановился.
– Прибавилось бы, если бы у нас уважали науку!
– «Бы… бы!..» – передразнил дед Печенов. – Этими твоими «бы» сыт не будешь.
– А бобами будешь сыт, да?
– При чем тут бобы? – Дед Печенов пожал угловатыми плечами. – Я так тебе скажу: агрономы наши, и ты в их числе, понапрасну хлеб едят. Вот я вспоминаю отца: он и без вашей науки по сто пудов с десятины снимал, а овса – так и побольше. А теперь?.. А теперь, если семь центнеров с га получим, считаем, что это хорошо.
– Тут не одно травополье виновато!
– А что ж еще, по-твоему?
– Отсталость наша российская!
– А-а, отсталость… Ну-ну!
Дед Печенов снова достал коробочку с табаком и, захватив щепотку, поднес руку к носу; вдыхая в себя зелье, он блаженно закрыл глаза и приготовился было чихнуть.
– Да перестань ты чихать! – закричал на него агроном.
– Говори, говори… – успел только произнести дед и тут же расчихался.
Нюханье табака – излюбленное занятие деда. Но оно не безобидно: он пользовался им и как психологическим воздействием на собеседника. Я заметил, что, когда дед не хотел слушать возражений со стороны кого-либо, он всегда делал затяжку, а потом, блаженно закатывая глаза, чихал. Алексей Иванович, видимо, догадывался об этом.
– Да-да, отсталость! – заговорил агроном, как только дед вытер слезящиеся глаза. – Ведь травополье – оно не с неба к нам свалилось и не завезено к нам из Европы, как некоторые другие учения. Травополье – явление наше, русское. И именно в нем, в травополье, и сказалась вековая отсталость России. Мне не верите – послушайте, что по данному вопросу говорит товарищ Хрущев. – Алексей Иванович взял со стола газету, прищурившись, начал читать: – «Почему травопольная система нашла широкое применение, откуда и какие факторы воздействовали на В. Р. Вильямса, предложившего эту систему? Ведь он был коммунист и, я считаю, преданный партии и честный человек. Если заглянуть в историю этого вопроса, то можно прийти к выводу, что травопольная система земледелия вытекала из экономической отсталости бывшей царской России…»
Дед Печенов хотел перебить агронома, но тот не дал ему и продолжал читать с еще большей горячностью:
– «В то время как западные страны развивали химию, производство минеральных удобрений и сельскохозяйственных машин, то есть шли по пути интенсификации сельского хозяйства, некоторые ученые России, видимо, искали систему земледелия, которую можно было бы приспособить к условиям экономической отсталости страны». Вот вам полный социальный анализ травополья как учения. Ясно?
– Ох, уж это мне учение! – вздохнув, отозвался дед Печенов. – Не учение, а мучение.
– Не смейте так! – Алексей Иванович подступил вплотную к деду Печенову. – В это учение внесли свой труд лучшие русские агрономы – Докучаев, Костычев и другие. Мы все умны задним числом! Я не позволю потешаться над памятью дорогих мне имен!
Казалось, еще миг – и они вцепятся друг в друга.
Желая хоть чем-нибудь разрядить обстановку, я обратился к спорщикам с предложением выпить чаю. Они согласились. Я вышел к Нине на кухню. Чай был уже готов. Я взял чашки, сахарницу и стал накрывать на стол. Расставляя посуду, прислушивался к продолжавшемуся спору.
– Никто из русских агрономов не насаждал своего учения силой, – говорил Алексей Иванович. – Никто! Ни хорошо известный тебе Требор, ни корифей минералогии Прянишников, ни его последователь Сухарников. Все они были ученые. Читали лекции, публиковали статьи. Но Требора почему-то признали, а Сухарникова – нет. Почему? Скажи!
– Требор твой – маленькая сошка, – возразил дед Печенов. – За травы люди повыше хлопотали.
– Но ты небось был на собрании, когда приезжал Требор!
– Ну, был.
– Что ж ты тогда молчал? Умник! Встал бы, да и сказал: твоя система плохая. Мы ее отвергаем. Чего ж ты тогда молчал?
– Тогда я еще не знал, что она плохая.
– А-а! Не знал?!
– Нет.
– Чи-чи-чи…
III
Чаепитие на некоторое время разрядило напряженность в споре. Наблюдая, с какой осторожностью оба старика пили горячий чай, я думал над тем, чем вызваны стычки агронома с дедом Печеновым.
Что интересно: они – и дед Печенов, и Алексей Иванович Щеглов – люди одного поколения. Чуть ли не одногодки. Дед – наш, липяговский. С самого первого дня в колхозе. Трудом таких «праведных», говоря словами матери, и держится наш колхоз. Недавно совсем был такой случай. Пришел к нам новый председатель, Иван Степанович. Трудно ему поначалу приходилось. Главное – не было людей. Фермы годами не чищены, в стойлах горы навоза. Председатель и говорит об этом на собрании. Перебрали всех: тот занят, тот крутит-вертит, не хочет идти на тяжелую работу.
Вдруг встает дед Печенов и говорит:
– Я пойду скотником! Что ж делать, коль некому кроме! Что ж, навоз – он не Деникин. С Деникиным, со всей Антантой справились, а с навозом и подавно.
И теперь дед Печенов работает скотником.
Алексей Иванович Щеглов выходец из семьи потомственных агрономов. Его отец – земский землеустроитель – друг Требора и враг Сухарникова. Это были наши агрономы, довольно известные в округе. Не знаю из-за чего, но в последние годы жизни они враждовали. У нас каждый знает об их вражде, но понаслышке. И я мельком слышал; но теперь, когда, опорожнив вторую чашку чаю, Алексей Иванович начал рассказывать историю их вражды, я слушал его с интересом.
История эта давняя. Еще с земства. Наше земство в период своего расцвета решило организовать агрономическую школу и при школе – опытное сельскохозяйственное поле. Для чтения лекций пригласили из столицы нескольких молодых ученых. Среди них приехали два молодых агронома – Требор и Сухарников.
Требор происходил из обрусевших немцев. Но это не имеет никакого значения. Требор хорошо знал наши земли, особенно степные. Он считал, что предотвратить эрозию и истощение почв может только травосеяние. И он всячески проповедовал травы. Всю жизнь, всю энергию свою он отдал травам. Это был неистовый человечище. Он разъезжал по селам и агитировал. Сначала помещиков, потом крестьян, а под конец жизни – председателей колхозов. Требор поражал своей настойчивостью и поистине немецкой педантичностью. Перед началом коллективизации он вступил в партию. Его избрали членом райкома.
Наша организованность известна: назначают собрание в шесть, а начинают в восемь. Требор любил точность. Он являлся в приемную секретаря райкома за пять минут до начала заседания; брал газету, читал. Наступало время собрания. Однако ни председателя, ни других членов нет. Требор ждет минуту, другую, а потом и говорит помощнику секретаря: «Скажите, что Требор был… Да, был…» – и с этим уходит. Раз, другой так сделал и приучил всех к порядку – райкомовцы стали являться на заседания строго в назначенное время.
Таков был агроном Требор.
Сухарников же – этот исконно наш, рязанский.
У него была иная страсть: любил он разъезжать по Европам. Один год едет он в Германию. Поживет там, скажем, лето, а всю зиму сидит и сочиняет трактат для «Агрономического вестника». Немцы, мол, ведут свое хозяйство так-то и так-то: трав сеют мало, но пашут глубоко, удобряют пашню богато.
Года два-три прошло, глядь, Сухарников опять поднакопил денег и отправляется на этот раз в Голландию или Данию. «У датчан, – сообщает он в очередной статье, – пшеница по двести пудов с десятины дает. А мы не получаем и пятидесяти. России не выбраться из тисков голода, если русский мужик не переймет опыт немцев и датчан».
Пишет такое Сухарников, а никто всерьез советы его не принимает. Разве липяговскому мужику в старину было до метода датчан!
Пописывали свои статейки агрономы: Требор ездил в экспедиции на Дон, Сухарников – за границу. Печатались в одних и тех же журналах; хаживали друг к другу в гости. Незаметно состарились. И тут, в старости, все это и началось…
Началось с колхозов. Распахали мужики межи, да и задумались; а как же дальше вести хозяйство? Неужели опять, как было, – трехполка? И стали колхозники зазывать к себе агрономов, чтобы те дали совет. Зовут Требора. Зовут Сухарникова. Обоих сразу зовут: послушать, поспорить.
Чудные были старики. Как-то липяговцы захотели послушать их. Еще при Чугунке. Послали за ними в город тарантас. И что бы вы думали? Как ни упрашивали их, друзья отказались ехать в одном тарантасе: пришлось привозить их по очереди. Не то чтобы ехать вместе: на портретах один другого видеть не мог! Был такой случай. Пригласили Требора на «День урожая». В актовом зале школы накрыты столы. Народу – не протолкнешься. И мы, ребята, тут. Ввели ученого, помогли ему подняться в президиум. Начались речи. Первое слово, конечно, гостю. Вышел на трибуну Требор; только начал речь, вдруг закатил глаза и… К нему подбежали, а он молчит и лишь рукой на стену показывает. Посмотрели, а там, на стене, портрет Сухарникова. По случаю праздника члены исторического кружка устроили выставку знатных земляков. «Убрать! Убрать!» – закричал Требор.
Портрет тут же сняли; а как сняли портрет, так Требор сразу отошел, заговорил. И все про эти самые травы…
А потом приехал Сухарников. Представительный, с тростью, в шляпе.
– Колхоз – большое, разностороннее хозяйство, – говорил Сухарников. – Вы непременно должны применять передовые европейские методы. – И он подробно рассказывал, как датчане и немцы на своих истощенных землях получают по сорок центнеров хлеба.
Мужики слушали, размышляли. Разве они враги себе, чтобы жить, как прежде, в бедности?
– Для того чтобы получать такие урожаи, – доказывал Сухарников, – требуется совсем малость: вносить по четыре центнера минеральных удобрений на гектар.
– И всё? – удивились мужики.
– И всё!
– А где эти удобрения взять-то? – допытывались колхозники.
– Надо создавать химию! – твердил ученый.
– Похлопочи, батюшка! Пусть строят. Мы за химию! – говорили мужики.
Сухарников хлопочет: статьи, бумаги для вepxa пишет. Наконец одна из бумаг дошла до самого Госплана. Вызывают его в Москву. Выслушали внимательно и говорят:
– Что ж, предложения ваши правильные. Химию создавать надо, и мы создаем ее. Но чтобы обеспечить полностью все поля удобрениями, надо строить в сто раз больше химических заводов. Вы подсчитали, во что это обойдется государству? Нет? То-то! Переключиться на химию – значит, остаться без тракторов и танков. А случись война – чем воевать? Вилами?
На химию, у нас в то время не было денег. Может, деньги и нашлись бы, но ведь для создания химии, кроме денег, еще многое требовалось. Требовалось уникальное оборудование. У нас его не было. Требовались специалисты. У нас их не было… Тогда-то наши мужики и вспомнили о Треборе.
У него все выходило просто и понятно; травосеяние не требовало миллиардов рублей на химию. «Сейте травы! – говорил он. – Травы создают структуру, восстанавливают пласт. Поднимайте пласт, будете и с хлебом, и с мясом, и с деньгами».
– За травополье схватились! – говорил Алексей Иванович. – Схватились крепко. Это было что-то реальное. И, главное, не требовало денег. Мы наконец сбросили трехполку. Разве это не заслуга Требора?
– Заслуга, заслуга… – с ехидцей повторил дед Печенов. – Он, Требор-то этот, умер спокойно. Он был уверен, что навсегда избавил мужиков от неурожая. А мы вот сеяли травы, считай, тридцать лет. А урожаи, как были при дедах: сам-шесть.
Алексей Иванович вспылил:
– При чем тут Требор?! Пойми ты, садовая голова, мы сотни лет подряд бороздим землю! Земле безразлично, чем мы ее пашем: сохой, плугом или трактором. Важно, что пашем и пашем без конца! То есть берем от нее. И чем производительнее машины, тем больше берем. А вот удобрять, восполнять то, что взяли, скупимся. Скупимся! Очень даже скупимся! А нужно подходить к земле по-научному: сколько взял, столько и возверни.
– А травка – это как, по-научному? Она что – восполняла взятое или нет?
– В какой-то степени да – восполняла. Ведь не случайно именно в России так долго существовали всякие перелоги, толоки. Земли много, управиться с нею недосуг: попахал год-другой, бросил – пусть лежит, отдыхает. Скот все равно пасти где-то надо.
IV
Алексей Иванович был в ударе. Видимо, здорово его проняло. Пока он говорил, я наблюдал за ним. Агроном очень изменился за последнее время. Похудел, состарился. «И чего он не уходит на пенсию? – подумал я. – Копался бы в своем садике да почитывал бы журналы. А то с темна до темна таскается по полям, ругается, горячится из-за всякого пустяка». Но едва я подумал об этом, как сразу же отогнал от себя подобную мысль. Я не мог себе представить Алексея Ивановича в стороне от колхозных дел. Мы привыкли видеть его постоянно: и в дождь, и в зной, с неизменной суковатой палкой, в вылинявшем плаще – всегда на людях, всегда в деле. Никто не знал, болел ли он когда-либо, отдыхал ли…
Он был человек честный. Правда, была в нем одна не очень-то приятная черта: уж слишком задирист. Увидит где непорядок, раскричится, ничем не остановишь. Из-за этого многие его недолюбливали, особенно начальство. Ни теперь, ни тогда, когда в МТС служил. Зная это, Алексей Иванович никогда не навязывался ни к кому – ни в провожатые, ни в попутчики. Он был начисто лишен честолюбия. Карьера его не интересовала. Он не хотел быть ни главным, ни завом. Единственное, что волновало его, это земля. Алексей Иванович считал, что он знает землю: горячился, когда делали не так, кричал, требовал, писал акты, и все это, выходит, понапрасну. Выходит, что он не знал земли.
– Значит, в нашей бедности травы ваши не виноваты? Ишь ты, а я на них все сваливал! – будто соглашаясь с агрономом, сказал дед Печенов.
– Виноваты, но не столько травы, сколько мы сами, наше отношение к земле, к делу.
– Так-так… Я уж и то подумал: может, мы уж совсем разучились пахать и сеять?
– Нет, не разучились! – возразил Алексей Иванович. – Пахать и сеять не разучились, но думать самостоятельно разучились! А это страшнее всего. Привыкли надеяться на авось. «Авось сверху там виднее, как поступать!» Приучили людей к шаблону, к командованию. Взять, к примеру, хоть то же травополье. Ведь если бы не было администрирования с травами, то мужики давно бы отказались от этих трав. А то как приезжает председатель…
– А-а, вот-вот… председатели во всем виноваты! – согласился дед Печенов.
Алексей Иванович принялся развивать мысль о вреде, который наносят земле малограмотные, несведущие в науке председатели. Агроном утверждал, что за тридцать лет существования нашего липяговского колхоза сменилось около двух десятков председателей. Что ни год, то новый руководитель в хозяйстве. Разве можно при этом вести колхозные дела разумно, с заглядом вперед?
Дед Печенов поддакивал: угу-угу… Бедный Алексей Иванович! Он не догадывался, что дед Печенов над ним подтрунивает! Наши липяговские мужики всегда себе на уме. Они, пожалуй, поумнее и поопытнее иного начальника, который им указывает. Но наш мужик и ухом не поведет, и виду не подаст: все поддакивает да согласно кивает головой. А потом вдруг подбросит начальнику один-единственный вопросик, и, глядишь, тот, как говорит наша англичанка, стушевался, бедный.
– Угу-угу, – поддакивал дед Печенов. – Они, они, председатели, виноваты! Агрономы ни при чем тут. Агрономам некогда было думать о земле. Они бумаги подписывали да на машинах разъезжали…
Дед Печенов, как ни в чем не бывало, достал свою тавлинку. Весь вид его говорил: «Я ничего такого не хотел сказать о тебе, дорогой Алексей Иванович. А там, в общем, понимай сам, что к чему».
Алексей Иванович воспринял слова деда Печенова как намек.
– К сожалению, мы не сами ездили, а нас возили! – вспылил агроном. – О нас только и вспоминали, когда нужно было подписать какой-нибудь акт. Работал я участковым. Обслуживал три колхоза. Кем я был для председателя? Советчиком? Да на черта я ему нужен со своими советами: удобрять землю так-то, сеять так-то, когда у него в хозяйстве не то что повозки – вожжей путевых, не было! Приедешь, бывало, в колхоз. Увидишь беспорядок. Говоришь председателю: «Дорогой Егор Васильевич! Что же это вы делаете? Разве можно сеять в этакую землю?» – «А ты кто такой? – огрызнется председатель. – У меня установка из района: к первому отсеяться!» – «Так не уродится же ничего на таком поле!» А он махнет рукой, и вся недолга. Ты к бригадиру тракторного отряда. Ты – туда, ты – сюда… Пока мыкаешься, поле засеяно: план выполнен… Или возьмем наше теперешнее положение. У меня под контролем одно хозяйство. Дерзай, делай что надо! Но практически я ничего сделать не могу. Я в полной зависимости от председателя. Ну, хорошо, когда председателем такой человек, как Иван Степанович. Его можно чем-то заинтересовать. А зачем агроном Володяке Полунину? Я ему раз десять говорил, что нельзя сеять кукурузу у Подвысокого. Разве он послушал меня? Он выполнил план. Загубил семена, людского труда уйму, и все.
– Да, Володяка начудил, – согласился дед Печенов. – С таким трудно сладить. Только что ж ты сам-то тогда не пошел в председатели? Агроном, непьющий к тому же. Тебе карты в руки. За тебя бабы скорее проголосовали бы, чем за Володяку. А-а, как?
Алексей Иванович остановился, удивленно хмыкнул.
– Я не родился администратором!
– А, вон оно что! Значит, нет организаторских способностей?
– Да.
– Так-так… А Володяка-то, он что? Прямо из пеленок вылупился администратором?
Все посмеялись: сравняться с Володякой в организаторских способностях было нетрудно. Однако Алексей Иванович, посмеявшись, стал объяснять, что бывают разные характеры у людей. Одни любят сами повозиться с землей, а другие стремятся к более возвышенной деятельности.
Агроном относил себя к первым. Никакая другая деятельность, кроме той, что связана с землепашеством, его не интересовала. Он был, пожалуй, прав, говоря об этом. Стань он председателем, колхоз развалился бы в два счета. Алексей Иванович слишком мягок. Он не может повысить голос, не любит командовать.
– А зачем кричать и командовать? – спросил дед Печенов. – Разве нельзя обойтись без крика?
– Да что ты спрашиваешь! – в сердцах отозвался Алексей Иванович. – Ты же прекрасно знаешь, что как утро, так и бегает бригадир вдоль улицы: «Эй, Матрена, выходи! Не пойдешь – огород отрежем!..» и прочее, и так далее. Может, в других местах все по-иному, а у нас, в Липягах, люди приберегают силы для своего огородишка. Я не виню их: к сожалению, они живут этим клочком земли. А на колхозное поле смотрят, как на мачеху.