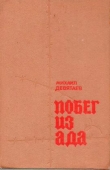Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Чебухайкин мед
I
Я вошел в класс и первым делом взглянул на стол. Так и знал! Конечно, на перемене ребята крутили машину! Они хотели повторить опыт с получением электричества, но неудачно. Видимо, их ударило током, и они испугались и впопыхах разбросали все по столу. Шары машины отогнуты, амперметр отключен. Я чертыхнулся про себя, хотя это был, в первую очередь, мой просчет. Надо было построже предупредить дежурного, чтобы он никого не подпускал к приборам. Теперь пенять не на кого.
– Та-а-ак… – Подойдя к столу, я внимательно оглядел машину. О продолжении опыта не могло быть и речи: снова надо возиться целый час, пока все наладишь. – Так. Кто это сделал?
Класс затих.
– Кто сломал прибор? – повторил я строго. – Прошу выйти к доске!
Молчание. Я понял, что поступил, говоря словами директора, антипедагогически. Бывает молчание и молчание. Бывает молчание, когда набедокурил кто-либо один. Тогда на вопрос учителя: «Кто это сделал?» – все пожимают плечами, ухмыляются. Иное молчание, когда провинились всем классом. Тогда безответное молчание. Однако во всех случаях не надо добиваться выдачи виновников: школа не должна воспитывать доносчиков.
– Ну, что ж… – продолжал я примирительно: – Раз сломали прибор, то его надо починить. Иди, Володя, помоги мне.
Володя Коноплин нехотя поднялся из-за парты, вздохнул, одернул куртку и стал пробираться к доске. Напряжение ослабло. Ребята зашушукались.
Не успел еще Володя подойти к столу, вижу, в крайнем ряду от двери встала из-за парты Маша Гринько – круглолицая, с крохотными хитроватыми глазками девочка – и, протянув руку вперед, сказала:
– Андрей Васильич, прибор сломали знаете кто? Сломали Владик Сучков и Миша Колеснев. Владик командовал, а Миша крутил.
– Врет она! Мы все крутили! – крикнула с места ее соседка Люба Веретенникова.
– Все после. А сначала они: Владик и Мишка!
Маша продолжала стоять. Глазки ее испуганно остановились, руки теребили концы платка, лежащего на плечах. Она ждала, чтобы я ее поблагодарил. Но мне почему-то не хотелось ее благодарить. В тишине кто-то с задней парты зло прошептал:
– У-у-у, Чебухайка!
Маша обернулась на злобный шепот и снова уставилась на меня. Белесые ресницы – морг-морг; лицо сузилось, поблекло. Мне стало жаль девочку. Я не успел прикрикнуть на обидчика, как по лицу Маши потекли слезы.
– Чего они… дразнятся… – Девочка опустилась на парту и разревелась.
Я подошел к ней, чтобы успокоить. Маша пухленькая, рыженькая девочка. У нас рыжие редкость. Случается, веснушки на носу, на руках и то не часто. А Маша вся словно медный самовар. Она, как подросток, начинала уже стесняться этого. И вот что удивительно: ее не называли «рыжей». Несмотря на такую яркую примету, ее называли уличной кличкой, и поэтому я удивился, с чего это она вдруг расстроилась.
Успокоив Машу, я сказал ребятам, что обзывать уличными кличками на уроках нехорошо.
– Если еще хоть раз услышу от кого-нибудь уличную кличку, буду строжайше наказывать! – сказал я, возвратившись к столу, возле которого все еще стоял мой ассистент Володя Коноплин.
Мы начали возиться с прибором.
Маша продолжала потихоньку шмыгать носом.
– Замолчи, Чебуха! – крикнул кто-то на нее.
По голосу узнаю Мишу Колеснева.
– Колеснев! Встань!
Миша встает.
– Слышал ты мое предупреждение?
– Да, слышал, – спокойно отвечает Миша.
– А почему продолжаешь грубить?
– Она все равно Чебуха, Андрей Васильич…
– Колеснев! Выйди из класса! – жестко говорю я.
Миша откидывает крышку парты и, подхватив портфель с книгами, не спеша, вразвалочку, направляется к двери.
– Эх вы! И не противно вам сидеть рядом с Чебухайкой? – бросает он на ходу.
И я вдруг вижу: за ним поднимаются еще несколько ребят и тоже идут к двери.
– Хорошо, идите! – говорю я им. – Но без родителей в школу не возвращайтесь…
Никто из них и ухом не повел. Я закрыл за ними дверь и, делая вид, что ничего не случилось, сказал:
– Ну что ж… хулиганов выпроводили. А теперь продолжим наш урок.
Сказал и снова к столу. Только склонился над прибором, слышу, гул по всему классу: у-у-у… Ясно различаю в гуле слова: Чебуха! Чебуха! Чебуха!.. Дразнили все до единого ученика, даже и девочки.
Такого скандала ни разу еще не было на моих уроках. Что делать? Не звать же на помощь директора!
– Тише! – крикнул я.
Я умею крикнуть, когда надо. Ребята знают это: я им рассказывал. Они знают, что на фронте я командовал артиллерийской батареей. Бывало, горло надорвешь, крича: «Ба-т-та-рея! Огонь! Огонь!»
Ребята знают, что, если я закричал, значит, допекли они меня здорово! А им как раз и хотелось этого: они выражали протест против того, что я защитил Машу.
Ничего, окрик подействовал. Ребята притихли. Я кое-как наладил прибор. Пришлось изрядно повозиться, пока я все отрегулировал и снова взялся за ручку электрической машины. И тут вдруг опять в классе раздался гул. Я недоуменно оглядел учеников. Все они смотрели на доску и улыбались чему-то.
Я оглянулся.
На доске мелом было написано:
– Че-бу-хай-ка!
ІІ
«Ух, до чего ж вы мстительный народ! – подумал я о ребятах, стирая с доски надпись. – И далась же вам эта Чебухайка!..»
В деревне редкая семья не имеет клички. В быту в разговорах люди чаще всего называют друг друга не по фамилии и не по имени, а, как говорится, по-уличному, кличками. Клички бывают самые разные; причем живут они десятилетиями, передаваясь из поколения в поколение.
Ни в чем, пожалуй, не проявляется так ярко умение народа типизировать, как в прозвищах. Одно слово – и весь характер человека! Назовут, как пропечатают: всю жизнь никуда от этого прозвища не денешься.
Сколько в наших уличных прозвищах подлинной поэзии! Иногда кличка добродушна; иногда в ней скрыта ирония над человеком, усмешка; но есть прозвища и нарицательные – жестокие и обидные.
Ни один человек на селе – от председателя до самой незаметной бабенки – не обходится без уличного прозвания. Едва поселился на порядке новичок, ему тут же дается прозвище.
Прозвища чем-то сродни хорошим песням. Они живут помимо их творцов. Попробуйте узнать, кто первым окрестил кого-либо уличной кличкой? Да разве кто вам скажет! Многоликое, многодневное творчество – эти наши прозвища!
Больше всего прозвищ на селе безобидных. Например, нас по-уличному кличут так: Андревы. «Где была?» – «У Андревых!» «Кто это дом ломает?» – «Андревы!» Это потому, что Андреи в нашем роду не переводятся. Дед был Андрей Максимович, отец – Василий Андреевич, а я – Андрей Васильевич: сын мой – Андрей Андреевич и так далее. Андревы и Андревы, и никто из нас на такое прозвище не обижается.
Бывают еще клички иного оттенка. Не знаю, как и назвать их, иронические, что ли! Таковы, к примеру, прозвища моего крестного, Евдокима Кузьмича. У него их несколько. Чаще всего его называют Авданей. У него много ребят, и всех их так и зовут: Авданькиными… Но когда говорят лично о Евдокиме Кузьмиче и хотят при этом отметить возможную недостоверность слуха или рассказа, то добавляют: «Бур-бур сказывал»…
«Бур-бур» – многоемкое слово. В нем и то, что Авданя любит прикладываться к бутылке «ряжской горькой», и то, что говорит он не очень-то внятно. А говорит он невнятно потому, что к губе у него всегда приклеена самокрутка. Делает он это мастерски. Закурит, затянется раз-другой, потом одно неуловимое движение языком – и папироса приклеилась к нижней губе. Говорит, а самокрутка вверх– вниз болтается. И ни за что не отскочит! Полчаса так говорит, думаешь, папироска у него давно уже погасла, но только подумал об этом, глядь, она снова дымит как ни в чем не бывало. И так все время, пока он рассказывает байки: и все время только и слышишь: бур-бур, бур-бур…
Это об Авдане.
А у нас много таких кличек. Вот хоть та же Таня Виляла… Разве не ясно, что это говорится о бабенке болтливой, изворотливой, но, в общем, неплохой? Есть прозвища совсем ласковые. Нашего соседа Василия Кочергина зовут Беленьким; агронома прозвали Щеглом; деда Печенова по-уличному кличут Ясным…
Но бывают прозвища иного рода.
Уж сколько лет Алексей Иванович, агроном наш, живет в доме Змейки. И однако, никто из ребят, собираясь кататься на санях с горы, не скажет: «Пойдем на гору к Щеглу!» А скажет: «Пойдем к Змейке!»
Самой Змейки давно нет в живых, а кличка осталась, живет.
Как и всякие слова, прозвища со временем приобретают новый смысл, иное наполнение. Часто из безобидной клички они становятся злыми и нарицательными.
Такое превращение случилось в свое время и с Чебухайкой…
III
Не припомню теперь точно, откуда появилась на нашей улице эта самая Чебухайка. Кажется, до этого она жила где-то на Хуторах. В самом начале тридцатого года, когда умер Савватий Санаев, развалюшку его купил тихонький, неказистый мужичишка Ефимка Бутенков. Хлопотливый был мужик, хоть и неприметный с виду. Словно муравей, с утра до вечера ползал он по усадьбе. За лето на месте Савватиевой землянки Ефимка поставил новую избу, оштукатурил ее, покрыл; слепил закутки и загонки для скота. А там, глядь, дальше – больше: обнес он санаевскую пустошь плетнем; насадил сад, и так прочно все у него получилось – не усадьба, а поместье!
Верховодила в доме Ефимки супруга, Дарья, низенькая полнотелая баба, чем-то внешне напоминавшая жирную осеннюю утку. Ходила Дарья вразвалочку, не спеша, словно не шла, а перекатывалась. Говорила мягко, вкрадчиво; при разговоре все норовила подставить ухо поближе к губам собеседника – глуховата была.
Вот стоят бабы у колодца, судачат:
«Говорят, Бирдюк сватов к Ефросинье засылал».
А Дарьюшка шею вытянет и: «Чё?» (значит – что, не расслышала).
«Данила-то и слушать их не захотел… взашей вытолкал…»
«Бу?!» (Будя, мол, врать-то!)
«А они и говорят: не согласен – ворота дегтем вымажем!»
«Ха!» – рассмеется Дарьюшка.
С кем бы она ни разговаривала, только и слышишь от нее: Чё?.. Бу?.. Ха!.. Так оно и пошло – Чебуха да Чебуха, – одним словом, Чебухайка.
Набожная была баба – ни одного слова не скажет, не перекрестясь и не призвав Христа или богородицу в свидетели. «Вот умереть мне на месте, если вру: знамение такое я видела – быть войне!» Скажет и зашевелит губами молитву.
Набожна, а жадна! Таких жадных баб на нашем порядке и не было.
Рассказывают, что в девках попала она раз на свадьбу. Плакальщицей ли ее пригласили или по родству, кто ж знает, давно дело было. Свадьба та была в богатом доме. Уж каких только кушаний не наставили гостям! А надо сказать, что в девках-то Дарья бедно жила, вдоволь редко есть приходилось. Вот она и набросилась на еду. Брагу пьет, пирогами да студнем питье заедает. И блины, и курники, и сало жареное… Все отведала. Наелась – аж передохнуть не может. Глаза-то видят, а зуб, как говорится, неймет. А дружки, как назло, все новые и новые кушанья подносят. И чем дальше, тем все вкуснее. Вот целого поросенка на сковороде принесли. А следом за сковородой миски ставят. А в мисках тягучая янтарная жидкость налита.
«Это чё?» – спрашивает Дарья.
Авданя, тогда молодой парень, дружкой был, рядом с ней оказался. Посмотрел на Дарью, на миску, ухмыльнулся и говорит: «Аль слепая, не видишь, что ли? Мед!» А меду-то Чебухайка отродясь не видела и не пробовала. «Вот дура! – обругала сама себя Чебухайка. – Студнем да блинами пузо набила, а для меда-то и места не оставила». И решила Дарья: что ни будет опосля, а меду отведать. Подождала она и, когда все отвернулись, взяла ложку какую побольше и – раз! – зачерпнула полным-полно да скорее в рот. Облизала ложку, а выдохнуть-то не может: сперло все. Да и давай орать на всю избу.
Хозяева подбежали, что с девкой? А Чебухайка ртом пошевелить не может. Глаза вытаращила и на ложку кивает. Посмотрели, а ложка-то вся в горчице по самую ручку вымазана.
Дядя Авданя, мой крестный, уверяет, что он в жисть так не смеялся. Потом от смеха икал целую неделю. А Чебухайка ничего, отдышалась.
С тех пор никто у нас в Липягах горчицу по-иному и не называет, кроме как «Чебухайкиным медом».
IV
Так вот: поселилась Чебухайка на нашем порядке. А ребятни в ту пору было у нас, на Кончановке, гороха в поле меньше! Нас пятеро, у Беленького четверо, у Ефрема Набокова трое да Авданькиных чуть ли не дюжина.
Подростки, известно, народ озороватый. Самым любимым озорством в наше время были набеги на сады и огороды, в детстве мы любили навещать чужие огороды, особенно если за забором было чем полакомиться: нарвать малины, брюквы, моркови. Соберемся, бывало, ватагой, выставим боевое охранение, а сами шуруем на задах. Добрались мы как-то и до Чебухайкиного огорода. Надо сказать, что наши кончановские огороды бедные, суглинистые – картошка и та не родится. Но есть несколько дворов – те, которые поближе к низовским, – у них в низах торфяники. Таков участок и у Чебухайки. В саду колодец, вода близко – ни журавля, ни ворота ставить не надо, бери ведро и черпай. Когда-то колодец был общественным. К нему, на низы, вел широкий проезд, чтобы можно было брать воду на случай пожара. Чебухайка распахала проезд, раздвинула усадьбу, и колодец остался за городьбой.
Чебухайка и ее дочь Аленушка с рассвета дотемна в саду и на огороде: поливают, окучивают, пропалывают. Малинник разросся, загляденье одно, гряды взбиты и изнежены, как караваи. А на грядках и турнепс, и репа, и бобы. У всех соседей с огородов все убрано, а у Чебухайки за высоким частоколом репа и морковь до самых морозов набирают соки. Разве могли мы, кончановские оборванцы, устоять перед соблазном?
Однажды в разгар лета мы устроили один набег – сошло. Нарвали полные картузы малины, еще крохотной, незрелой моркови. Наелись так, что Костю Набокова, моего друга, потом дня два мутило. Помутило, да и прошло. Через неделю или две опять захотелось малинки. Опять полезли. К вечеру подгадали, когда сама Чебухайка к поезду торговать ушла. Пролезли мы сквозь лаз в изгороди, начали по малиннику разбредаться, слышу, то один, то другой, сдерживая слезы, орет: у-у! – и обратно, к забору, норовит. Не пойму сначала, что к чему. Пока сам не заревел…
Известно, летом деревенские подростки не носят никакой обуви. Все лето бегают босиком. Заметив, что ребята повадились за малиной, Чебухайка весь малинник усыпала битым стеклом.
Все до единого порезались в тот раз. Чуть ли не по месяцу прыгали с завязанными ногами. Не до малины было.
Но зато с большим ожесточением принялись мы потрошить Чебухайкин огород. В ночь по нескольку раз ходили. Правда, вскоре и от огорода она нас отвадила. Осенью дело было. Ночь темная. Только мы проникли через лаз, заранее сделанный в частоколе, слышим свист: это наш дозорный подавал сигнал об опасности. Ребята, как воробьи, бросились обратно к частоколу. Столпились возле бреши, а уж Чебухайка вот она, рядом!
– А-а, дьяволята, попались!
Вдруг что-то стукнулось неподалеку. И тотчас же бежавший за мной Костя Набоков упал и завопил нечеловеческим голосом. Я остановился; еще двое или трое ребят, не успевшие выскочить через лаз, тоже подбежали. Костя лежал ничком, уткнувшись лицом в картофельную ботву, и сквозь слезы бормотал:
– В ногу… вилами угодила, стерва! У-у!..
Мы подхватили Костю на руки и потащили к лазу. Костя терпеливый был и то всю дорогу выл. Чебухайка ругалась, но подойти не осмелилась. Были с нами ребята и повзрослее.
Костя не ходил в школу недели три.
С тех пор в Чебухайкин огород мы ни разу больше не забирались…
V
Чебухайка числилась колхозницей, но имела от врача справку о болезни и по наряду не ходила. Сам Ефимка пристроился скотником. Алена, дочь, состояла в фуражирах, или, по-другому, складом кормов заведовала, но постоянно сидела дома. Хотя «сидела» – это не то слово. С таким-то хозяйством разве посидишь! Огород, сад, с десяток ульев, корова, свиньи, куры, собака. За всем пригляд нужен. Еще темно, а Аленушка уже в огороде: пропалывает, окучивает. Труд зря не пропадает. У кого раньше всех поспевают огурцы и помидоры? У Чебухайки. У кого молока всегда в избытке? У Чебухайки.
Подоит Дарья корову чуть свет, мешок на плечи и задами, пажей побежит на станцию. Станция у нас большая, все поезда останавливаются: и скорый, воронежский, и на Саратов который, и на Астрахань… Разложит Чебухайка на прилавке свой товар: помидоры, огурцы, редиску, выставит банки с ряженкой – подходите, дорогие пассажиры, выбирайте, кому что по вкусу! И заспанные пассажиры в полосатых пижамах, в помятых военных гимнастерках подходят к прилавку, хвалят Чебухайкин товар: «Ах, хороши огурчики. Вот так закуска!» – «Только с грядочки, свеженькие, с росой!» – подхватывает сладеньким голоском Чебухайка. Справится пассажир о цене – дороговато! Постоит, подумает, пройдет вдоль всего ряда – ни у кого нет огурцов. И, глядишь, возьмет. За ним и другие раскошеливаются. Гражданский, в полосатой пижаме который, банку ряженки берет, а военный в зеленой фуражке к меду приторговывается. Чебухайка к старости пасеку свою завела, получше других понимала толк в меде-то…
Так и жила Чебухайка день за днем. Все хорошо шло. Только одно плохо: Аленушка засиделась в девках. Все ее подруги давно уже замуж повыходили, а она никак. Ребята не засматривались на Чебухайкину дочку. Аленушка была девка бесцветная, русая не русая, рыжая не рыжая, не поймешь. К тому же сухопарая, с лица прыщавая, но пуще всего – злая. Они все были злые, Чебухайкины: и Ефимка, и Аленка; про самое же Чебухайку и говорить нечего.
Но вот что удивительно: и животные у них водились под стать им. Собаки задирали всех соседских кошек, свиньи, если их выпускали на поляну, поедали цыплят. Но лютее всех, лютее даже самой Чебухайки, была корова. Пестрая, рогатая, никого не подпускала к себе, кроме хозяйки. В стаде держать ее было нельзя: пастухи отказывались. Летом корова паслась на задах, в огороженном закутке, а с осени и всю зиму отлеживалась в хлеву, благо корму было вволю: своя небось фуражирка-то!
Бабы страшились Чебухайкиной коровы не меньше, чем пожара. Как увидят ее на улице, скорее кличут всех пацанов в избу, а калитки закрывают на засов. Не то что на детей, на мужиков бросалась. Однажды так Авданю поддела, что тот целую неделю на печи отлеживался.
Уговаривали Чебухайку, чтоб она продала корову. Но Чебухайка и слышать о том не хотела: уж очень много молока давала «брухучка».
Так вот и жила Чебухайка. Может, и до ста лет дожила бы за своим частоколом.
Только тут началась война…
Казалось бы, что для Чебухайки война? Это для других горе: в каждом доме по два-три мужика на фронт ушло – и мужа взяли, и взрослых сыновей. А у Чебухайки все дома. Через месяц, глядишь, одна соседка получила похоронную, другая. А Чебухайка к горю других равнодушна, знай себе ездит в Скопин, деньги отвозит, а мешки с добром в дом волочит. Знала, видать, что деньги в кубышке за зря могут пропасть, а барахло и запрятать можно.
Немец надвигался, как туча грозовая. Что ни день, то ближе фронт. Уж Вязьма пала и Венев, Тула чуть ли не в полном окружении. Наши отступают. Идут солдаты из-под Смоленска, из окружения, оборванные, грязные.
Бабы-солдатки всматриваются в их лица, не муж ли? Не сын ли? Бабы отдают солдатам последний кусок хлеба. Чебухайка воды кружку не подаст. Разряженная, как в праздник, в лучшей поневе, в бязевой кофте, стоит она на крылечке своей избы, радуется, дура:
– Слава тебе, господи! Дождалися свободы! Вот и пришел конец ихней антихристовой коммунии! Хошь на старости лет поживем по-христиански…
VI
Затаилось село, ждет. Где-то под Данковым по-прежнему ухает канонада. Дня два наших солдат совсем не видать: ушли, видно, оставили. И последний эшелон ушел со станции, и все мосты на «железке» взорваны.
А немцев все нет.
Немцы появились в Липягах в ночь под первое ноября. Немного их было, человек двадцать, все на мотоциклах. Проехали по селу, обшарили магазин, сельсовет, колхозные склады. Мотоциклисты укатили дальше; а следом за ними отряд на машинах. Потом еще и еще…
И поперла эта зеленая, вшивая, изголодавшаяся орда. Расползлась по всем Липягам. Как копоть на белом снегу.
В колхозных складах, в магазине взять нечего. Все бабы попрятали. Немцы стали шнырять по избам. Заросшие, грязные, рожи повязаны всяким бабьим барахлом. «Яйки ё?», «Млеко ё?» Отобрали все, что оставалось из съестного. Потом добрались до сундуков. Как попы в обход, начнут с самого конца и по порядку обходят каждый дом… Пришли и к нам. Мать одна дома: мы, старшие, на фронте, а младшие братья попрятались. Немцев трое: двое с автоматами, а третий так, без всего, знать, переводчик. Замок с мазанки долой, сундуки на подставках стояли – раз их на землю, перевернули и давай ворошить барахло. Теплое бельишко найдут, шерстяные носки, платок, холстину, все тут же забирают, тряпье подденут ногой – и на улицу. Вдруг в одном из сундуков увидели бумагу. На бумаге Ленин золотом нарисован. «Коммунист?» – спрашивает у матери фриц. Переводчик взял, посмотрел и говорит: «Похвальная грамота, за учебу». Не знаю чья, моя, Ивана ли или Федорова. Нас на фронте трое было. Учились мы все хорошо. У каждого были похвальные грамоты. Переводчик, значит, пояснил.
«Кде они?» – спросил тогда немец.
«Там, где и вы, воюют!» – спокойно ответила мать.
Перетряхнули во всей деревне сундуки, оделись потеплее, а тут фронт дальше к Скопину продвинулся. Этих-то, что наелись и оделись, на фронт услали. А на их место эсэсовцы заявились. Стали они допытываться, где колхозный скот. А его наш отец Василий Андреевич в тыл, на Пензу, погнал. Боялась мать – выдадут. Но бабенки не проговорились. Кто-то сбрехнул немцам, что, мол, колхозный скот по дворам развели, да и попрятали. Стали они по дворам да по сенцам рыскать.
Пришли к Авдане. А он в первую мировую в плен попал, не к немцам, а к австриякам. И жил там года два, в самой Австрии, егерем у какого-то тамошнего барона служил. Авданя и научился по-ихнему калякать.
Чудной этот Авданя: по-нашему говорит, и то не всякий поймет. А тут подошел к немцу и: «Гер офицер…» Удивился офицер. Авданя ему тут про плен-то австрийский и рассказал. «Гер офицер! Я знаю, где колхозный скот…» Да и пошел, и пошел… И все на Чебухайку: у нее, мол, артельный скот упрятан. Офицер сразу поверил Авдане. Взял солдат и, ни к кому не заходя боле, направился к Чебухайкиной избе. Человека четыре их было. И еще переводчик. Подошли. Собака в палисаднике на них залаяла. Офицер собаку ту пристрелил из пистолета. Не знал, на ком злость свою сорвать.
На выстрел выбежала из дому Чебухайка. Увидела немцев – и откуда у нее прыть взялась: ни «чё», ни «бу», а раскланялась перед фрицами, да и говорит:
– Ох, гости дорогие! Радетели наши! Давно мы вас ждали!
– Что она болтает? – спросил офицер у переводчика.
– Рада видеть вас, господин штурмфюрер!
Офицер в ответ сказал, что это большевистская пропаганда, и приказал переводчику объяснить старухе, зачем они пришли. Чебухайка заголосила:
– Да откуда у нас, бедных, коровы? Наговорили вам. У них у всех солдаты на войне. Против вас воюют. А у меня никого на фронте нет. Я и все мы… рады вам…
– Овец, коров кде? – нетерпеливо спрашивал офицер.
– Ох вы наши защитники! Есть у меня, бедной, одна корова… Семья зато большая… – продолжала Чебухайка. Распушив свою поневу, словно павлиний хвост, все кланялась офицеру и все причитала: – Не верьте им! Все антихристовы дети! Все большевики! У-у-у…
– Не большевик? Давай коров! Великая армия фюрера кормит надо! – оборвал ее немец. – Мы не грабитель. Мы цивилизованная нация. Марки платить за коров. Бумагу дадим – благодарить.
Немцы с автоматами оттеснили Чебухайку, вошли в сенцы. Переводчик, видно, был из перебежчиков, знал все: и как сундуки открывать, и как из сеней во двор попасть. Он стукнул щеколдой и, открыв дверь, пропустил вперед офицера.
– Ого-го! Майн гот! – загремел офицер, едва войдя в ухоженный Чебухайкин двор.
По двору разгуливало десятка полтора белых выхоленных гусей. Из большого хлева с решетчатой дверью выглядывали узкомордые овцы. В закутке рядом с овцами хрюкали свиньи. Тут же стояли два стригуна: это Ефимка с колхозной конюшни привел. На соломенной подстилке в отдельном хлеву пестрая корова. Не двор, а ферма…
Гуси, увидев незнакомых людей, загоготали; старый гусак, с высокой, как кокарда, шишкой на носу вытянул шею и зашипел на офицера. Тот ударил его сапогом и что-то сказал солдатам. Тотчас же двое немцев с автоматами подбежали к закутку, в котором стояла корова; один выдернул засов, другой вынул из-за пазухи длинную веревку.
– Не подходите! Убьё! – кричала Чебухайка.
Но ее никто не слушал.
Солдат с веревкой вошел в хлев и приблизился к корове.
Немец протопал по всей Европе, дошел до сердцевины России и, однако, не знал, что безопаснее очутиться в одной клетке со львом, чем войти в котух к Чебухайкиной корове.
И он вошел.
Корова покосилась на него. Немец бочком-бочком, по стеночке приблизился к ней и уже замахнулся, чтобы набросить веревку на рога, но в это время брухучка как мотанет головой! И рогами немца-то хлоп к стене. Еще миг, и острые рога насквозь проткнули бы фрицеву вытертую шинелишку. А заодно и кишки бы его вывалились наружу. Но другой немец, тот, что остался в дверях, не растерялся, выпустил по корове обойму из автомата.
Чебухайка метнулась к буренке, но старуху вышибли из закутка прикладами.
Коровью тушу тотчас же освежевали, взвалили на машину и – на кухню, на поддержание «великой армии фюрера». Туда же пошли и овцы и свиньи; а от гусей только пух один остался.
Чебухайка не видела этого: она еле живой добралась до печки и слегла. Месяц, а то и больше никуда не показывалась.
VII
Закрылись Чебухи в избе и отсиживаются. Ничего не видят, что вокруг делается. Только Аленушка прошмыгнет к колодцу воды набрать, а бабы будто нарочно ждут: «Как здоровье Дарьюшки-то? – спрашивают. – Попробовала фрицевого медку-то?! То-то, будет знать, сколь он сладок!»
Аленка ведра подхватит и бегом в избу. Плачет, а матери про злые бабьи слова сказать боится.
Немцы к зиме изрядно вымотались. Под Скопином их остановили наши. Недели две там бои шли, топтались на месте. Над селом самолеты наши летают, бомбят этих фрицев, покою им не дают. Как-то много их прилетело, и давай бомбить и стрелять по большаку на хворостянской стороне. Бомбят, страх один, а все липяговцы вышли на зады и, страха не боясь, смотрят. «Так их, мать их!..» Отработались штурмовики, улетать развернулись. Вдруг один самолет загорелся. Из зенитки, видать, в него угодили. Задымил-задымил и на землю стал валиться. Летчики, их двое было, – хлоп! – парашюты раскрыли. Висят, значит, на парашютах, а немцы, которых они не добили на большаке, тут как тут. Заметили такую беду друзья с воздуха, завернули да опять по немцам из пулеметов. А патронов-то у наших мало. Попугали и замолкли. Но летчики успели приземлиться. Парашюты посбрасывали и бегом. Да только куда бежать? Кругом поле. А немцы видят, что по ним перестали стрелять с воздуха, осмелели, напирают. И уж автоматы застрекотали. Огляделись летчики: неподалеку лужок. Он виден им с горки; в низинке по лужку клетки торфа наставлены. Есть где скрыться. Они скорей в эту низинку. Один-то, видать, ранен был, никак за товарищем не поспевает. Тогда тот, второй, подхватил его и понес.
Самолеты ж наши, хоть стрелять им нечем, а кружат над полем, чуть ли не брюхом немцев утюжат, сдерживают.
Добежали летчики до Свиной Лужжинки (так у нас этот овражек зовется) и скрылись в ней. Как сквозь землю провалились. Покружили еще немного самолеты и улетели: горючее, знать, тоже кончалось. Тогда немцы осмелели и, как коршуны, – к логу.
«Поймают!» – одним дыхом выпалили липяговцы, наблюдавшие за поединком.
«Убьют, идолы!» – сокрушались бабы.
Хоть бери вилы да беги летчикам подсоблять.
К счастью, под вечер дело было. Стемнело скоро. Так и заснуло село в неведенье: что ж с нашими?
Утром бабы ребят подговорили, чтобы сходить в Свиную Лужжинку. Пошли ребята. И опять все село переживало, ждало. Наконец подростки вернулись понурыми. Нашли одного нашего – убит. Самого захоронили в торфяной яме, а планшетку и документы принесли. А второго искали, искали и следов не нашли.
«Выловили живмя, вражины!» – горевали бабы.
Два дня только и жили этим – рассказывали да расспрашивали. Если кто и не знал про летчиков, так это одна Чебухайка, не совавшая никуда носа.
И вот дня два спустя темной осенней ночью кто-то – стук! стук! – к Чебухайке в дверь.
Обмерла с испугу Чебухайка: не немцы ль опять? Говорит дочери: «Выдь, спроси кто…» Аленушка вышла в сенцы и – к двери. «Кто там?» Никто не отозвался. Притаилась Аленка, слышит: у самого порога словно дышит кто-то. Она еще раз спросила. Молчание. Уж обратно в избу собралась, как из-за двери голос: «Летчик…ранен… впустите…» Тихий, чуть живой голос.
Аленушка затряслась вся от испуга, вернулась в избу и говорит матери: «Летчик наш, раненый… впустить просит…» Чебухайка с печки слезла, крестится: «Боже! И Ефимки, как на грех, нету…»
А Ефимка, муж, спал в омшанике – боялся старик, что в избе «разбомблят», а омшаник у него понадежнее любого бомбоубежища… Крестится Чебухайка, а дочь стоит рядом, наговаривает: «Раненый… чуть живой… впустить бы надо, мама!»
«Я те впущу! – отвечает Чебухайка. – Найдут, что тогда? Перевешают всех».
«Пусть вешают! Небось и то легче, чем вот так-то, затворниками жить!»
«Ну-ну! Давно не бита!» – пригрозила дочери Чебухайка.
Дарья зажгла лампаду перед богородицей и ну в пол поклоны класть. Мать шепчет молитвы, а Аленка ей вслух: «Мы его в омшаник спрячем. Никто не найдет! Немцам-то недолго стращать нас осталось. Вон, гонят их из-под Михайлова-то!»
Шептала-шептала Чебухайка, поднялась и, ни слова не говоря – в сенцы. Сама дверь открыла. Летчик уткнулся кожаным шлемом в порог и лежит. Голова у порога, а ноги аж у палисадника. Длиннющий мужчина! Взяли они его за руки, а поднять не могут. Волоком втащили. Видят, он весь в крови: и лицо и форма. Кровь запеклась: давно полз, знать.
Аленка достала из печки чугун с теплой водой, корыто из сенцев принесла. Грязную да кровяную одежду сняла и, как ребенка, – в корыто его. Чебухайка стеснялась вначале, а потом видит, дочери одной не управиться, стала помогать. Летчик только постанывает. Обмыли лицо и ужаснулись: глаза правого у него нет. Пуля за ухом вошла, а напереду вышла.
Обмыли, растерли первачом и – в чулан раненого, в запечье спрятали. Уснул он. А утром напоили молоком да в омшаник перенесли, на место Ефимки. Думали, помрет, не выживет. Ан неделя прошла, а он все живой. Аленушка от него ни на шаг: лекарствами рану присыпает, медом поит. Ничего, отлежался, стал приходить в память. «А другого, что я нес на себе, подобрали?» – спрашивает. А Аленке откуда знать? «Подобрали», – говорит, успокаивает его.