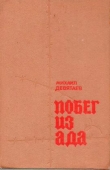Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
– Ну и дают, елки-палки! – воскликнул майор.
И лишь только услышал я эти «елки-палки», как мне вмиг вспомнилась степь за Ясновом. Черные валки скошенной вики, кобылка, сбрасывающая хомут. «Это мы мигом, елки-палки!», «Передайте, что так сказал Лузянин…»
– Майор! – крикнул я – Перебегайте в воронку!
Трах-трах…
– Майор?!
Майор молчал. Я поднял голову. Майор лежал в двух шагах от меня. Полушубок и ватные брюки его были изодраны осколками.
Я подбежал к нему. Подбежали радисты и мой связной.
Мы приподняли его.
– Ничего… спину только ожгло… – проговорил майор, и тотчас же я почувствовал тяжесть обмякшего тела на своих руках.
Майор потерял сознание.
Я сбросил с себя шинель; мы уложили на нее майора и под непрекращающимся обстрелом поволокли раненого к берегу. На том берегу Волхова, в еловом лесочке, стоял наш дивизионный госпиталь. Мы внесли Лузянина в хирургическую землянку. Возле землянки на ветках хвои сидели и лежали десятка два раненых, ожидавших операций. Они было запротестовали, но, увидев изодранный осколками тулуп майора, сконфуженно приумолкли.
Мы внесли майора в хирургическую, когда с операционного стола только что сняли тяжело раненного солдата с перебитой голенью. Он стонал, пока его клали на носилки, а хирург, капитан медицинской службы Ваграм Саркисян, меняя перчатки, успокаивал его:
– Ничего, мой милый, потерпи. Ходить будешь.
Я подошел к капитану. Он знал меня. Когда после взятия Тихвина наша дивизия находилась на отдыхе, мы жили рядом. И часто играли в шахматы. Капитан хорошо играл в шахматы. Но еще лучше он владел хирургическим скальпелем. В то время я об этом только догадывался. А точно узнал об этом, когда сам доверил ему свою жизнь. Мои раны тоже врачеваны руками капитана Саркисяна. Сколько потом ни возили меня по госпиталям, все врачи удивлялись, глядя на мои швы: «О, мастерски сделано!»
Я сказал Саркисяну, указав на раненого майора:
– Ваграм, этот человек спас мне когда-то жизнь. Сделай все, что в твоих силах.
Капитан кивнул головой и крикнул:
– Маску!
Я вышел из землянки. У входа сидели радисты. Я сказал, чтоб они шли в подразделение. Но они сделали вид, что не слышат меня. Только и оживлялись, когда из хирургической выбегали сестры. «Что с майором?» – спрашивали они. Но медицинские сестры молча пробегали мимо.
Операция длилась долго. Наконец двое солдат в белых фартуках поверх шинелей вынесли из землянки носилки. На носилках, укрытый полушубком, лежал майор. Солдаты поднялись и пошли рядом с носилками.
Я бросился в землянку. Капитан Саркисян стоял перед операционным столом с опущенными руками.
– Я сделал все, что мог, – сказал он. – Но майор не жилец. У него осколок в позвоночнике…
VI
«Ан нет, дорогой Ваграм, ошибся ты – жив майор!» – думал я, слушая Лузянина.
Заканчивая, Николай Семенович заговорил про мост на Липяговке.
– А теперь, – говорил он, – я хотел бы спросить вас: как же это так – столько лет вы живете одним колхозом, а моста на Липяговке не сделаете?! Сами прыгаете по ямам. Технику в объезд гоняете. Стыдно! Стыдно! Вот что, товарищи! – Он продолжал тише, с хитрецой: – Я к старичкам в первую очередь обращаюсь… Давайте соберемся завтра пораньше да одолеем этот мост. Покончим раз и навсегда с вашим «гиблостроем»… Молодежь я не призываю. Ей что! Ей и в горку нетрудно подняться. А я вот третьего дня перебирался вброд через Липяговку, и, знаете, трудновато старику… Я буду считать, что насчет моста мы договорились?
Все зашумели одобрительно.
Лузянин возвратился к столу. Председательствующий объявил собрание закрытым. Члены президиума сошли вниз, в зал.
Сошел и Лузянин. Колхозники оттеснили нового председателя от районного начальства, окружили со всех сторон. Я с трудом протиснулся поближе. К Лузянину подходили старики; он здоровался с ними, шутил.
Выбрав момент, я подошел к Лузянину и сказал:
– Майор?!
Лузянин повернул ко мне широкоскулое доброе лицо. Оно все было иссечено глубокими морщинами.
«Не он!» – Я так и похолодел.
И вдруг я услышал:
– Да!
– Помните деревню Зеленцы на Волхове?
– Постой, постой… – Лузянин отступил на шаг, чтобы, как говорится, оглядеть меня с ног до головы, потом вдруг обнял, привлек к себе. – Елки-палки, артиллерийский лейтенант?
– Да.
– И как вы тут?
– Учительствую в Липягах.
Мы вместе направились к выходу. На улице подмораживало. У клубного крыльца стояла, пофыркивая, легковушка. Это собиралось отбывать районное начальство. Пришлось подождать, пока Лузянин проводит управленцев.
Когда мы остались вдвоем, я спросил у Николая Семеновича, где он остановился. Лузянин сказал, что остановился пока у Ребровых. Хворостянских мужиков я знал хуже, чем своих. Но Филиппа Акимовича Реброва всяк у нас в округе знает. Это известный всем плотник – Лепич. Нет такого села, где бы он не ставил своими руками изб.
И Лузянин знал его. Когда Николай Семенович директорствовал в «Заполье», Филипп Акимович строил там фермы. Приехав в Хворостянку, Лузянин и остановился у знакомого плотника.
Ребровы жили неподалеку от клуба. Проводив Лузянина до дома Лепича, я стал было прощаться, ссылаясь на позднее время, однако Николай Семенович уговорил меня зайти в избу на чашку чаю.
Дом у Ребровых был большой, свободный. На столе в просторной хозяйской половине накрыт стол. По старинному обычаю, с самоваром. Сам Лепич – кряжистый богообразный старик, с окладистой, во всю грудь бородой – хлопотал у стола. Видать, прибежал с собрания пораньше.
– Прошу, гости дорогие… – пропела, кланяясь нам, Лепичиха.
Отказываться от чая у нас не принято. Мы сели за стол. Выпив одну-другую чашку чаю, Лузянин завел с Лепичом разговор по душам: что, мол, случилось, Филипп Акимович? Почему колхоз пришел к такому упадку?
– Людей нет, – отозвался Лепич. – На шахты ушли, в Бобрик на химический комбинат.
– Ушли, говоришь. А почему?
– Да что ты меня, Николай Семенович, пытаешь: почему да почему? Ведь оно как устроено: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Невыгодно стало – вот и ушли! Ведь кто нынче остался в колхозе? Кому податься некуда. А кто может на производстве работать, все ушли.
– Ну, а себя-то ты к кому причисляешь? – спросил Лузянин.
Лепич промолчал. Но когда разговор зашел о другом, о том, с чего надо начинать, чтобы поднять хозяйство, не утерпел – высказал заветное:
– До войны потому жили не тужили, что маленький колхоз был. Бывало, на лошадках вспашем, своими лобогрейками уберем. А теперь колхоз большой. Оно больше и беспорядков.
– Не прав ты, Филипп Акимович, – возразил Лузянин. – Не в этом дело. Теперь у колхоза трактора свои. Большому хозяйству сподручнее использовать технику.
– Посмотрим, что у вас получится, – отвечал Ребров. – Многие ведь и до вас пробовали.
VII
На другой день часу во втором бегу я из школы, вижу: у крыльца нашего учительского дома стоит тарантасик, запряженный Ландышем. На этом жеребчике Евгений Иванович, зоотехник, ездил.
После смерти агронома Евгений Иванович заглядывал ко мне редко: собутыльник я плохой, а к шахматам зоотехник не склонен.
Захожу в дом – ватник новый на вешалке висит. «Наконец-то, думаю, разбогател Евгений Иванович!» Слышу: на кухне мать с кем-то разговаривает. Прислушался – нет, не его, не зоотехника, голос. Потихоньку сняв пальто, я прошел по коридорчику и заглянул на кухню.
За столом, чаевничая, сидели мать и Лузянин. Они, видно, так были увлечены беседой, что не слышали даже, как я вошел.
– Ить как она, жизнь-то, поворачивается! – говорила мать. – Думала, умру, не послухав снова песен. А вчерася вышла ночью на улицу. Андрей уж очень долго с собранья не приходил… Слышу: громыхают по селу телеги – бабы с собранья едут. И поют, и поют, и так хорошо, так складно. Как в старину все равно. Послухала – будто Тани Вилялы голос. Раз Татьяна запела, думаю, то, знать, и вправду иная жизнь для наших начинается.
– Ничего, поправится дело, – соглашался Лузянин, – В «Заполье» мы чуть ли не сохами пахали, а какие хлеба были!
И тут они увидели меня.
Лузянин отставил чашку, встал. Мы поздоровались. Наливая чай в мою разлатую узбекскую пиалу, мать говорила:
– На Рыковом хуторе и теперь хозяйство в порядке. Там такие хфермы!
– Фермы и у нас неплохие. Запущено все. Вот в чем беда!
– Ить разуверились люди! – сокрушалась мать. – Задарма-то небось никому холку гнуть не хочется.
Закончив чаепитие, Лузянин попросил, чтобы я показал ему Липяги.
Мы оделись и вышли. На улице было свежо, но солнечно.
Лузянин отвязал от забора Ландыша, мы сели в таратайку и поехали. Признаюсь, мне не терпелось расспросить Лузянина про то, о чем не переставали судачить на селе: сам ли он к нам напросился или и вправду проштрафился на большой-то работе? Всего лишь час назад, сидя в учительской, я перелистывал свежую областную газету и неожиданно увидел такую заметку:
«На днях состоялась сессия облисполкома. Сессия рассмотрела организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу тов. Лузянин Н. С. освобожден…»
Мне очень хотелось спросить, но я не решился. Не зная, с чего начать, я спросил Лузянина о том, почему он запряг Ландыша, а не поехал на машине.
– Да так, знаете… – Лузянин пошевелил вожжами, чтобы Ландыш шагал быстрее. – На машине оно как-то слишком скоро. А я не люблю скорой езды. Проскочишь и ничего толком не увидишь. На лошадке сподручней: где надо, остановишься, поглядишь. На машине пусть специалисты катаются. Им она нужней. А я что ж… Мне спешить некуда. Ну, я слушаю вас, – обратился он ко мне.
– Я не знаю, право, что рассказывать.
– А рассказывайте что хотите. О людях, о домах, о колодцах – обо всем рассказывайте. Мне все интересно…
VIII
Мы ехали по главной площади Липягов. Большую часть ее занимал неуклюжий продолговатый дом. Нижний этаж его был из красного кирпича, верх деревянный, обшитый почерневшим от времени тесом.
– Вот наша школа, – начал я свой рассказ, указывая на неуклюжий двухэтажный дом. – Построена в тысяча девятьсот восьмом году липяговским попом отцом Александром. Если есть у нас, липяговцев, что-либо хорошее, то им они обязаны именно этому дому… По преданию, – продолжал я, как заправский гид, – тут когда-то стояла древняя липяговская церковь. Церковь была деревянная, обветшалая. Однажды во время сильной грозы молния ударила в крест, и церковь сгорела. Долгое время тут был пустырь, где каждую весну копались богомолки, отыскивая кусочки серебра от расплавившихся в огне колоколов. Теперь центр просвещения. Школа хорошая, но запущена. Нет средств на ремонт…
– О школе мы потолкуем особо, – задумчиво отозвался Лузянин. – Я ведь, прежде чем стать директором в «Заполье», учительствовал на Рыковой хуторе.
Мы проехали мимо пустыря (место, где стояла новая кирпичная церковь, построенная одновременно со школой и теперь тоже снесенная). Проехав пустырь, мы свернули направо. И тотчас же за неглубоким овражком на взгорье показался поповский дом. Он был весь на виду – одинокий, забытый всеми, заброшенный. После смерти отца Александра дом пришел в упадок. Железная крыша его заржавела настолько, что покрылась даже мохом; трубы печей пообвалились, окна выбиты. Лишь одни жизнелюбивые ракиты – ободранные, поруганные – по-прежнему давали молодые побеги. Сквозь их поредевшие сучья виднелся сад. Многие яблони были поломаны, вишни обглоданы козами. И среди этого запустенья какой-то нескромной казалась зелень пушистых елей, росших перед домом.
– Это что за поместье? – спросил Лузянин.
Я рассказал.
– Дом-то вы напрасно забросили. Не по-хозяйски. Какое великолепное место для детского сада!
Миновав поповский дом, мы стали подниматься в горку. Мы ехали по моей родной улице – Кончановке. Как и все улицы села, она была разрыта канавами. Лузянин спросил, что это за канавы.
– Собирались водопровод проводить, да силенок не хватило.
– Значит, второй «гиблострой», – заметил он без улыбки.
По правую сторону от дома отца Александра и до самого Бирдюкова дома простирался обширный пустырь. Человеку, не посвященному в прошлое Липягов, могло показаться, что тут всегда был пустырь. Но я-то знал все до тонкости, как он возник. И я стал рассказывать Лузянину одну историю за другой…
Я рассказывал про Груню, про непутевого мужа ее Пашку-перепела, и про то, как исчез с липяговской земли наш дом, дом Андреевых, и про то, почему обвалились, сровнялись с землей наши колодцы.
Лузянин слушал, кивал головой; лицо его выражало грустную озабоченность. Лишь когда мы, объехав яму недостроенного водопровода, повернули обратно и поехали другой стороной порядка, Николай Семенович спросил, указывая на дом с шиферной крышей:
– Колхозник?
– Нет. Это дом Василия Кочергина. Стрелочником на станции работает.
– Так. Продолжайте!
Не успел я досказать про Чебухайку, Лузянин снова коснулся моей руки.
– А этот? – и указывает на чистенький дом с террасой.
– Железнодорожник, – говорю, – на угольном складе работает.
– Ясно.
Лузянин не проявлял к этим домам никакого интереса. Но вот он увидел мазанку, стоящую одиноко, на отшибе. Ни кола вокруг дома, ни двора. Две-три курицы копошились в куче золы перед окнами.
– Тут, надеюсь, не железнодорожник живет?
– Нет. Это дом Тани Вилялы, – сказал я. – Солдатка. Одна, без мужа, троих детей малых воспитала.
– Ничего, если мы заглянем к ней на минутку?
– Конечно.
Лузянин свернул с дороги к дому, привязал повод лошади к стволу чахлой ракиты, росшей с проулка, и, пригибаясь, первым шагнул в сенцы…
IX
Наступила зима. Николай Семенович оделся по-простому, по-мужицки. Купил себе барашковый полушубок, валенки с галошами, кроличий треух с кожаным верхом. Тарантасик свой директор к кузне поставил: видать, договорился с Бирдюком о ремонте, а сам пересел на санки. И как сел на них, так, казалось, и не слезал вовсе. Выйдешь утром за водой к колодцу – глядь, а по дороге уже Ландыш бежит: трух-трух… Скрипят по снегу полозья. Иногда голос услышишь: Лузянин, сидя в санках, с кем-то разговаривает. Может, на ферме был, может, уговорил какого-нибудь «белобилетника» и теперь везет его на работу.
«Белобилетниками» Лузянин в шутку называл пенсионеров. Но он не над колхозниками подсмеивался, а над собой, называя себя не иначе как «председателем белобилетников».
Не знаю, как он мог еще шутить?
Другой в его положении ходил бы мрачнее тучи. Не хватало кормов, не хватало рабочих рук в хозяйстве.
Колхоз-то кто тянул? Старики и старухи. На них, можно сказать, все хозяйство держалось. Кто помоложе, сын там или дочь, на станции служат, деньги, хлеб в дом носят, а старики и старухи в колхозе, минимум огородный отрабатывают.
Все по-хорошему шло до самой зимы. А тут, как сказал Лузянин про пенсию, старички и потянулись в правление.
– Николай Семеныч, правда ваша: в уставе насчет пенсии записано, а ведь не помогает нам колхоз. Вот хушь я. С самого первого дня в колхозе. Семьдесят стукнуло. Больной к тому же.
– Ну что же, очень хорошо, – отвечал Лузянин. – Если вы честно работали, пожалуйста, напишите заявление. Правление обсудит.
Людям слова председателя очень по нраву пришлись. Непривычны были липяговцы к такому. У нас в колхозе кто считался передовым человеком? Кто за труд свой ничего не требовал. Взять хотя бы нашего отца: он сам за так всю жизнь бегал да к тому же хотел, чтобы и другие за «мое поживаешь» работали. А кто законы знал, свое начинал требовать, тому, бывало, сразу ярлык наклеивали: обыватель ты, и мещанин, и рвач…
А Лузянин никому таких слов не говорил. И себя никому в пример не ставил. Очутись на месте Лузянина наш отец, тот разошелся бы почем зря! «А-а, вам легкой жизни захотелось! – сказал бы отец. – А вы знаете, что я еще двадцать лет назад, с той поры, как немцы мне всадили осколок в позвоночник, мог бы у государства на шее сидеть и ничего не делать! Но я категорически отказался от пенсии. И по старости она мне положена. А я и этой не хочу. Хочу трудом хлеб свой зарабатывать. А вы?! Колхоз и без того весь в долгах. А вы требуете пенсию! Да как язык у вас поворачивается?..»
А Лузянин никому такого не говорил: ни про раны свои, ни про возраст. Он сам каждого выслушивал: кому нужна была помощь – помогал.
Было б это летом, оно, возможно, меньше б людей толклось в правлении. Глядишь, в огороде что-то надо поделать, да и в поле работы много. А зимой в поле делать будто нечего; в огороде снег лежит. Самое время «пензию» хлопотать.
И мужики хлопотали.
Соберет Лузянин правление, начнет прикидывать, кого куда послать, а ему в ответ:
– На ферме три доярки остались: все поприносили справки от врача, что у них руки болят.
– Елки-палки! – Лузянин озабоченно чешет затылок.
Напротив него сидит дед Печенов. Он один из немногих старичков, кто не захотел хлопотать себе пенсию. Дед не спеша извлекает табакерку, захватывает щепотку зелья и говорит:
– Были елки – остались палки… Да-а… – И, не договорив, трясет головой: – Чих-чих…
Одна опора осталась у председателя: Бирдюк и его бригада. Большинство доярок пожилые женщины. Принесли справки от врача – и до свиданья! Пришлось перевести их на другую работу. Выход один, решил Лузянин: надо налаживать «елочку». Агрегат был, еще год назад купили. И работал немного. Но из-за неполадок его забросили, так и не освоив как следует.
Лузянин посадил в санки Бирдюка – и на ферму. Целую неделю Бирдюк дневал и ночевал в коровнике, пока не наладил доильную машину. Зимой корма подвозить надо. А возчиков мало. Опять председатель к Бирдюку на поклон идет.
Бирдюк подумал-подумал, трактор для подвозки кормов приспособил. Как захватит «ДТ» тросом целую скирду, так и тянет до самой фермы. Даже шапка снега сверху не свалится.
Всю зиму, почитай, только одни механизаторы и работали. Бороны, тракторы, сеялки чинят, семена со станции возят и сортируют, навоз с ферм вывозят.
Лузянин от Бирдюка ни на шаг. Часу без него прожить не может.
Но беда в том, что и Бирдюк не все может…
Сижу однажды, проверяю тетради: вдруг вбегает Марья, сестра моя, что на ферме дояркой работает, и, не поздоровавшись даже, кричит с порога:
– Андрюша, скорей беги на ферму! Мотор перестал воду качать. Бирдюк сказал, чтоб тебя позвали…
Я шубейку набросил на плечи и бегу в коровник. Прибегаю, а мотор уже отключили и отправили в кузню. Я – туда. Захожу в бирдюковскую мастерскую, а там полный консилиум собрался. Мотор стоит на верстаке; кожух с него снят, щётки отделены, якорь вынут; его держит в руках Бирдюк и что-то разглядывает. Слева от Бирдюка – Евгений Иванович, зоотехник, справа – сам Лузянин.
– Что стряслось, Яков Никитич? – спросил я.
– Загвоздка в обмотке. Перегорела небось. А как отыскать обрыв, не придумаю.
Я сказал, как можно отыскать обрыв в обмотке якоря. Бирдюку долго растолковывать не надо – он с полуслова все понял. Тотчас же появился аккумулятор, переносная лампочка со щупом, и мы принялись за дело. Кропотливое это занятие, но ничего другого не оставалось. Запасного мотора нет; везти на ремонт в межрайонные мастерские – значит, ферма более недели будет без воды.
Решили сами исправить повреждение. Мы проверяли обмотку виток за витком. Я держал аккумулятор, а Бирдюк прощупывал провода, спрятанные между медными пластинами. Если в проводе не было обрыва, то в руках у Якова Никитича зажигалась лампочка.
Евгений Иванович протирал тряпкой кожух и щетки. Лишь один Лузянин сидел без дела. Он подсел к угасающему горну и, думая о чем-то своем, помешивал красноватые, с черной окалиной угли концом проволоки.
Я поглядел на Лузянина, потом перевел взгляд на зоотехника, сосредоточенно занятого делом, и как-то очень ясно понял, что сделал Лузянин за короткое время своего председательствования. Я понял, что главное его достоинство как руководителя состоит в том, что он быстро умел найти обрыв в человеческой душе; он умел быстро найти, соединить оборванные концы. И вдруг она начинала светить – погасшая лампочка!
Вот хоть тот же Евгений Иванович. Кем он был при Володяке или при том же Чеколдееве? Зоотехник был при них мальчиком на побегушках. Только и вспоминали о нем, когда требовалась сводка в район: сколько скота в хозяйстве да каков надой? А заведет он разговор о чем-нибудь серьезном, председатели от него руками отмахивались: мол, без твоей науки обойдемся!
Оттого и попивал он.
Лузянину говорили люди, что толку из зоотехника не будет. Но Николай Семенович чужим словам не поверил. Он позвал к себе зоотехника, потолковал с ним, послушал, что тот о деле скажет. Лузянин любил выслушивать людей. Просто талант у него был такой! Сядет напротив собеседника, голову ладонью подопрет и слушает. Не перебьет ни разу, не поправит; лишь изредка, будто ослышался, спросит: «А?» – и тут же: «Так, далее…» И будто дел у него нет иных. К телефону его позовут, а он: «Потом, потом! Объясните, что я занят…» Обедать пора – так он и обедать не уйдет до тех пор, пока человек все ему не выложит.
Послушал Лузянин Евгения Ивановича: толковый специалист, правильные вещи предлагает. А зоотехник вот о чем говорил. Он говорил, что пора покончить с текучкой. Что надо работать с перспективой. Отобрать лучших коров, выделить их в отдельную группу и из поколения в поколение улучшать стадо. Для этого необходимо ввести искусственное осеменение, строгий рацион в питании.
– Хорошо, – сказал Лузянин. – Так и делайте. В чем нужна будет помощь, заходите ко мне в любой час дня и ночи.
С этого дня будто подменили Евгения Ивановича! Пить он совсем бросил. Некогда стало. Не хватало времени, чтоб управиться с делами на ферме. Всю зиму он с пунктом осеменения бился: отгородил себе комнатку в новом коровнике, побелил ее; раз пять ездил в город за микроскопом и другим оборудованием. И такое доверие Лузянин зоотехнику оказывал, что никто и ничего без согласия Евгения Ивановича на ферме сделать не мог.
Придут к Лузянину доярки:
– Николай Семеныч, отел скоро. Надо бы поддержать коров. Можа, откроем ямы со свеклой?
– А вы чего ко мне с этим? – скажет в ответ Лузянин. – У вас на ферме зоотехник есть. С ним такие дела решайте.
Такое доверие не то что радовало, а просто воодушевляло Евгения Ивановича. Встретив меня, он расскажет обо всех своих делах и непременно вздохнет с огорчением:
– Как жаль, что Алексей Иванович не дожил! Вот он-то бы развернулся теперь!
– Да, – скажу я и вспомню не только об агрономе, но и об отце своем, Василии Андреевиче. Уж он-то наверняка пришелся бы по душе Лузянину. Они, как мне кажется, из одного теста слеплены… Была у них лишь одна разница: отец без огня горел, а Лузянин, горя сам, умел еще зажигать и других людей…
– Горит? – перебил мои размышления Бирдюк.
– Горит.
– Так, далее…
X
Но Лузянин умел подбирать ключик не только к одному отдельному человеку, но и к любой государственной организации. Иной председатель или директор, чтобы достать сотню листов шиферу, гору бумаг испишет – туда и сюда, во всякие рай и обл… А наш председатель бумаг не любил писать.
И слов лишних не говорил, и бумаг плаксивых не писал, а дело делал.
Если я расскажу вам, как он наших шефов-железнодорожников уговорил, чтобы они нам водопровод помогли сделать, то вы не удивитесь. На то они и шефы, чтобы помогать!
Однако помощь помощи рознь. Три километра стальных труб – это не какая-нибудь сотня кирпича!
Станция наша с Липяговки воду берет. Издавна так было. У Подвысокого сделана запруда; возле нее, в тени ракит, красное кирпичное здание – насосная. И день и ночь дымок из трубы насосной: пых-пах! – пыхтит движок. Движок насос вертит; тот воду из запруды забирает, по трубам на станцию гонит. Там, на станции, водопроводная башня. Из высокой башни вода самотеком бежит в колонки: и в те, из которых люди пьют, и в те, из которых в тендер паровозы воду набирают.
Лет сорок так было. Станционный поселок настолько разросся, что воды стало не хватать. Решено было построить новый водопровод. И, как говорят сантехники, не одну нитку, а две: бытовую и деповскую. Потому как паровозам нужна иная вода, чем людям. Людям нужна вода очищенная, а паровозам – с прибавкой каустической соды, чтоб накипи в котлах было меньше.
Запроектировали, значит, две эти самые нитки. Пока согласовывали проект да смету утрясали, а время-то шло себе не спеша. Наконец начали строить. Начали с бытовой линии. Одно лето копали ямы, другое – развозили трубы…
Одним словом, пока строили, нашу железную дорогу электрифицировали. Паровозы смазали погуще солидолом – и в тупик их, пусть стоят: не ровен час, еще пригодятся. А по всей линии новенькие электровозы пошли. Электровозы, как известно, воды в тендер не заливают.
Так вторая, деповская, ветка оказалась ненужной. Трубы, разбросанные по полям, ржавели без надобности.
Лузянин оглядел трубы, разузнал, от кого зависит решение, и прямехонько к тому железнодорожному начальнику: «Так и так, мол, не по-хозяйски, дорогой товарищ. У вас трубы ржавеют, разворовываются, а у вашего подшефного хозяйства один колодец на всю улицу… Начали строить водопровод, но из-за нехватки труб застопорилось дело».
Начальник, конечно, затылок чешет себе, всякие сомненья высказывает: «Понимаете, Николай Семенович, трубы те на балансе у нас… Надо подумать, согласовать». Лузянин поддакивает: «Да, конечно…» А уходя, и говорит: «Так договорились, значит! Мы вам пришлем бульдозер, чтоб засыпать ямы, а вы уж помогите нам чеканщиками. А то у нас специалистов нет».
И глядь, ясным майским днем тракторы по селу громыхают, трубы по порядкам развозят. Дальше – больше: рабочие-водопроводчики появились, и с пустыми руками, а с автокранами, с карбидными аппаратами. За месяц уложили трубы, зачеканили, опробовали: пожалте, уважаемые липяговцы, пейте артезианскую воду…
Да, скажете вы, но ведь это шефы! К тому же это солидная организация. Что для железнодорожников стоит какая-то там сотня тонн труб?
Согласен. Но тогда послушайте еще одну историю. Про пожарников. Если б меня раньше спросили, что можно заполучить с пожарников, я бы целый год голову ломал, так ничего б и не придумал. А Лузянин и к ним ключик нашел.
Вызывает как-то Лузянин к себе Авданю и говорит:
– Вот какое дело, Евдоким Кузьмич. Надо составить отчет о том, сколько в Липягах было пожаров за последнее время, и в каком состоянии наши противопожарные водоемы.
Авданя, известное дело, мужик расторопный, к тому же какой-никакой, а служака.
Сказал: «Есть составить отчет!» Пошел к себе в дежурку и накатал на листке ученической тетради «рапорт». Документ этот, к счастью, сохранился; я приведу его полностью.
«Докладаю, – писал Евдоким Кузьмич, – что за время моего начальствования над добровольной дружиной во вверенном мне селении Липяги пожаров не наблюдалось. Пруды и водоемы блюдутся в отличном состоянии. Начальник добровольной пожарной дружины…» – и далее подпись Авдани со множеством крючков и завитушек. Хоть на червонцы ставь.
Написал; приносит через некоторое время Лузянину. Тот прочитал, улыбнулся про себя, да и говорит:
– Евдоким Кузьмич, дорогой! Когда я буду представлять вас к ордену, я сочиню бумагу похлеще… А теперь мне статистика нужна. Нужны цифры и факты. Вот у вас тут написано: «Пожаров не наблюдалось…» Ну как же так «не наблюдалось»?! А прошлым летом, когда вы без колеса по селу дефилировали… это вы куда спешили, разве не на пожар? Так вот, сделайте все по форме.
Справили все необходимые бумаги; печатями их заверили, акты к ним приложили, Лузянин в тарантасик сел и покатил. Поехал в районную пожарную инспекцию; приехал, показывает начальнику бумаги.
– Посмотрите, какой вред селу наносят пожары. Что ни год, то пожар. Пруды высохли.
– Это нам известно, – соглашаются пожарники.
– Надо строить водоемы, – настаивает Лузянин. – У вас деньги на противопожарные мероприятия есть?
– Есть.
– Куда вы их расходуете?
Замялись пожарники: уж какой год кряду деньги эти они списывают куда попало, лишь бы их не сняли со счета. Лузянин знал обо всех их проделках. Он, как говорится, припер пожарников к стенке, и те сдались. Обещали построить в хозяйстве Лузянина два бетонированных водоема. И построили. Один в Хворостянке, другой – у нас, в Липягах. Прекрасные получились резервуары! Летом в них вода плещется: водопой для скота – лучше не надо. А на зиму их приспособили под силосохранилища. До Лузянина хранили силос так называемым «наземным» способом. В отчетах силос значился, а скот кормить было нечем. Как лето, так бульдозер кучу эту «наземную» – смыг-смыг – в овраг, чтоб не смердила она возле фермы.
А как нарезали кукурузу в бетонную яму, так потом всю зиму силосом кормили и коров, и овец, и свиней. Придет на ферму Лузянин, возьмет в руки щепотку спрессованной кукурузы, понюхает.
– Хороша! – и заулыбается, довольный: – Спасибо, дорогие пожарнички!..
XI
Лузянин пришелся по душе липяговцам. Многие старички, те, что отхлопотали себе пенсию и сидели дома, с весны начали сами просить у Лузянина наряды. Как-то весело стало с новым председателем. Я это и по себе замечаю: не вижу Николая Семеновича день-другой, и словно чего-то не хватает мне.
Сделаю все по дому, к урокам завтрашним приготовлюсь и бегу в правление.
Правление Лузянин решил опять к нам, в Липяги, перевести, а в Хворостянке создать бригаду. Был у него план укрупнить колхозные владения. Прежде всего ему хотелось завладеть ремонтными мастерскими бывшей МТС. Теперь они принадлежали «Сельхозтехнике». Ремонт сельхозмашин в межколхозной мастерской обходился так дорого, что дешевле было купить новый трактор, чем чинить старый. «Сельхозтехника» несла от мастерских неимоверные убытки и готова была при первом удобном случае отказаться от них. Лузянин прознал об этом и начал хлопотать. Говорят, что вопрос с мастерскими – решенное дело: колхоз покупает их в рассрочку.
И еще была у Николая Семеновича одна тайная мысль, которой он со мной как-то поделился. Неподалеку от станции притулился крохотный колхозишко «Победа». Это хозяйство жило исключительно за счет станционного поселка. Земли в «Победе» немного – огороды да картофельные плантации. Однако свиней они откармливали хорошо. Сывороткой с молокозавода выпаивали поросят, а затем откармливали их отходами столовых. У них это дело ловко было поставлено: сбор отходов. Выходило, что «Победа» не колхоз, а своего рода подсобное хозяйство. Ну, и это хозяйство Лузянину приглянулось.
Вот почему он выбрал себе позицию в Липягах – ко всему близко.
Правление обосновалось теперь в доме, где когда-то помещался сельский Совет. Это рядом со школой, на площади.
Вот сделаю все и бегу туда. Зайду к Лузянину в кабинет, послушаю, о чем он с колхозниками беседует, покурю со всеми и пойду обратно. Если ж случится так, что Лузянина в конторе нет, то домой к нему загляну. Квартировал он у вдовы агронома, Надежды Григорьевны. Ей тоскливо было после смерти Алексея Ивановича, и она пустила к себе Лузянина. Тем более что семья у председателя небольшая – он и жена, Клавдия Егоровна, в прошлом учительница, женщина тихая, домовитая. Дети у них взрослые – инженеры, врачи, – живут отдельно.