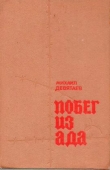Текст книги "Липяги"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Мать нисколько не обиделась. Сказала спокойно:
– Бог – это не икона. Бог – он в душе человека должон быть.
– Знать, ты и в Священном писании разуверилась? – не могла успокоиться тетушка.
– Оно и в Писании так сказано: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них», – прочитала мать нараспев.
– Невидим, однако благо людям делал!
– Было время… Но только кто ж о том знает.
В глазах Авдакеи я заметил испуг.
– Ты что ж, Палага, – тихо проговорила она, – совсем отступилась от нашего бога-то?!
ІV
Мать не отозвалась. Занялась чаем.
Чай – первое дело при встрече бабьей родни. Это все равно как у мужиков водка: без поллитровки – какой же разговор! Так у баб чай.
В прежнее время, явись к нам такой редкий гость, как тетушка Авдакея, мать поставила бы самовар. Углей горячих насыпала бы в него из печки, глядишь, через четверть часа самовар готов. Его водрузили бы на стол, мать перетерла бы чашки и блюдца чистым ручником, и сестры сели бы одна против другой и попивали бы чай вприкуску, и говорили бы о том о сем, и в их размеренный говор вплетал бы свое мурлыканье разогретый самовар.
Теперь иное дело. Теперь самовары вышли из моды. Некогда с ними возиться. В старой избе еще ставили кое-когда. Но старший брат Федор нашел ему иное применение. В палисаднике перед новым станционным домом он вкопал дубовый столб, а к этому столбу привинтил болтами наш медный, со всеми медалями на боку, тульский самовар. Летним утром Федор наливает в самовар ведро воды и моется под краном, фыркая от удовольствия. Неизменный свидетель всех наших семейных торжеств, самовар стал на старости лет рукомойником. Видно, таков уж удел всего, что переживает свой век.
Теперь в моде чайники. Чайник, он, может, не столь поэтичен, зато удобен. Не успела мать поставить на стол посуду да кое-какое угощение, а уж чайник загремел крышкой: готов, закипел, значит.
Мать разлила чай и села за стол напротив Авдакеи. Я тоже пристроился сбочку.
Отпив один-другой глоток чая, мать отставила блюдце и заговорила:
– Вот ты спрашиваешь, отступилась ли я от бога? А я и сама не знаю… – Она вздохнула. – Молодой глупая была – верила. И то, как не верить? У дьячка училась-то. Втолковал Священное писание. Окромя Евангелия, ничего до самого замужества и читать-то не умела. А потом, как пожила, так уж…
– Иные, знать, книжки начала читать?
Авдакея искоса из-под припухлых бровей посмотрела на младшую сестру. Мать не отвела своих глаз от ее взгляда.
Авдакея сидела за столом свободно; в одной руке она держала блюдце с чаем, в другой – белый, городской выпечки сухарь. Она откусывала жесткий сухарь, не размачивая его в чае, и, аппетитно похрустывая, ела. Несмотря на возраст, у тетушки Авдакеи все зубы были целы. Она ни разу за всю свою жизнь ни на какую боль не жаловалась и по врачам не ходила. У матери же зубы повываливались очень рано, и теперь она, прежде чем откусить сухарь, подолгу размачивала его в блюдце. Ожидая, пока сухарь размокнет, мать говорила:
– Не из-за книжек я в боге разуверилась. Из жизни самой знаю: был бы бог – не допустил бы он этого…
– Что, или плохо жила?
– На свою жизнь не жалуюсь. Детей всех до дела довела. Не о том речь: будь он, господь бог, он над собой глумленья не допустил бы.
Авдакея отставила блюдце – слова матери задели ее.
– Это кто ж над ним глумится-то? – спросила тетушка.
– Да в первую очередь служители церкви. Вспомни-ка нашего рыжего попа… С него-то у меня это неверие и началось…
V
Я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. При одном упоминании о рыжем попе все липяговцы непременно улыбаются. И мать сказала и заулыбалась. И я. Даже по аскетически замкнутому лицу тетушки пробежала улыбка.
Я уже рассказывал о нашем липяговском попе, отце Александре. Это был интеллигентный поп. Он и «кусочков» не брал, и на поминках не упивался. В крутую пору, когда начали организовывать колхозы, его арестовали. Но просидел он недолго. Ранней весной он вернулся в свое разоренное гнездовье, продал половину дома и стал потихоньку доживать свой век. От сана и службы отец Александр отказался. Целый год, а то и более службы в нашей церкви не было. Потом нашлись ходоки, вроде деда Поликарпа, бывшего церковного старосты. Съездили к митрополиту, туда-сюда, похлопотали.
И прислали нам нового попа.
Чуден он был с виду: рыжий, здоровенный, грива, будто у Ефремкина мерина, – отродясь, видать, не стрижена, не чесана. Поначалу все шло тихо-гладко: рыжий и рыжий – мало ли их на свете белом, рыжих-то! Зато голос не то что у отца Александра. Тот, бывало, мурлычет себе под нос «аллилуйя», «аллилуйя». А этот как гаркнет, так с испугу не то что старухи вздрагивали, аж голуби с колокольни врассыпную.
Да, и голос хорош, и службу знает. Только вот какой изъян обнаружился вскорости у отца Митрофана: питал он слабость к зеленому змию.
Как-то летом отслужил он заутреню и пришел домой отдохнуть. А жил он на селе, у старосты церковного Поликарпа, старика строгого, прижимистого. Пришел и говорит: «Неси, старый, самогон, а то обедню не пойду служить!»
«Да что ты, батюшка! – взмолился дед Поликарп. – Отслужи обедню, а вечером вместе и выпьем».
«Я сказал, неси самогон! Не поставишь – службы не будет! Ясно?»
Что тут поделаешь! Полез Поликарп в погреб (а старик баловался самогоноварением), принес бутылку. Опорожнил ее батюшка, закусил соленым огурцом и – в церковь. А в церковь ему идти через все село. Шел-шел отец Митрофан, приустал, а тут, как назло, жарища донимает. Уж и идти немного осталось – подняться только в горку. Видит: пруд. В пруду ребятишки подняли гвалт – купаются. И пришло рыжему в голову, глядя на них, тоже освежиться. Народ к обедне спешит, а батюшка остановился и давай у всего честного народа на глазах раздеваться. Снял подрясник, исподнее бельишко; сложил все свое хозяйство на бережку – да и в воду…
А пруд наш, что посреди Липягов, давно обмелел. Ребенку, может, и есть кое-где по грудки, а этому рыжему детине – чуть не по колено. Но отцу Митрофану спьяну все нипочем. Бултыхается он с ребятишками, а прихожане идут мимо, чертыхаются: поп – голышом у всех на виду. Срам один!.. Бабы плюются да отворачиваются.
Уж давно отзвонили к обедне, а батюшка все купается. Наконец накупался, оделся; прибыл в церковь. Но только показался он на амвоне – по всей церкви гул. Мужиков смех разбирает, бабы шушукаются, пересказывают друг дружке, что на пруду было.
Шепот, смех, сдержанное хихиканье.
Поп слушал-слушал да как крикнет:
– Тише, черти!
Ох, что тут было! Не то что голуби с колокольни сорвались, но даже у деда Кочергина, контуженного ядром в японскую войну, глухого, с самого пятого года ни слова, ни грома не слышавшего, вдруг от этого батюшкиного крика слух прорезался! Он и спрашивает у баб: «Ась, что батюшка сказал?» А те пуще прежнего смеются. Кто помоложе – не удержались: выбежали из церкви, да и хохотали себе вволю целый час на паперти…
VІ
– Я в тот раз до конца обедню выстояла, – заговорила мать. – А больше уж ни разу и не была в церкви. Чего, думаю, делать там? Коль был бы господь бог, думаю, не дозволил бы он так глумиться над собой… над верой православной.
– Служители всякие бывают! – возразила тетушка. – Небось вон теперь и председатели разные… Они, что ж, али водки не пьют?
– Во-на! Сравнила: «председатели», – отозвалась мать сдержанно.
Наша мать вообще очень сдержанна. И на редкость немногословна. К старости люди, как правило, становятся словоохотливыми. Наука объясняет это просто. У пожилых людей развивается атеросклероз, и они теряют контроль над речью. У матери я не замечал этого. Пожалуй, наоборот: со временем она становилась все молчаливее, все сдержаннее. Ни в споры не вступала, ни в воспоминания не вдавалась. А тут вдруг сцепилась с сестрой – и ни в какую! Видать, уж очень все это волновало ее.
– Нет уж! – помолчав, продолжала мать. – По мне так: если ты служишь святому делу – поп ли, председатель ли, – то сам прежде других свят будь. А то ведь хошь тот же рыжий… Выйдет из царских дверей – и к бабам: «Соберите-ка на четвертинку. А иначе службы не будет». Соберут они, бывало… Дед Поликарп сбегает в кооперацию. Повеселеет поп и начинает службу. Читает-читает и вдруг понесет от себя всякую чепуху. Тьфу! Прости меня за прегрешение, господь бог… Но именно тогда, с рыжего попа, я и начала сумневаться в тебе. Что ни день, то новые чудачества, новые над тобой и над людьми насмешки. А ты все терпишь… Вот, помню: умер сосед наш – дед Михей. Год был трудный, неурожайный. Хлебушек к весне у всех подобрался. На поминки заявляется этот рыжий. Прямо в рясе сел за стол. Пил, ел за двоих. Стал вылезать из-за стола, взял последнюю краюху хлеба – и под полу рясы. Сноха Михеева, молодая тогда еще, Ксюшка, хвать его за руку и говорит: «Оставь, батюшка. Погляди, сколько их, ртов-то!», а сама кивает на ребят. «Служитель бога, а тоже свинья», – как теперь помню слова Тани Вилялы. И что ж? Проняло, видать. Краюху ту из-под рясы вынул, обратно на стол положил. Вместо хлеба схватил недопитую бутылку самогона – и был таков. После этого недолго он у нас служил. Год, а может, и того меньше. За все время, как он у нас в Липягах пробыл, ни разу в баню не сходил. Служит, бывало, сказывали бабы, потом на самом важном месте службы замолкнет и стоит. Стоит, а сам руку запустит за пазуху, поскребет-поскребет там, достанет, посмотрит, что вытащил… «Что за дьявольщина», – скажет. И бросит с амвона прямо в баб…
– Чего бросит? – не поняв, переспросил я.
– Известное дело: вошь… – с ухмылкой пояснила мать.
Авдакея громыхнула блюдцем и недовольно сказала:
– За столом-то несешь ты такое, Палага! Тьфу!
Мать, словно радуясь тому, что рассердила старшую сестру, не спеша жевала размокший сухарь и с улыбкой поглядывала на Авдакею.
– Нет его, бога, – сказала она, вздохнув. – Небось был бы, не то было б…
– Господь наш долготерпелив… – нараспев говорила тетушка. – Ох, долготерпелив он! И все людям простить готов. Придет час расплаты, вспомним мы о нем… да поздно будет!
– У одних, может, час этот и будет. Кто воровал, кто жизнь сладко прожил. А нам чего ж этого часа бояться? Вся жизнь – расплата.
Голос матери дрогнул. Она, видно, чего-то недоговаривала. Однако Авдакея не отозвалась. Сестры помолчали. Я заметил, что мать с трудом сдерживает волнение. Сначала это волнение мне было непонятно. Только теперь, когда она сказала: «Вся жизнь – расплата!» – я понял, давнишний этот спор меж сестер! И спор этот – не столько о боге, сколько о жизни…
VII
…Их было три сестры: Авдакея – старшая, Палага, мать наша, – средняя и еще одна, младшая, – Варвара.
Три сестры – три судьбы.
Авдакею просватали в семью Терентия Межова за старшего сына – Ивана.
Терентий Межов в то время был главным воротилой на селе. Три ветряка у него на паже стояло; крупорушка своя. Баловался он и лучком – сам, избави бог, не сажал, а скупал урожай у мужиков и торговал луком на ярмарках.
Терентий жил на селе, возле «круга». Женив старшего сына, отделил его. Отказал Ивану ветряк, корову, помог выстроить дом.
На задах Вылетовки, у самой Липяговки, был заболоченный лужок. Иван купил его у «обчества». За бесценок болотце взял. Нанял Иван грабарей на лето. Те канаву поперек лужка до самой речки выкопали. А заодно, когда рыли канаву, торфом всю поляну заставили; копани для полоскания белья и колодец отрыли. Сошла вода с болотца – мужики и схватились за головы: нет краше уголка в Липягах, чем этот лужок! Высоко над рекой, вода и торф рядом…
Поставил Иван кирпичный дом, сад разбил вокруг. Вдоль забора чубуков тополиных стеной натыкал.
И как пошло все у Ивана Межова словно на дрожжах подходить да подниматься! Постава он на своем старом ветряке сменил, просорушку пристроил; не хуже самого Терентия дела повел. Сад на пятый год стал плодоносить. Тополя на этой благодатной земле выше «князя» вымахали и укрыли от глаз людских межовское именье: и дом, и амбары, и пасеку.
Так же, как и тополя, быстро и пышно расцвела и Дуся, Евдокия Ильинична. Раздобрела, располнела. Дети пошли. Нарядит она их и разгуливает с ними на поляночке.
Не было такой молодухи в Липягах, которая втайне не завидовала бы Авдакее.
Завидовала ей и мать. Не знаю в точности, но думаю, что завидовала, вернее, как говорят у нас, «болело у нее ретивое». И как не болеть?!
Выдали мать восемнадцатилетней в большую бедную семью. Встань-ка чуть свет, воды принеси, да у печки все утро постой, да свекрови угоди во всем. У матери двое детей было, когда война началась. Отца забрали в солдаты.
Война. Революция. Снова война…
И ни одна «планида» без нашего отца не обходилась. Он поспевал всюду – такой у него был норов. Иные, взять хоть того же крестного моего, Авданю, повоевали немного – а шут с ним, с царем-батюшкой! Штыки в землю – да в плен к австриякам.
А наш четыре года в окопах вшей кормил, потом, когда свершилась революция, за Лениным пошел – коль он землю крестьянам обещал и жизнь иную. Считай, и в гражданскую тоже три года дома не был. Пять ранений да две сыпные тифозные горячки перенес. Легко ли?
Но и это бы все ничего. Повоевал – да хоть бы и успокоился. Ан нет! Года дома не пожил – кликнули его на реконструкцию. И на реконструкцию пошел. Тоже не слаще фронта. В Кашире станцию строил – в бетонщиках числился. Осень по колено в воде стоял, от ревматизма потом всю жизнь мучился. В Кашире – станцию; в Воскресенске химию организовывал; платки бабьи руками набивал – чем только не занимался. А как в колхоз взошли, так он в эту самую бригадирскую прорву запрягся и уж до самого конца из упряжки не выпрягался.
Ему-то что! Отец ко всякому делу с охотой да с усмешечкой. Все на материном горбу сказывалось. В отход ходил – приедет на побывку, не успеешь с ним душу отвести, слезы выплакать, а он уж снова на год укатил. А в бригадирах ходил, так оно хуже отхода.
Потому и завидовала мать Авдакее. Никому она об этом не говорила, но я догадываюсь. Давно, с детства. Помню, в детстве я недоумевал: почему это мать не любит ходить к Межовым? Даже если звали ее на крестины, на престольные праздники, и то она отказывалась. Даже в голодные годы, когда мы терли редьку в хлеб… И лишь в самую крайнюю нужду, когда ни фунта муки не оставалось в доме, мать надевала праздничную поневу, клетчатую кофту и отправлялась на село, к Авдакее.
Возвращалась под вечер – молчаливая, скорбная. Мешочек с мукой выложит на стол, внесет дежу и…
И повеселеет: завтра будет детям хлеб.
VIII
Не любила мать ходить к Межовым.
Чаще она посылала к ним нас, ребят. Перед каким-нибудь праздником, обычно перед спасом, мать говорит:
«Сбегал бы ты, Андрейка, к Авдакее. Может, яблочек принес бы…»
Я отправляюсь к тетушке. Живет она на противоположном конце села. Надо пройти весь Большой порядок, спуститься возле Змейки к пруду, миновать «круг»… Вот и межовский дом. Его не сразу разглядишь со стороны. На взгорке купой стоят тополя. Входишь в их тень, и охватывает тебя прохлада. За плетневым забором вдоль улицы стоят амбары. Бревенчатые, под железом. Амбары все на высоких дубовых сваях: видно, хозяева боялись, как бы хлеб в закромах не отсырел из-за низкого места. Под амбарами, распушась, купаются куры. На лай собаки из дому выходит сама Авдакея.
– О, соколик! Как же ты дорогу-то один отыскал? Не бойся, проходи…
В кирпичном доме Межовых сумеречно. От яркого уличного света глаза не сразу привыкают к полумраку. Наконец, оглядишься. Знаю, как заученный урок, с чего надо начать, чтобы задобрить Тетушку. Поворачиваюсь лицом к двери и киваю головой, будто крещусь. Весь вышний угол в доме Межовых увешан дорогими иконами. Перед образами светится лампада. Не такая, как у нас. У нас лампада крохотная, в виде непроливающейся чернильницы, а у них – словно кадильница попова, на бронзовых цепочках висит.
В свете лампады замечаю, что за столом сидит тетя Варя – младшая сестра матери. Почти каждый раз, когда я прихожу к Межовым, я застаю Варвару у них. Я здороваюсь с нею. Тетя Варя не очень ласкова. Наверное, опять что-нибудь стряслось с Михейчиком, ее мужиком. Он у нее чудной какой-то. Маленький, неказистый; ни надела не имел, ни лошади. Промышлял бог весть чем. Правда, говорун, заливала был – похлеще Авдани.
Только и разговору у него про то, каким путем можно разбогатеть. На словах Михейчик знал, как нажить богатство, а на деле у него никак не получалось. Жил он в низенькой, покосившейся избушке, у самого пруда. Заборчика возле мазанки не было. Того и гляди, она завалится в овраг.
То и дело Михейчик попадался на нечестных делах. Помню такой случай. Михейчик устроился возчиком в сельпо. Месяц-другой шикует наша тетушка Варвара. Платья себе новые покупает, гостей в дом зовет. Только – хоп! – в одно прекрасное утро является вся в слезах: Михейчика арестовали. Что же оказалось? Оказалось, что Михейчик наловчился разбавлять водку. Протыкал ли он шилом пробки или распечатывал их – кто ж знает. Но он ополовинивал посудины: откроет, отольет, разбавит водичкой, и все шито-крыто. Водичкой торговали в сельпо, а чистой водочкой – в шинке…
Может, и разбогател бы на этом Михейчик, да только махинация его с водкой продолжалась недолго: попался голубчик! Ну что ж, попался и попался. Не впервые небось ему. Отсидел – и, будто ни в чем не бывало, является гол как сокол. Варвара обегает всех родственников, поклянчит, поплачется – оденет, обует своего беспутного муженька, а через неделю, глядишь, он берется за новое «предприятие»…
Так и жила Варвара. Если она у Авдакеи – значит, Михейчик объявился. Или, может, написал, что ему деньги нужны. Значит, завтра и к нам придет Варя – денег просить. Такая уж ее доля горемычная.
…Сидит за столом Варвара; перед ней на тарелке еда какая-то и краюха густо замешанного, серого цвета ржаного хлеба. По всему видно: ей не до еды. Глаза у нее заплаканные. Авдакее тягостен разговор, который они вели. Поэтому она рада моему приходу. Тетушка зовет меня к столу, дает мне ломоть хлеба и пару помидоров. У нас помидоры будут не раньше, чем через месяц. А тут, в низах, уже созрели. Я мигом съедаю их без соли, ломоть хлеба прячу под подол рубахи.
Тетушка расспрашивает меня про мать, про то, что пишет отец. Удовлетворив свое любопытство, тетушка зовет меня в сенцы. Там, в углу, возле двери, выходящей в сад, стоит деревянный ларь. Авдакея приподнимает крышку ларя – и у меня кружится голова от запаха душистых спелых яблок. Тетушка, нагнувшись, перебирает руками яблоки.
– Али нет у тебя, Андрейка, мешочка-то?
Я отрицательно качаю головой. Как-то совестно являться со своей тарой в расчете на подачку.
– Ну, тогда подставляй подол рубахи, – продолжает Авдакея.
Рубаха у меня забрана в штаны, и там, за пазухой, краюха хлеба. Я снова трясу головой. Тогда тетушка идет в мазанку и через минуту является с белым платком. Я держу платок, а Авдакея бросает в него яблоки. На первый взгляд может показаться, что тетушка не очень-то приглядывается к тому, какие яблоки попадаются ей под руку. Но на самом деле это совсем не так. Едва покинув сенцы, я бегом спешу в проулок и в низинке, у колодца, сажусь на траву. Развязываю узелок и считаю яблоки. Их очень мало, и они все, как одно, битые, и в каждом две-три черные дырки от червей…
Придя домой, я отдаю узелок с падалицами матери и говорю:
– Это, мама, я съел. Их было много-много, но я не удержался и съел…
Мать все понимает. Она гладит меня по голове.
– Съел, ну и хорошо! Ничего, разговеться хватит.
Она прячет узелок на дно сундука, и мазанка долго-долго потом хранит яблочный запах – частицу запаха межовского ларя…
IX
– Али ты хуже мово прожила? – Авдакея уставилась на мать.
– Мне на свою жисть обижаться грех! – отозвалась мать. – Скольких детей народила и всех до дела довела.
– А чего ж тогда о какой-то расплате болтаешь?
– О такой: одни жили как у Христа за пазухой, а другие – хушь зубы клади на полку.
– Знать, богу мало молились, вот и жили так.
– Бог в нашей жизни ни при чем… Одни горбом с самого рождения кусок хлеба добывают, а другие…
Мать не договорила, она не хотела ссоры. Но Авдакея с полуслова поняла, о чем речь. Речь была о межовской хитрости. Когда в Липягах пошли разговоры о «коммунии», Иван, Авдакеин муж, побогаче отца своего, Терентия, был. Старик заартачился, против власти пошел; его быстро в Соловки упрятали. А Иван сразу смекнул, куда ветер подул. Обложили его «твердым заданием», а он в ноги мужикам:
– Мужики! Порадейте: не имею я от мельниц этих никакой корысти. Берите их задарма, – владейте! Мелите, блюдите их, мне ничего не надобно… – Он так ласков был, так равнодушен к собственности своей, что мужики, попросту говоря, растерялись. Зачем им мельница? Без Ивана разве они с нею управятся?
Тогда Межов предложил им сорганизовать что-то наподобие товарищества. Во главе его – комитет из бедняков, которые потемнее, понеграмотнее, но посговорчивее; а Иван у них вроде бы как за простого рабочего, за мельника. В соседних с Липягами селах мужики еще в революцию все ветряки посжигали, и теперь со всей округи – и из Борщевого, и из Делехова – к нам помольцы едут. Товариществу нашему мельничному честь и слава, а прибыль, гарнец достается Ивану.
А он-то пуще прежнего, пуще, чем для себя, старается. И ласковый такой – одному советом поможет, другому пудик муки одолжит. Ни в драках он ни в каких не замешан, ни водкой без нужды не баловался.
Дальше – больше: стали коммуну в колхоз превращать. Риги мужицкие все поломали – ни кола ни двора у артели. Куда скотину девать? У Межовых баз каменный, просторный. Водопой к тому же рядом. Ну, Иван и предложил, чтобы колхозную скотину к нему на двор поставили. Артельщики с радостью согласились. Иван ни к кому за помощью не пошел. Сам баз утеплил, стойла, кормушки поделал. Тут и свой скот, тут и колхозный. Девок своих ухаживать за скотиной поставил. Они и доярки, и скотницы, и телятницы. Отец у них – и за заведующего, и за фуражира. Возле дома похаживает да всем этим большим хозяйством распоряжается. Не удалось стать хозяином, так он и в артели не прочь поработать!
Председатели Иваном не нарадуются. Председателей часто меняют, а Межов как был при ферме, так и остается. Молоть теперь нечего; мельницы без присмотра ветром поободрало, как шелудивых кур. Но и без мельниц жить можно, особенно когда ладишь с председателем. Иван с ними умел ладить. У него и настоечка, и наливочка любая. К тому же он и обходителен. Никогда тебя пьяного за порог дома, на посмешище бабам, не выставит. Коль ты перепил, Иван тебя – раз! – в беседку, в садик; там, на ветерке, отсидишься, отлежишься и наутро как ни в чем не бывало: «Эй, бабы! Выходи на работу!»
Вот что имела в виду мать, когда говорила о том, кто и как свой хлеб зарабатывает.
Мы всей семьей – от старого до малого – в бригаде отцовской работали за его «палочки»; часто с костричкой хлеб ели, лишь бы животы чем-нибудь набить.
Михейчик ловчил-ловчил, да и попался, словили его горячие люди: суда не ожидая, поколотили. Отбили, видать, ему селезенку: почах-почах – да умер, оставив на руках Варвары пятерых детей.
А Иван Межов – тоже ведь вроде бы колхозник – жил, словно сыр в масле катался.
X
– Я не боюсь прогневить господа, – заговорила мать, помолчав. – Уж я ли его не молила?! Уж я ли его не просила?! Помню, родила Степана. Встала с постели – в доме щепотки муки нету. Он орет, я сиську ему сую, а в ней молоко, что ли? В ней – слезы мои…
– Господь бог терпел и нам велел! – отозвалась лениво тетушка. – Ох, много господь терпел! Больше нас, смертных. И не роптал. Надо меньше роптать, Палага. Больше надо любить бога.
– На бога я никогда не роптала… – Мать заулыбалась даже. – Если уж я и роптала, то лишь на одного мужа своего – бессребреника. Тот, бывало, знай свое: «Работать надо!» Украсть что-нибудь, выгоду какую-нибудь для себя сделать – избави боже! Вот я тут ребятам как-то рассказывала, как я в Данков поневы продавать ездила. Теперь и самой смешно вспоминать. А как тогда я бога твоего молила!
– Не ропщи! Не ропщи, Палага!
– А в войну, – продолжала мать, – сколько их, слез-то, пролила. Ведь их трое на фронте-то было! И сам тоже скотину в тыл погнал. Бывало, идут наши… отступают. А я смотрю на них: может, и мои вот так же где-нибудь… грязные, мокрые, голодные. Уж я ли не молила?! Услышал он меня? Ивана нет. Этот вот…
– Не ропщи, Палага. Не ропщи!..
– Оттого и разуверилась я. Ни разу, сколько ни просила его, не сделал он лучше… Еще налить? – мать кивнула на чайник.
– Спасибо! – Евдокия Ильинична опрокинула чашку и поверх, на донышко ее, положила оставшийся кусочек сахара. – Ну, мне пора! И так засиделась я у вас. Пошептаться бы нам, Палага… – Тетушка поморгала глазами, поглядывая искоса в мою сторону.
Я и раньше знал, что Авдакея пришла не ради чашки чаю.
Встал и ушел из кухни в комнату. Стол, за которым я работал, стоял в углу, у окна. Окно было открыто, но занавешено. Ветер надувал занавеску, края ее цеплялись за чернильный прибор.
Сев за стол, я отдернул занавеску. На пустыре, у мазанок, ребята гоняли мяч.
– Лоб! Пас!
– У-у, раззява… Бей!
Играли соседские ребятишки; я хорошо знал их клички и повадки. Азартные спортсмены – ничего не скажешь. Почти каждый матч заканчивается потасовкой. Видно, они недавно начали игру: ссор еще не было, даже ругались умеренно.
В те минуты, когда молодые футболисты затихали, до меня доносился разговор матери с тетушкой Авдакеей.
– Супротив их воли не пойду! – говорила мать. – Пусть сами решают.
– Али ты чужая им? Внук небось! – увещевала тетушка. – Им-то, как партейным, притесненье может быть. А тебе что ж…
– Кати, Лоб… Кати!..
И опять:
– Он был тут… С ним бы и говорила.
– Тш-ш… Я уж и с батюшкой уговорилась.
– У-у… Гол!
– Я позову Андрея. С ним и говори!
Слышу шаги матери по коридору, и через минуту голова ее, повязанная белым платком, просунулась в полуоткрытую дверь.
– Андрей… Выйди-ка… нужен.
Тетушка по-прежнему сидела за кухонным столом. Пухлые руки ее сложены были на коленях.
– Что ж, Андрюшка, – начала Авдакея, чуть-чуть гнусавя. – Сын-то так и будет расти нехристем?
– Или в крестные навязываешься, Евдокия Ильинична? – отозвался я шуткой.
– И-и, чего ж мне навязываться! Я их перекрестила – счету нет.
– Далеко к попу ехать.
– Зачем ехать? Разви сюда нельзя привесть!
– Не поедет в Липяги. Тут все отступники живут.
– Поедет, коль я попрошу.
– Нет, тетушка, пусть сын растет нехристем.
– Ну что ж, ты – отец. Тебе виднее. Мое дело вразумленье сделать.
– Спасибо.
– Не стоит! – Евдокия Ильинична грузно поднялась из-за стола, стала ко мне спиной, а лицом к рафаэлевской «Мадонне», подняла было руку, чтобы осенить себя крестом, и… рука ее застыла на полпути ко лбу.
– Нехристи все вы! Иной церкви предались! – сказала она брезгливо и пошла узеньким коридорчиком к выходу.
Мать, в точности повторяя движения тетушки, встала на ее место и, распушив свою черную юбку и кланяясь, стала осенять себя крестами.
– Пресвятая дева Мария… – шептала она. И лицо матери было и лукаво, и строго, как у мадонны.
Шепот ее услышала Авдакея. Она обернулась и, увидев молящуюся мать, в сердцах сплюнула.
Мать повернулась ко мне. Морщинистое лицо ее вдруг все просияло, и хотя на глазах были слезы, но, видно, сознание того, что ей удалось распечь невозмутимую сестрицу, настолько переполнило ее молодостью и азартом, что даже и сквозь слезы она улыбалась. Никогда я еще не видал мать столь счастливой – и за себя, и за нас…
Укутавшись в шаль, тетушка стояла возле порога. Мать подошла к вешалке и набросила на плечи кофту – становилось прохладно по вечерам.
– Попомни мои слова, Палага! Гореть тебе в огне адовом. Гореть!
– Не пужай! – отозвалась мать. – Не боюсь я никакого твоего адова огня. Это кто за тополями всю жизнь прожил, тот боится его. А мне-то чего ж… Небось хуже не будет.