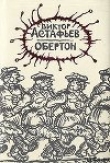Текст книги "Старая скворечня (сборник)"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
3
Родной матери и то, пожалуй, наскучат подобные сцепы, а чужому-то человеку – подавно. Уж сколько раз Семен Семенович, ложась спать после очередного скандала у Зазыкиных, говорил сам себе: «Все, хватит! Последнее лето я снимаю дачу у них. Нет никакого терпения. Надо искать другой угол». Но, решая так в пылу, Тутаев со временем, как говорится, отходил. Вот уже седьмое лето он проводит в Епихине и снимает себе дачу непременно у тети Поли. И ничего странного в этом нет – все дело в привязанности. В привязанности к самой хозяйке: Пелагея Ивановна хоть и словоохотлива не в меру, но незлобива и чистоплотна. У нее всегда прибрано в избе; она и по хозяйству жене поможет – и постирает, и обед приготовит, и хлеба из лавки принесет.
Однако сильнее привязанности к людям была привязанность к месту: к этому чудесному уголку, который на старости лет стал для Тутаева второй родиной.
Семен Семенович родился в большом торговом селе Глинищи, что вблизи Бобрик-Донского. И хотя не принято говорить плохое о родных местах, но скучнее места выдумать трудно. Балки да овраги, ни леса путевого, ни речки: голая степь и соломенные крыши изб. Тутаев, правда, давно уехал из родной деревни – лет этак сорок тому назад. За эти годы он многое повидал: служил на Дальнем Востоке, мотался по стране с геологическими партиями, но красивее, привольнее места, чем Епихино, ему не приходилось встречать.
К сожалению, открытие этого места не принадлежит Тутаеву. Однажды Семен Семенович случайно разговорился с почтальоншей, носившей почту в их московскую квартиру. Это была уже немолодая, но на редкость подобранная и быстрая на ногу женщина. Ее звали Марией Михайловной. Она носила им почту давно, лет десять, с того дня, как только они получили новую квартиру, и Тутаев знал ее хорошо.
Как-то почтальонша принесла заказную бандероль. Семен Семенович расписался в регистрационной книге, взял присланную кем-то из сослуживцев бандероль и, желая хоть добрым словом отблагодарить женщину, сказал ей комплимент: мол, Мария Михайловна, вы так хорошо выглядите – загорели, знать, только с юга!
– Ну что вы?! – удивилась она. – Было время – ездила. А теперь врачи запрещают мне ездить на юг. Я сердечница.
– Сердечница?! Вот никогда бы не подумал. У вас такой цветущий вид.
– Это у меня профессиональное. Сколько их, этажей-то, за день облетаешь! А лифты-то не в каждом доме. Вот хотя бы к вам: поднялась на четвертый этаж, и уж сердце так стучит, так стучит – ходуном ходит.
Слова ее прозвучали укором Тутаеву: вот какие вы нехорошие люди – живете на четвертом этаже, без лифта, а позволяете себе такую роскошь, как получение заказной корреспонденции! Тутаев смутился от этого укора. Чтобы как-то сгладить свое смущение, он предложил почтальонше отдохнуть, выпить чаю.
– Мы завтракаем, – сказал он, – зайдите, посидите с нами.
Почтальонша согласилась.
Тутаев провел ее на кухню.
Мария Михайловна сняла с плеча потертую дерматиновую сумку и поставила в углу, возле холодильника. Анна Павловна, жена Тутаева, налила чаю и стала потчевать ее вареньем. Но почтальонша от варенья отказалась.
– Ой, не надо! – сказала она, отодвигая от себя розетку. – У меня от этого варенья оскомина во рту. Нынешнее лето жаркое. Ягод много. Я одного земляничного уже три ведра наварила.
– Три ведра?! – удивилась Аннушка – собирать ягоды и грибы было ее слабостью.
Само собой понятно, что, услыхав про такое обилие ягод, Аннушка не могла успокоиться, пока не выведала у почтальонши все до тонкости: где такие ягодные места? Далеко ли от Москвы? Да как туда добраться?
– Раньше, – объяснила Анна Павловна почтальонше, – мы все по санаториям ездили. А в будущем году Семен Семенч должен выйти на пенсию. Ребята выросли, своими семьями обзавелись. Мы теперь с городом, можно сказать, ничем не связаны. Можем хоть круглый год жить в деревне. Только место чтоб хорошее было.
Попивая чай, почтальонша рассказывала. Этой весной, признавалась Мария Михайловна, у нее совсем плохо стало с сердцем. Врачи советовали ехать в кардиологический санаторий. А она взяла отпуск да отправилась в деревню, к матери.
– Выйдешь утром на крылечко, вдохнешь раз-другой – всякие там сосуды сами, без лекарств расширяются, – хвасталась почтальонша. – Ну, а если в лес пойдешь, то и подавно. Ромашки у нас растут – Христом-богом клянусь – больше вот этого блюдца! А ягоды пойдут – можно озолотиться.
– Сеня, запиши адрес! – попросила Аннушка.
Под указку жены Тутаев записал все: и название деревни, и как лучше проехать, и что лучше спрашивать не дом Зазыкиных, а просто – где тут у вас тетя Поля живет?
Ранней весной, через год после этого разговора, сотрудники главка проводили Семена Семеновича на пенсию. Вручили они ему на память адрес в дешевой полиэтиленовой папке; в адресе всячески превозносилась его, Тутаева, работа. Прочитав бумагу, можно было подумать, что не будь инженера Тутаева, страна наша и по сей день прозябала бы без необходимых ей полезных ископаемых. Но Тутаев хоть и был инженером-геологом, но давно уже не ездил в экспедиции, а большую часть жизни просидел в главке. А потому, вернувшись с вечера, Семен Семенович не показал адрес даже Аннушке. Спрятал его в шкафу – и на том крышка!
Остался Тутаев не у дел. Он мучительно переживал свое безделье. Даже в домино пробовал играть с другими пенсионерами, которые с утра собираются во дворе дома, в скверике, и забивают весь день «козла». Но от бездумного стучания косточками становилось еще горше на душе.
Аннушка видела, что муж не находит себе места. В мае, как только установилась теплая погода, жена уговорила его съездить в ту самую калужскую деревню, о которой рассказывала им почтальонша.
Тутаев собрался и поехал. Ехал он туда без особой охоты. Уж сколько раз Семену Семеновичу доводилось ездить по всяким таким злачным местам! Прослышит Аннушка, что там-то, сказывают, грибов или ягод много. Едет Семен Семенович – а там этих ягод или грибов и в помине нет. Лес не то что утоптан, а попросту укатан ногами тысяч ягодников или грибников. Под каждым кустом – пустые бутылки да ржавые консервные банки.
Без особой охоты, но поехал. Тутаев давно уже никуда не ездил, и дорога показалась ему утомительной. В электричке было душно; потом целый час пришлось трястись в автобусе, битком набитом народом. А уж когда он, доехав до Полян, крохотного районного городка, поплелся проселком – совсем упал духом. «Черт бы побрал этих баб! – подумал Семен Семенович. – Наговорят, натреплют. Протаскался вот весь день понапрасну».
Но вот Тутаев поднялся на взгорок.
Остановился.
Перед ним лежала деревенька. Десятка полтора изб одним рядком, вразнобой, разбросаны вдоль горбатого увала. Возле изб – низенькие котухи и сараюшки, крытые соломой; покосившиеся плетни и заборы. Почти вплотную к заборам подступали озими, уже начавшие выходить в трубку. Справа от дороги, на отшибе, виднелся большой, скособочившийся сарай – ферма. По пустырю бродили коровы.
Сразу же за фермой дорога свернула в проулок. По обе стороны его росли старые ракиты. Их кроны почти смыкались над головой; в проулке было тенисто и прохладно.
Сторонкой, мимо покосившихся плетней Тутаев шел проулком, приглядываясь к незнакомой деревеньке.
4
Он и теперь шел этим же проулком, и воспоминания о том дне, когда все это впервые предстало перед глазами, невольно преследовали его.
Был яркий майский день. Цвели ракиты; медово-приторно пахли свисавшие с их гибких побегов сережки, жужжали над головой пчелы. Приглядываясь, Семен Семенович вышел тогда на деревенскую улицу. Перед ним, загораживая проулок, стоял низкий кирпичный дом. Дом был старый, просторный; он походил на церковную сторожку: ни деревца, ни крылечка перед входом. Своды над окнами потрескались, труба наклонилась, скособочилась. Однако, несмотря на ветхость, дом был совсем недавно побелен, и это придавало ему опрятный и веселый вид.
Тогда Семен Семенович с удивлением глядел на это странное жилище.
Теперь он знал, что это «белый дом». В Америке, в столице ее Вашингтоне, есть Белый дом, где живет и работает президент, ну и в Епихине тоже. Тоже есть свой «белый дом». Вся разница только в том, что обитатели вашингтонского Белого дома время от времени меняются, а в епихинском «белом доме» бессменно почти столетие жила Аграфена Денисова.
Теперь Семен Семенович улыбнулся находчивости и остроумию епихинцев, а тогда он с недоумением оглядел это странное жилище и свернул влево. Сразу же за углом «белого дома» дорога круто сворачивала вниз. Опасаясь свалиться с обрыва, Тутаев прошел улочкой к одинокой мазанке. У самой мазанки, в тенечке, виднелась скамейка. Он подошел к ней, остановился, глянул с обрыва.
Внизу, куда круто сворачивала дорога, поблескивала речка. Она шумно бежала по каменным перекатам, серебрилась и слепила глаза быстрыми струями. За рекой ярусами – все выше и выше, до самого поднебесья, – высился лес.
Тутаев остановился на краю обрыва пораженный. Такого радостного удивления и восторга перед царством природы он не испытывал за всю свою жизнь.
Глинищи, его родное село, жалось к покатым берегам оврага. Ни речки, ни лесочка вокруг. Сколько раз мечталось – особенно в последние годы – пожить вот так, на воле, чтоб непременно были река и лес, чтоб можно было встать ранним утром и босиком по мокрому от росы лугу спуститься к реке, заросшей водяными лилиями; умыть лицо в холодной воде, постоять, наблюдая за тем, как ходят по песчаному дну стайки шустрых пескарей…
И, видимо, потому, что долго мечталось об этом, вид, открывшийся Тутаеву, так поразил его. Тут было все: и замечательная речка с перекатами и омутами, заросшими водяными лилиями, и лес, и тишина.
Окна изб обращены были к речке, смотрели на эту красоту. Перед избами – не выбитая, не исполосованная шинами грузовиков, а лишь слегка примятая босыми ногами ребятишек мурава.
Улица протянулась вдоль всего обрыва. А за обрывом, к речке, – косогор.
Слева от «белого дома» косогор был круче. Тут он почти отвесно спускался к самой воде. Как где-нибудь в ущелье, меж сопок. Посреди обрыва торчали каменные глыбы, поросшие мхом, и росли дубы, кроны которых чернели в пропасти. Справа река отступала, и косогор, повторяя ее капризный изгиб, вытягивался дугой к лесу. Поэтому в той стороне скат был пологим. И этот пологий скат к реке – нетронутый, как альпийский луг, – весь был усыпан цветами. Сверху, с косогора, цветы эти, росшие кучно, всполохами, были похожи на пятна мозаики, причудливо разбросанные по зеленому фону луга.
В зависимости от времени года пятна эти меняли свою окраску. В середине мая, когда Тутаев увидел косогор впервые, по ярко-зеленому ковру его, полого спускавшемуся до самой реки, желтели козелики. Видимо, в недалеком прошлом весь косогор этот был покрыт лесом, и лесные цветы не успели еще перевестись. На солнцепеке, на бугристых увалах, ранее других мест освободившихся от снега, козелики росли жирные, стеблистые, с крупными цветами-колокольчиками.
Медово-приторный аромат цветов при каждом дуновении ветра ощущался и здесь, наверху.
Но вот прошла неделя-другая, не успели еще отцвести и завянуть козелики, как весь луг дружно покрывается одуванчиками. В полдень глянешь на косогор – весь он словно золотом горит-переливается. И река вся внизу тоже пламенеет. До самого позднего лета над деревней носится пух отцветающих одуванчиков. Белыми пушинками облеплены жердочки заборов, стены мазанок, ветер заносит их в подойники, когда бабы доят в лугах коров.
В жару весь косогор пестрит фиолетовыми размывами. Это цветут липучки. Жирные, стеблистые, словно иван-чай где-нибудь в пригретых солнцем забайкальских распадках, побеги липучек достигают метровой высоты. Фиолетово-матовые цветы их особенно хороши в знойный, яркий день, когда, слегка утомленные солнцем, они опускают к земле свои цветы, а ветер шевелит ими, наклоняя то в одну, то в другую сторону – и тогда при каждом дуновении его меняется окраска косогора. Порыв – и вся луговина становится розовой; еще одно движение ветра – и косогор кажется фиолетовым.
Фиолетовые пятна липучек, а рядом с ними – россыпь белых и розовых кашек; а еще ниже, у самой реки – заросли медуницы.
Еще цветут липучки, еще не высох мышиный горошек с его нежно-голубыми глазками, а косогор уже снова меняет свой наряд. Выйдешь в одно прекрасное утро к мазанке, глянешь – вокруг белым-бело.
Это зацвела ромашка.
Ромашка любит солнце. Вечером цветов ее не видно. Вечером склон луга спокойно зелен и даже скучен: мычит бычок, пасущийся посреди косогора; белеет стая гусей, идущая с реки домой; наизволок от брода поднимается баба с коромыслом на плече – ведра с водой покачиваются в такт ее шагам.
Вечером краски гаснут.
Но вот наступает утро – и откуда что взялось! Весь косогор – это тысяча тысяч ромашковых солнц, и все они обращены к одному-единственному солнцу, которое спокойно и величаво выплывает из-за кромки леса. Утром за всполохом ромашек не видно ни пасущегося теленка, ни гусей. Белое море опрокинулось в речку – и Быстрица тоже кажется белой; лишь кудрявые ветлы, нависшие над водой, зеленой каймой обрамляют реку, и потому сверху, с косогора, речка кажется похожей на разноцветный кушак, который ткали в старину бабы в родном тутаевском селе.
За рекой – снова луг и снова ромашковая бель; но там, за Быстрицей, она не такая буйная, как на косогоре. Там лес подступает почти вплотную к реке, и цветы растут лишь на отдельных увалах.
Противоположный берег реки крут, овражист. Овраги поросли лесом. Деревья взбираются все выше и выше, закрывая полнеба. Причем с каждой новой ступенью – новая порода деревьев. Первыми, обрамляя прибрежную пойму, стоят дубы; черные стволы их почти не видны из-за зелени курчавых крон. За дубами – березы. А еще выше – сосны.
Своими мохнатыми кронами сосны, как атланты, подпирают небо.
Лес и лес. За рекой ему нет ни конца ни края. Расщелины оврагов поросли орешником и дикой малиной. Летом пригретые солнцем лесные поляны усыпаны земляникой; осенью среди белоствольных берез рдеют тяжелые гроздья рябины. Огромные стаи клестов и зябликов с утра до вечера носятся над лесом.
5
Уголок этот – истинное буйство природы. Трудно поверить, что сохранились еще такие уголки в наш-то век!
Тутаев каждое лето приезжал в Епихино и очень привязался ко всему, что окружало его в деревне. Семен Семенович не может даже себе представить, как это он жил раньше, не зная тети Поли, Мити, Гали, реки Быстрицы и вот этих далей, открывающихся с косогора.
В первое же лето Семен Семенович на месте шаткой скамеечки, откуда он в мае любовался Быстрицей, смастерил себе новую скамью, побольше прежней и со спинкой. По вечерам он любил сиживать тут, в затишке хозяйской мазанки. Он буквально впитывал в себя багрянец заката, звуки деревенской улицы, благовест лесов.
Зимой в Москве Тутаев только и жил мечтой о том времени, когда он снова увидит Епихин хутор, Быстрицу и всю эту волнующую красоту. Когда по ночам его начинает мучить бессонница, Семен Семенович не спешит глотать снотворное. Он начинает перебирать в своей памяти пережитое. И почему-то в такие минуты ему вспоминаются не друзья по военной службе, не товарищи по главку, а вот этот епихинский косогор.
Стоило Семену Семеновичу подумать об этом косогоре, как в памяти явственно вставал знакомый и такой милый пейзаж: вот луг, расцвеченный мозаикой цветов; вот, растекаясь по камушкам, шумит Быстрица; вот лес, террасами поднимающийся до самого горизонта. И едва он вспоминал это, как сразу же наступало успокоение. Обычный круг забот: болезнь жены, неудачное замужество дочери, невозможность купить то-то и то-то – круг этих обычных житейских забот разрывался воспоминаниями о епихинском приволье, и Семен Семенович быстро засыпал. А проснувшись, начинал перебирать в памяти: что же было хорошего вчера, когда он засыпал? И снова вспоминал Епихин хутор, и, повеселевший, бодрый, вставал, помогал Аннушке на кухне, и вместе, за завтраком, они считали дни, оставшиеся до весны, когда снова погрузят свои пожитки в «пикап», предоставляемый по старой памяти главком, и поедут в деревню, к тете Поле.
При всяких неприятностях, при первых же признаках раздражения Тутаев стремился уйти от людей. Чаще всего в такие минуты он спешил сюда, в затишек мазанки.
Так и теперь, после разговора с Митей расстроенный Тутаев заспешил к косогору.
И пока шел, все думал о Митьке, о превратностях человеческой жизни.
В ту пору, когда Тутаев впервые поселился у тети Поли, Митя был еще подростком. Однако он уже не учился в школе, а работал на ферме возчиком. Митя выглядел взрослее своих пятнадцати лет; он курил, ездил на велосипеде в Поляны – за водкой отцу, а если подносили – выпивал вместе со взрослыми, за компанию.
Женился Митька рано. Жена попалась из городских, строптивая. Галя не хотела жить в одной избе вместе со стариками. Тогда Зазыкины решили сделать прируб. Колхоз выделил им лесу в своей делянке; Митька сам напилил, ошкурил бревна, и за лето вдвоем с отцом пристроили к старой избе новую половину. Сруб поставили высоко, на каменный фундамент; крышу покрыли оцинкованным железом – не изба, а боярские хоромы.
Земельный участок поделили пополам, поскольку едоков было поровну; Михайла выделил сыну пару овец, поросенка, и стал Митя жить самостоятельно.
Пелагея Ивановна была всем этим очень довольна. И то – было чем гордиться: зазыкинский дом стал самым видным в Епихине. У всех избы и дворы приходят в ветхость, никто дыры в крыше заделать не хочет, а ее Михайла не только содержит в порядке старую избу, но вот и новую половину прирубил, для младшего. Теперь – слава богу! – дети все устроены.
Да и к самим на старости лет пришел достаток. На дворе повернуться негде от всякой живности: корова, подтелок, свинья, овцы, куры да разные там индейки.
– И-и, теперича жить можно! – хвасталась тетя Поля перед соседскими бабами. – Мы со стариком – сами по себе, Митька с молодой – сам по себе. Женушка досталась сыну умная да работящая. Все по-городскому у них. Диван купили, шифоньер, горку для посуды. Приберет, начистит все – ажник блеск идет! А потом сядет на диван и книжки читает. Вслух, бабоньки! А Митька, значит, сидит у ее ног, слушает. Так вот и живут. Ну, все равно как голубки.
Может, какое-то время молодые и жили так, как рассказывала тетя Поля, но счастье было непродолжительным.
Вскоре у молодых родилась дочка. Жить бы им да поживать да, как это в присказке русской говорится, добра наживать! Однако тут же, на первом году их совместной жизни, выяснилось, что Митька добра наживать не умеет.
А умеет только транжирить. Овец он той же осенью зарезал и распродал на рынке. Купил коляску, одеяльце для маленькой, а остальные деньги пропил. И все, что в колхозе зарабатывал, тоже пропивал вместе со своими дружками. Каждый день он являлся домой пьяным. Гали нет – несмотря на то что у нее появился ребенок, она не забросила ни школы, ни работы. Утром, убегая чуть свет на молокозавод, она забирала с собой малышку, относила ее в ясли, с работы спешила в школу, потом – снова в ясли.
Домой возвращалась поздно. А тут – пьяный муж.
– A-а, ученой хочешь быть! – подступал к ней Митька. – Выучишься, небось бросишь.
Галя пыталась уговорить, урезонить его. Не помогло. Она обиделась, ушла однажды утром – и не вернулась. Осталась в Полянах, у матери. Без жены Митька совсем опустился. Гале стало жаль его, а может, и на самом деле она его любила. Поверив его обещанию – не пить более, она вернулась.
С тех пор и продолжается этакая вот карусель: Митька пьет, сбывая все, что зарабатывает сам, что приносит Галя. Когда бывает совсем худо и у Митьки наступает полное безденежье, тогда он, как сегодня утром, идет к Тутаеву и просит взаймы трешку. Семен Семенович дает, хотя хорошо знает, что Митька отдавать долги не любит. Правда, несмотря на то, что Митька пьяница и грубиян, где-то внутри, в глубине души, он человек совестливый. Всякий раз, прося взаймы, он называет сумму своего долга не в рублях, а в ведрах воды.
Епихино, конечно, райский уголок: однако в деревне, расположенной на высокой гряде, нет воды. Воду бабы носят с реки.
Тутаев не подумал об этом, когда снимал дачу. В первый же день, когда они приехали сюда, жена попросила его сбегать за водой. Он взял ведра и пошел. Под горку-то быстро сбежал, а пока поднимался с двумя ведрами в гору, думал, что вот-вот, посреди косогора, богу душу отдаст. Так у него колотилось сердце.
Тутаев стал расспрашивать колхозниц: мол, а как же вы-то, бабы, обходитесь с водой? Что ж, и на ферме коровам доярки из реки воду носят?
– Нет, – сказали бабы. – На ферму в бочках возят.
– Почему же вам, ну хоть тем же старухам, не возить воду?
– А вы, Семен Семеныч, сходите в правление, поговорите с Шустовым, нашим председателем.
Тутаев чуток ко всяким таким просьбам. В главке его постоянно избирали в партбюро. Для себя он не стал бы хлопотать, но для людей – пожалуйста! Облюбовал он день и пошел в Лужки. Правление колхоза Тутаев нашел без труда. Дом новый, просторный. Попал он в обеденный час. На крылечке правления толпился народ. Какой-то крупный мужик в белой рубахе с засученными выше локтя рукавами что-то горячо объяснял механизаторам, окружившим его со всех сторон.
Улучив минуту, Семен Семенович спросил о председателе: у себя ли он?
– Я Шустов! – сказал человек с засученными рукавами. – Что вы хотели?
Тутаев объяснил: кто он и по какому вопросу пришел. Семену Семеновичу надо было бы зазвать председателя в кабинет и поговорить с ним наедине. Но он не знал тогда характера председателя. Думал, что Шустов с одного слова поймет – только намекнуть бы ему. Ан нет! Председатель перед всеми высмеял его.
– A-а, похлопотать пришел! – Шустов улыбнулся; и без того его маленькие глазки сузились, заблестели. – Чтобы я для вас, дачников, водопровод сделал.
Тутаев стал оправдываться; стал говорить, что за баб хлопочет. На ферму, мол, возите воду, а почему же нельзя развозить воду и по домам?
– Я им плачу по три рубля на трудодень, – сказал Шустов. – Пусть скинутся, наймут возчика. Я не против.
Так и вернулся Тутаев ни с чем. Подумал-подумал и решил нанять Митьку. Митька берет недорого: полтинник за два ведра. Обычно на день им с женой хватает двух ведер. Но когда пойдут грибы или ягоды, то и шести ведер бывает мало. Сбегал Митька три раза вверх да вниз – вот ему и четвертинка! А разве он одним Тутаевым воду носит? В деревне летом полно дачников, а мужиков сильных, вроде Мити, раз-два – и обчелся! А если они и есть – хоть тот же Игнат Тележников, бригадир, – он воду вам носить не будет.
Митька – парень простой, компанейский, к тому же любит выпить, – вот он и носит. И не только дачникам. Он не прочь услужить и бабам-солдаткам, и одиноким старухам, дети которых не захотели жить в деревне, а, как все братья и сестры Митькины, уехали в город. Да что старухам! – даже матери родной Митька носит воду за деньги.
Последнее время шустрая и резвая на ноги тетя Поля все чаще и чаще недомогает. Вернувшись с колхозной работы, она валится на лавку и, кряхтя, жалуется:
– Ох! Корова не поена, а сил за водой идти нет. Митя, сбегай, дорогой: небось оплачу потом.
Митька берет ведра и бежит за водой. И хотя корова у них на паях, одна на две семьи, Митя, принеся два ведра, делает зарубку на балясине крыльца. Это значит, что мать должна ему полтинник.
Ничего, что у нее теперь денег нет: осенью продаст овец, расквитается.