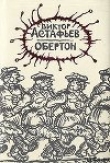Текст книги "Старая скворечня (сборник)"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
18
Об этих трудных военных годах Иван Антонович не любил вспоминать – и про свою жизнь, и про то, как жила без него Лена. Все очень нескладно началось. Нескладно оттого, что он, попросту говоря, растерялся. Все, конечно, малость подрастерялись, но Иван Антонович особенно. Растерянность его проявилась в том, что он, бывший в последние годы постоянным и верным спутником Льва Аркадьевича Мезенцева, вращавшийся вокруг него, как наша грешная Земля вокруг Солнца, неожиданно оторвался, вышел из орбиты и… полетел в эту грохочущую, все пожирающую на своем пути прорву.
Немецкие танки уже громыхали по дорогам Смоленщины, а Иван Антонович и другие инженеры института все еще сидели за своими столами и чертежными досками. Высокие окна старинного особняка были заклеены крест-накрест полосками бумаги, а с наступлением сумерек задраивались плотными шторами, сшитыми из ненужных архивных чертежей. В гулком зале иногда слышалось тявканье зениток, расположенных поблизости, в бывшем Елизаветинском парке, и глухие разрывы бомб. Даже по тревоге не всегда уходили в подвал, в убежище – так они спешили со сдачей рабочих чертежей Рыбинской ГЭС. Правда, два раза в неделю, по вечерам, их выводили во двор, выстраивали повзводно, учили маршировать или раздавали винтовки с просверленными казенниками: они кололи манекены, ползали по-пластунски, бросали гранаты. Занимались все, кто записался в народное ополчение.
И уж октябрь был, и уж шли разговоры о предстоящей эвакуации, как вдруг однажды утром всех ополченцев собрали во дворе, выстроили, проверили по спискам; откуда-то появились военные и машины, и в кузовах грузовиков были лопаты – новые, с белыми березовыми черенками; каждый взвод по команде подходил к грузовику, и ополченцы брали лопаты и снова становились в строй. Что-то почудилось тревожное Ивану Антоновичу в той деловитости, с которой военные делали свое дело; и, сказав взводному, что ему надо отлучиться в уборную, Иван Антонович оставил в гардеробе лопату, а сам – бегом-бегом наверх, к Мезенцеву. Льва Аркадьевича у себя не оказалось; секретарша сказала, что его срочно вызвали в горком партии. Что делать? Иван Антонович постоял в нерешительности и нехотя побрел вниз. Двери кабинетов были распахнуты. По коридорам бегали встревоженные люди. Всюду валялись обрывки газет и легкой прозрачной кальки. Творилось что-то несусветное. Девушки из копировальни, подруги Лены, с рулонами чертежей пробежали мимо и даже не поздоровались с Иваном Антоновичем. На четвертом этаже, где находилось хранилище, какие-то люди в шинелях, но без ремней пытались втолкнуть в лифт массивный железный ящик. Сейф не входил; люди матерились и кричали друг на друга. Проходя мимо, Иван Антонович услыхал голос Векшина: «Прекратить разговоры! А ну, давайте попробуем повернуть другой стороной…» Обрадованный, Иван Антонович метнулся к нему: «Федя, что случилось?» Сказал – и попятился от неожиданности: его институтский друг Федя Векшин стоял перед ним, одетый в новенькое военное обмундирование, в черных петлицах у него алела «шпала».
Векшин отвел Ивана Антоновича в сторонку, сказал тихо, доверительно: «Получен приказ об эвакуации. Понимаешь, пока дали только пять вагонов. Вывозим документацию и кое-что из оборудования». – «А как же я?»– Иван Антонович хотел произнести это спокойно, с достоинством, но помимо его воли, вышло очень просительно.
Оно и понятно: он был еще на орбите. Конечно, Векшин – не Мезенцев, но Федя – правая рука Льва Аркадьевича, он все-все знает, от него многое зависит. Иван Антонович ожидал, что на его мольбу! «А как же я?» – Векшин скажет: «Обожди, никуда не уезжай. Через четверть часа явится Мезенцев – уладим дело, ты поедешь с нами». Но вместо этого Векшин, помявшись, сказал: «Ничего, Иван, недельку пороешь окопы, потом вернешься и поедешь вторым эшелоном. Лев Аркадьевич в горкоме, хлопочет, чтобы дали вагоны для эвакуации сотрудников и их семей». И, сказав это, Векшин похлопал Ивана Антоновича по спине, будто они расставались до утра: «Бывай!» – и слегка подтолкнул его к лестнице. Иван Антонович впопыхах чуть было не позабыл сказать, чтобы Векшин позвонил домой и чтобы Федина жена сбегала к ним и объяснила все Лене. Векшин обещал, и Иван Антонович, шаркая потяжелевшими ногами по ступенькам лестницы, медленно побрел вниз, к гардеробу, где он оставил свою лопату.
Лопата стояла на месте. Иван Антонович взял ее и вышел во двор. Во дворе было смрадно: где-то жгли бумагу. Ополченцы грузились в машины. Иван Антонович отыскал свой взвод, вместе со всеми взобрался в кузов… Грузовики выехали со двора на улицу. Мимо поплыли мрачные фасады домов. Иван Антонович плохо знал Москву и долго никак не мог понять, куда их везут. И лишь когда проехали Кунцево, он понял, что их везут на запад, по старому Можайскому шоссе. Теперь он не помнит, сколько они ехали; не раз над их колонной появлялись немецкие истребители с желтыми крестами на крыльях; грузовики останавливались, кто-то истошно кричал: «Воздух!» Все бросались врассыпную – падая и матерясь. Потом, после того как истребители, построчив пулеметами, улетали, командиры взводов и рот подолгу метались вдоль дороги, созывая ополченцев.
Наконец около полудня на выезде из какой-то деревеньки, наполовину сгоревшей, их остановил патруль. Шоссе впереди было изрыто воронками. Их выгрузили, и они еще часа два шли пешком – обочиной, вдоль лесной опушки. Трава, прикрытая первым снежком, похрустывала под ногами. Где-то впереди глухо бухали рвущиеся снаряды, слышалась трескотня автоматных очередей. Иван Антонович плелся в хвосте взвода. Никогда еще он не чувствовал себя таким несчастным и одиноким. Ноги его промокли; дорогое драповое пальто, которое он очень берег и вешал в гардеробе на плечики, все было в ошметьях грязи – видимо, запачкал во время обстрела колонны с воздуха «мессерами», когда, уткнувшись в землю, лежал в придорожном кювете.
Лес неожиданно кончился. Открылась обширная поляна, и с невысокого пригорка видно было, что посреди этой поляны люди роют противотанковый ров. Военные, сопровождавшие команду, посовещались. Ополченцев разделили на две группы; большинство оставили тут же, на опушке, а взвод, в котором состоял Иван Антонович, повели дальше. Дальше – по ту сторону шоссе – стояло три или четыре домика, и за ними, под обрывом, чернела схваченная льдом речушка. Взвод поместили в одном из домишек; каждому ополченцу выдали по банке консервов и по куску хлеба; и пока они ели, саперный капитан в короткой обтрепанной шинели объяснял задачу. Капитан ничего не сказал об обстановке на фронте – о том, что этой ночью немцы прорвали нашу оборону под Можайском; он сказал только, что впереди идут упорные бои, что враг рвется к столице и потому возможны всякие неожиданности. Задача – не допустить прорыва танков. Надо как можно скорее перекопать шоссе противотанковым рвом, вырыть окопы и ячейки для минометов.
Сразу же, как только они поели, капитан указал взводному, где и что копать, и они приступили к работе. Копали до темноты, и весь следующий день – с рассвета и до темноты, и еще день… В сумерках третьего дня прибежал взводный и сказал, чтоб они оставили на время лопаты и вылезали наверх строиться.
По крутым глинистым откосам выбрались из глубокого противотанкового рва. Времени для построения не было; взводный махнул рукой в сторону шоссе, и все потянулись туда гуськом, вразнобой. На шоссе стояли грузовики, крытые брезентом. Со всех сторон к ним шли люди – студенты, рабочие, инженеры – в пальто, испачканных глиной, в ватниках; никто у них не спрашивал ни фамилий, ни названия учреждения, пославшего их в ополчение; солдаты, орудовавшие в темноте, под брезентом, поспешно совали каждому, кто подходил к машине, винтовку и добавляли шепотом: «Все. Отходи!» И люди отходили, выстраивались в сторонке повзводно в ожидании, пока их товарищи принесут от других машин цинковые ящики с патронами и гранатами.
Взял винтовку и Иван Антонович, и она показалась ему тяжелее, чем он предполагал. Однако после грубого черенка лопаты, набившего кровавые мозоли на ладонях, было приятно ощущать гладкость и холодность винтовочного приклада. С винтовкой Иван Антонович почувствовал себя как-то увереннее. Увереннее и еще, пожалуй, полезнее, что ли. Во всяком случае, когда он встал в строй, то ему показалось, что все выглядели строже и подтянутее.
Взводный объяснил, что сквозь боевые порядки наших войск просочились группы автоматчиков, выделил на ночь наряд, и усталые ополченцы легли спать на полу нетопленной избы.
С рассвета – винтовки в козлы, и снова за лопаты. Шоссе было перепахано противотанковым рвом; рыли ячейки для пулеметчиков и окопы по краю поляны, вдоль всей опушки. Сыпал снежок; глина была липкая и тяжелая; и на душе у Ивана Антоновича было неспокойно. Институт эвакуировали. Куда? Наверное, на Урал, в Сибирь. Значит, он оторван от дела надолго. А как там Лена? Знает ли она, что он на окопах? Уж лучше призвали бы его в армию, как всех. Дали бы ему саперное звание, распоряжался бы вроде вот этого капитана. А то долби землю лопатой, будь она неладна!..
Особенно ему мешали очки: при ударе лопатой они подпрыгивали и спадали с переносицы; их то и дело приходилось поправлять, поэтому все лицо у Ивана Антоновича было в глине, и это придавало его и без того неряшливому облику жалкий вид.
Над речушкой, в стороне от дороги, с вечера заняла позиции артиллерийская батарея. Изредка над головой шелестели снаряды, летевшие в сторону немцев, но где они рвались, не слыхать было: трещало и грохотало повсюду, очень-очень близко. В полдень им обычно привозили обед в походной солдатской кухне, но на этот раз кухня почему-то задержалась, и оттого, видно, было холодно и неуютно, как никогда. Снег к полудню перестал, начало подмораживать. Облачность растащило. Проглянуло голубое небо.
Из леса, от батареи, в сторону передовой прошли связисты с катушками. Вид у связистов был озабоченный. Андрей Ольховский, инженер из отдела, с которым Иван Антонович уже тут, на окопах, сошелся как-то поближе, остановил одного из связистов, спросил закурить. «Вон, видишь, „рама“ летает! Сейчас немец даст вам прикурить!» – обронил связист, указав куда-то поверх чащи берез, росшей по другую сторону шоссе. Над лесом, безобидно стрекоча, летал самолет-разведчик. Его не сразу заметили: откуда и когда он появился? Наконец кто-то крикнул: «Воздух!» Ополченцы бросились к винтовкам, разобрали их – и ну палить. А «рама» тарахтит и тарахтит себе, будто и не по ней вовсе стреляют. То низом летит, так что и не видать ее совсем за кромкой леса, то под самые облака взмоет – все ей нипочем.
Покружившись, сколько ей было надо, «рама» улетела. Не успел еще погаснуть нудный ее стрекот, как со стороны передовой послышался однотонный гул. «Не танки ли?» – Иван Антонович положил на траву винтовку и, взяв лопату, стал поспешно ковырять землю: хотелось вырыть окопчик хоть чуть поглубже. Но не успел он копнуть и двух-трех раз, глядь, из-за черных вершин елей, стеной стоявших впереди поляны, – гуськом, гуськом косяк немецких самолетов: десятка два, а может, и больше. Иван Антонович почему-то решил, что яма, которую они тут выкопали, не очень уж важный объект, что самолеты летят бомбить тылы. А потому он постоял еще некоторое время, поглядывая на самолеты сквозь загрязненные стекла очков.
Самолеты летели высоко, но вдруг при виде поляны ведущее звено, включив сирены, разом ринулось вниз, а те, что летели следом, взяли выше, и, нависая друг над другом, они образовали как бы «чертово колесо». И это ревущее десятками сирен и моторов «колесо», прижимая к земле все живое – и лес, и людей, и траву даже, неумолимо надвигалось прямо на Ивана Антоновича. Сосед его, Андрей Ольховский, крикнул во все горло: «Ло-жи-сь!» Но еще раньше этого крика Иван Антонович, воткнув в бруствер лопату, поспешно юркнул в отрытый им окопчик.
Окопчик был неглубок, Иван Антонович спрятал голову, а ноги разметал в стороны. «А ведь не ровен час погибнешь из-за своей же лености, – подумал он с отчаянием. – Отрыл бы окоп во весь рост, все надежнее б было». Только успел он так подумать, как в тот же миг перед ним, словно из-под земли, вырос шатер черно-красного облака. Прежде чем уткнуться лицом в землю, Иван Антонович успел заметить, что лопата, воткнутая им в бруствер, поднялась вместе с землей и так, как была воткнута, полетела куда-то в сторону.
И тут же: тра-а-ах! тра-а-ах!
Иван Антонович готов был вдавиться в холодную утробу земли. И, прижавшись всем телом к сырой земле, он, как и теперь, вот в эту долгую ночь, вспомнил вдруг всю свою жизнь. В миг единый вспомнил!
Правда, тогда она была короче, чем теперь. Намного короче…
«Да и та, короткая, могла бы оборваться в том окопчике. Все, что я прожил после, – с горькой усмешкой подумал Иван Антонович, – это мне как бы премия…»
19
«Премию» эту он получил из-за осколка немецкой авиабомбы. Ранение было серьезное, с поражением коленного сустава; лечение предполагалось длительное, и его эвакуировали в глубокий тыл: сначала в Казань, а затем еще дальше, в Кемерово.
А товарищи его, вместе с которыми он рыл окопы под Можайском, почти все погибли. Иван Антонович узнал об этом потом, полгода спустя, от Андрея Ольховского.
Полгода спустя они случайно встретились там же, в Кемерове. Госпиталь, в котором Иван Антонович находился на излечении, расположен был в новом районе города, в школе. Из палаты, если подойти к окну, виднелся решетчатый забор, которым был обнесен школьный участок, а за забором простиралась неширокая поляна с редкими березами, и уже за ними чернела Томь. Иван Антонович до того (то есть до того, как он попал в госпиталь) и не подозревал даже, что любит реки. Реки как таковые. И эту Томь тоже. Когда после четырех месяцев неподвижного лежания на койке врачи сияли с раненой ноги гипс и разрешили ему непродолжительные разминки в палате, то он – каждый раз в одно и то же время, сразу же после врачебного обхода, – поспешно схватывал костыли, стоявшие в изголовье, и, опираясь на них, ковылял к окну. За окном виднелась Томь. Даже зимой, в январские морозы, река не смирялась до конца: посредине ее, на самом стрежне, чернели полыньи, и над полыньями, подернутыми рябью, клубился парок. Глядя на непокорную реку, Иван Антонович думал: «Эка силища пропадает! Интересно: нет ли поблизости хорошего створа?» – приглядывался он к берегам реки. Но чем дольше он смотрел на Томь, тем эти мысли – мысли о речной силе, пропадавшей впустую, сменялись иными: тревожили думы о Лене, о сыне, о товарищах по работе.
Лена писала, что проектный институт, в котором он работал, эвакуирован на восток. Куда, она толком не знала. Каждое письмо Ивана Антоновича заканчивалось одними и теми же вопросами: «Где Мезенцев? Где Векшин?» Но как раз на эти вопросы, более всего волновавшие Ивана Антоновича, Лена не могла дать ясного ответа. О Льве Аркадьевиче она вообще ничего не знала, а Векшины, с которыми они дружили семьями, эвакуировались. «Жена будто в Свердловске живет, у матери, а Федя где-то на Севере, не на фронте пока, по своей специальности работает», – писала Лена. Мезенцев и Векшин ее не занимали; у нее своих забот хватало. Театры, в которых играли сестры, эвакуировались, уехали из Москвы Катя и Маша. Лене пришлось взять к себе старуху мать. Трое – это уже семья. Надо заработать деньги, надо приготовить обед, убрать комнату.
Правда, Лена в письмах не жаловалась. Она писала, что работа у нее очень суетная, весь день на ногах, но все-таки, когда фашисты бросают зажигалки, она лезет на крышу и вместе с другими женщинами, членами команды самообороны, гасит их.
Да, вышло все как-то нескладно. Уж лучше б призвали его в армию. Носил бы два кубаря, ибо студентом проходил специальную военную подготовку и после окончания института ему было присвоено звание лейтенанта саперной службы. Да, он носил бы два кубаря и, как командир, мог бы выслать Лене аттестат на получение части его оклада. Лена не бедствовала бы, как бедствовала она всю войну, и, может…
«И может, прожила бы подольше…» Но мысль о том, что война подкосила Лену больше, чем его, пришла Ивану Антоновичу лишь теперь. А тогда, в войну, хоть в том же госпитале, стоя у окна и глядя на Томь-реку, он смутно представлял себе, как она жила тут, в Москве, с малым ребенком и больной матерью. Если он и хлопотал тогда о том, чтобы его признали саперным лейтенантом, то хлопотал об этом скорее из чувства собственного достоинства, из желания восстановить справедливость. Ивана Антоновича очень смущало, а иногда и попросту выводило из себя его странное положение. Он был среди раненых солдат как бы «белой вороной». Даже обмундирования ему не дали: как выехал в то октябрьское утро за ворота института в пальто и стоптанных ботинках, так и путешествовал во всем этом из госпиталя в госпиталь. Денежного содержания ему не платили, лежал в общей палате с десятью такими же, как и он, тяжелоранеными. Духота. Случись что ночью, санитарку не дозовешься. А будь у него в петлицах эти самые кубари, его поместили бы в командирскую палату – на троих. В командирской можно и полежать спокойно, и почитать книгу; там на тумбочке звонок, и на каждый твой звонок тотчас же прибегает санитарка.
Иван Антонович написал Лене, чтобы она прислала ему военный билет, паспорт и копию диплома. Она сделала все, как он просил, и Иван Антонович тут же направил свои документы в Новосибирск, в штаб округа. На денежное довольствие его поставили – разумеется, как рядового, а вопрос о присвоении воинского звания, сообщалось в письме из штаба округа, мог быть решен лишь после выздоровления.
Так и остался Иван Антонович в общей палате; и хоть деньги и махорку ему теперь давали, но все равно он чувствовал себя как-то неловко среди солдат, искалеченных на фронте. По вечерам, когда не было врачебных обходов и лечебных процедур, они вспоминали войну: «Немец-то на танках, а мы-то по нему из винтовок: пук! пук! А он, мерзавец, с флангов! В окруженье нас хотел взять. Ротный наш матерится. Ну, мы в контратаку, значит. Пробились».
Ивану Антоновичу становилось не по себе, когда раненые заводили такие разговоры. Они держали Смоленск, Ельню брали… А ему и рассказать-то нечего. О том, как рыл он окопчик? Смешно! Выхлопотал себе махорку и денежное довольствие наравне с ними – и рад. Если уж строго судить, так и этой щепотки махры не заслужил, а лежит вот уже четыре месяца кряду: ест, спит, ходит на процедуры.
Как только врач разрешил ему прогулки, Иван Антонович сразу же забрал свое пальто из каптерки и повесил его в гардероб. И всякий раз, когда ему хотелось на волю, он спускался вниз, надевал поверх госпитальной пижамы пальто и спешил во двор. Но со временем и двор наскучил Ивану Антоновичу. Он стал выходить за ворота, на берег Томи. Однажды – день был воскресный, врачебных обходов и лечебных процедур не предвиделось – Иван Антонович сразу же после завтрака взял костыли и, одевшись, направился к проходной. Сторожиха, сидевшая в будке у входа, знала его – пропустила.
Очутившись за воротами госпиталя, Иван Антонович поспешил к обрывистому берегу Томи. Ледоход еще но начался, но местами у берега уже появились закрайки. Оттаявшая земля чавкала под ногами, костыли вязли в грязи, идти было трудно. Иван Антонович то и дело останавливался; стоял, подставляя лицо ласкающему теплу яркого солнца. Пели жаворонки в небе. Журчали ручьи. Весь берег реки усеян был детворой. Девочки играли в лапту и в «классики»; ребятишки озорничали, прыгали через закрайки, перебегали по горбылям со льдины на льдину. Вода быстро прибывала. На реке стоял треск лопающегося льда; вокруг было ярко, солнечно; и, поддаваясь этому всеобщему оживлению, Иван Антонович почувствовал вдруг прилив сил. Обходя стороной лужи, он шагал и шагал вдоль берега.
Он ушел далеко за поселок. Березы росли здесь почаще; пахло оттаявшей землей, прелым листом и свежими почками. Видимо, летом этот лесок служил местом загородных гуляний: в березнячке стояли беседки, а по берегу понаделаны были скамейки.
Иван Антонович выбрал себе скамеечку поудобнее, на солнцепеке, и присел. Тут было безлюдно и тихо. По бережку, где раньше, чем в других местах, высыпала зеленая травка, важно расхаживали скворцы. Иван Антонович от нечего делать стал наблюдать за ними. Скворцы еще не разбились на пары, держались стайкой; озабоченно, по-деловому осматривая землю, они что-то поспешно клевали; по первому же сигналу сторожевого взлетали, шумно стрежеща крыльями; делали круг над рекой и снова возвращались сюда, на обогретую солнцем поляну.
Иван Антонович так увлекся своими наблюдениями за скворцами, что не сразу обратил внимание на крик о помощи, доносившийся с реки. «Помогите! Помогите!» – кричал кто-то тонким голоском – не то ребенок, не то женщина.
Иван Антонович схватил костыли и вприпрыжку, торопливо, как только мог в своем положении, поковылял к берегу. Метрах в двухстах ниже по течению на льдине, уже оторвавшейся от берега, метались ребятишки – человек пять-шесть. Они бегали по льдине, кричали истошно: «Помогите!» – и махали руками. Иван Антонович, налегая на здоровую ногу, поспешил на помощь. Не пройдя и сотни метров, он увидел барахтавшегося в воде малыша. Какой-то человек уже бежал по берегу с доской наперевес. Ему-то и кричали ребята. Иван Антонович огляделся, отыскивая место, где поудобнее спуститься к воде. Он отыскал какую-то тропинку и начал было спускаться по ней, но впопыхах не удержался, упал. Скользя по грязи, скатился вниз. Человек, норовивший помочь бултыхавшемуся в реке мальчику, судя по всему, тоже был из госпитальных. Неказистый с виду, давно не бритый. Шинелишка на нем потрепанная, а может, и маловата ему, и он не надел ее, как положено, в рукава, а лишь набросил на плечи. Приподняв доску, служивый силился перекинуть ее через закрайку на льдину. Доска была мокрая и, судя по всему, тяжелая.
«Давайте вдвоем!» Опершись на здоровую ногу, Иван Антонович нагнулся, чтобы взяться за доску. И когда он нагнулся, то заметил, что человек тот цепляется за доску только одной, левой рукой. Поглядел – а правый-то рукав гимнастерки у него пустой. «А ну-ка!» – Иван Антонович разом позабыл про свою больную ногу, схватил доску обеими руками и со всего маху швырнул ее поперек закрайки. Малыши, бывшие на льдине, перебежали по доске на берег, Следом за ними, уцепившись красными ручонками за мокрую перекладину, выбрался из воды и пострадавший.
«Шустер! – не удержался Иван Антонович, проводив мальчугана взглядом. – Надо бы наказать ему, чтоб домой скорей бежал», – «Вовремя вы подоспели, – проговорил раненый, поправляя сползшую с плеча шинель, – А то я одной-то рукой и так и этак… А доска-то скользкая». «Сижу вон там на скамеечке… Слышу, будто вскрикнул кто-то. Ну, я – к берегу…» – Иван Антонович сполоснул руки в холодной воде и, подняв с земли костыли, оперся на них. Оперся, глянул на собеседника. А тот стоит, странно как-то посматривает на него: не то удивленно, не то обрадованно. Какая-то смутная догадка озарила вдруг Ивана Антоновича, и, подавшись вперед, он неожиданно воскликнул: «Андрей! Ольховский!»