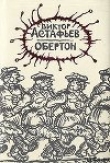Текст книги "Старая скворечня (сборник)"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
12
Но сегодня, к огорчению птиц, Егор кончил пахоту раньше обычного. Солнце было еще высоко, когда он, выехав на обочину дороги, приподнял лемеха плуга и покатил домой.
Правда, к этому времени Ворчун успел насытиться и ему тоже пора было попеть и почистить перышки. Скворец полетел в село. На своих быстрых крыльях он был дома раньше Егора.
Скворчиха уже положила яички и насиживала их. Она занималась этим очень усердно – настолько усердно, что могла весь день просидеть в душной скворечне, не вылезая на волю. В жаркие дни она выставляла клюв в леток и дышала прохладой; если мимо пролетал какой-нибудь комар, скворчиха выскакивала на миг, чтобы схватить его на лету, и снова спешила прикрыть своим разогретым телом яички.
Жалея подругу, Ворчун почти силком выталкивал ее из душной скворечни – покормиться и погулять.
Так и на этот раз: прилетев, Ворчун попел, пощелкал, потоптался на месте, взмахивая крыльями, и – «тить-фьють!» – иными словами, подал сигнал подруге, что он готов ее подменить. Скворчиха выглянула из летка: «фыр-р!» – и след ее простыл. Ворчун тотчас же юркнул в скворечню, на ее место. Прежде чем сесть на яички, он тщательно осмотрел все внутри. Ворчун поймал паука, висевшего на паутинке у самого потолка скворечни – они в мае плодятся просто из ничего, – и только после этого перевернул клювом яички и сел на них. Однако сидеть ему пришлось недолго. Через четверть часа, а может, и того раньше, вернулась его неугомонная подруга – поела.
Ворчун был хороший муж, порядочный. Он делал все по хозяйству: чистил скворечню, наравне со скворчихой кормил птенцов. Но сидеть на яйцах долго не мог. И не потому, что считал это занятие ниже своего достоинства. Нисколько! Просто у него не хватало терпения сидеть долго. Он с удовольствием уступил место в душной скворечне своей подруге, а сам выпрыгнул на волю.
Он уселся на самой верхушке тополя. С высоты скворцу хорошо было видно: подъехал Егор на тракторе. Он поставил машину на поляне перед домом, заглушил ее и спустился вниз по лесенке. Подойдя к крылечку избы, хозяин стянул с плеч черную от пота рубаху, повесил на перильца и шагнул к сараю. Тут, с угла сарая, висел рукомойник. Егор долго мылся, громыхая соском и отфыркиваясь. Помывшись, он загладил ладонью мокрые волосы и позвал Дарью.
– Мать! – сказал Егор. – Принеси-ка мне мою гвардейскую!
– Сейчас!
Хлопнула дверь избы, и на крылечке появилась Дарья.; Сухонькая, опрятная, она словно бы молодела в дни, когда приезжали из города сыновья. В одной руке Дарья держала чистый рушник, а в другой – Егорову военную гимнастерку, которую хозяин надевал только по большим праздникам. Егор взял полотенце и стал вытираться. Вытирался он долго и тщательно – так же фыркая и отдуваясь, как и при умывании. Растерев докрасна лицо и шею, возвратил полотенце Дарье и, взяв из ее рук гимнастерку, начал не спеша одеваться. И когда он надевал свою старую, хранившуюся в сундуке военную гимнастерку, то ордена, прикрепленные к ней, глухо позвякивали. Вернее, позвякивали медали: орденов-то было немного – один, Отечественной войны, и тот привинчен накрепко, а медали висели свободно, на ленточках; они ударялись друг о дружку и приятно позвякивали.
Наконец-то Егор оделся, подпоясался ремнем, одернул сзади гимнастерку и, подобранный и помолодевший, поднялся по ступенькам в сенцы. В бывшие сенцы, ибо года два назад, следуя моде, Егор переделал свою избу на городской манер. Темные сенцы, мазанные из глины, которые были прилеплены к избе еще дедом, развалил, а вместо них поставил террасу – на каменном фундаменте, светлую, с большими окнами, открывающимися в сад. С наступлением тепла окна всегда были открыты, и по праздникам, когда приезжали из города сыновья, тут обедали и пили чай.
И на этот раз праздничный стол был накрыт на террасе.
Едва Егор прошел, Ворчун с тополя перелетел на яблоню, что росла неподалеку от окна. Заглядывая через открытое окно, он слушал отрывки разговора, доносившиеся до него.
– Заждались, папа! Ты что так долго работал? – спросил старший, Иван.
Егор потоптался у стола, загородив на минуту-другую своей спиной окно. Потом прошел в угол, сел с торца стола.
– Надо бы еще часика три попахать, – сказал он. – Но из-за праздника бригадир отпустил пораньше.
– Ты и так девять часов баранку крутил, – сочувственно заметил Анатолий.
– Кто ж в этакую горячую пору часы считает? – Егор придвинул к себе тарелку с солеными огурцами и стал резать их ножом на кружки. – Знаешь ведь нашу крестьянскую пословицу: весенний день год кормит!
– «Крестьянскую»?! – подхватил Иван, беря в руки бутылку «Столичной», привезенную им ради праздника. – Скажи уж – не крестьянскую, а дедовскую! Сколько веков люди пашут землю – и все одно и то же: день год кормит. Пора, папа, и у вас в колхозе покончить со штурмовщиной. При такой-то технике надо работать по-новому. Вон у нас – порядок. Все по графику: плита Щ-5 прибывает на стройплощадку в десять пятнадцать; Щ-6 – в десять тридцать. Никакой путаницы, никакой тебе дедовской штурмовщины.
– Вот оставался бы в деревне да и помог нам, старикам, организовать дело по-научному! – Егор отставил свой стакан, в который Иван успел уже налить водки. – Мне больше не наливай, хватит. Я хотел еще повозиться с пчелами, а они чистоплотнее нас: не терпят спиртного духу.
– Не для того нас учили, чтоб в земле копаться. – Иван налил водки себе и перегнулся через стол, чтобы наполнить стакан брату, сидевшему напротив. – Тебе полный?
– Полный, – кивнул Анатолий.
– А ты не копайся! – Егор помолчал, слушая, как булькало в горлышке бутылки; и все время, пока булькала льющаяся в стакан водка, он сокрушенно качал головой. – Не копайся, а садись хоть на мой трактор и наши. Трактор не соха! Плох – усовершенствуй. Добавь ему скорость – может, за час будешь столько вспахивать, сколько я за весь день не успеваю сделать. А то вот оба вы галстуки нацепили, руки – в брюки! – и посвистываете себе, а мы, старики, вкалываем.
– Прошу, папа, без личных выпадов, – с улыбкой проговорил Иван, стараясь перевести все в шутку. – Я говорил о деревне вообще.
– Вот и я тебе – это самое «вообще»! – продолжал Егор. – Ты посмотри на свое родное село: кто в нем остался? Кто пашет, сеет, убирает? Кто кормит вас? Посмотри! Одни старики да старухи. Возьми, к примеру, хоть нас с матерью. Мне за пятьдесят. Три ранения, инвалид, а я с рассвета и до темна в поле. Посмотри на руки матери! В трещинах все, в цыпках, пальцы не гнутся, а она – день и ночь на ферме. Егор, Дарья да слепая бабка Марья вот кто остался на селе! Вот кто вас, горожан, кормит!
– Хватит тебе, отец! – вступилась Дарья. – Распалился, как самовар. Иван в шутку сказал, а ты все всерьез да к сердцу принимаешь.
– Принимай не принимай – оно само липнет, – как бы извиняясь за свою горячность, примиряюще проговорил Егор.
– Сегодня, папа, наоборот: мы, горожане, будем вас кормить, – вступил в разговор Анатолий: меньшой был характером мягкий, в мать, и ему хотелось хоть чем-нибудь сгладить неприятный осадок от слов отца. – Тебе, папа, лучший кусок судака. Знаешь, один какой ввалился? Во! – И он развел руки в стороны, показывая, какого судака они поймали.
– Я не люблю судака – он сладкий какой-то, – возразил Егор. – Вот если б моей плотицы жареной.
– Ну что за рыба – плотва?! Одни кости. – Анатолий достал из кастрюли ломоть судака с верхним колючим плавником, положил его на тарелку, притрусил сверху зеленым батуном и подал отцу, – Судак – самая лучшая рыба, которая осталась в наших реках.
– Нет, нет! – Егор поднял руки, не принимая тарелки. Ему не хотелось отказом своим обижать сыновей, но и есть рыбу, добытую воровским способом, он не мог. – Отдай Натке, я судака не люблю. Мы с матерью лучше капустной да соленым огурцом закусим. – Егор наколол вилкой кружок огурца и, встав, поднял свой стакан. – Ну, раз налито, то надо выпить. За встречу! За праздник! За нашу победу!
Все стукнулись стаканами и выпили. Правда, Наташе не наливали, а Дарья только пригубила и тут же, поморщившись, отставила стакан с зельем.
Выпив, сыновья принялись за еду. Некоторое время с террасы только и доносился стук вилок да слышалось дружное посапывание людей, занятых едой. Иногда раздавался голос Дарьи:
– Картошку-то берите! Для кого ж я старалась, жарила.
Или звонкий голосок Наташи:
– Толь, смотри, какая кость! А говорил, что судак без костей.
Анатолий смеялся:
– Чудачка, это ж хребет. А бесхребетных рыб но бывает. Это люди бывают бесхребетными. Катаются на их горбах с утра до вечера, а им все нипочем.
– А кто катается-то? – встревал Егор. – Дети и катаются! В этом вся жизнь и состоит.
Снова вступилась Дарья, умоляя, чтобы Егор молчал. На некоторое время за столом наступила тишина. Воспользовавшись минутой примирения, Иван взял бутылку – хотел налить по второму стакану, но Егор отказался, ссылаясь на усталость.
Сыновья выпили и по второму, и по третьему разу, но в спор больше не вступали.
Похлебав щей, Егор принялся за картошку (к рыбе он так и не прикоснулся). Поев, сказал Дарье «спасибо» и, не ожидая сыновей, вылез из-за стола.
Он вышел в сад и сел на скамеечку с солнечной стороны террасы.
13
Возле скамьи росла корявая, развесистая рябина. Она вся была увешана белыми гроздьями цветов. Егор сел с уголка, в тенечек; достал свой старый линялый кисет и принялся завертывать самокрутку. Только он закурил – подошли сыновья. Устроились рядом, задымили сигаретами.
К махорочному дыму хозяина Ворчун был привычен, а от городских сигарет шел такой вонючий дух, что скворцу, который сидел рядом, на яблоне, стало невмоготу. Он вспорхнул и, плавно паря на крыльях, полетал-полетал и сел на крышу скворечни.
– Ах ты разбойник! – проводив его взглядом, радостно воскликнул Егор. – Мы тут, можно сказать, по-семейному о том да о сем калякаем, а ты сидишь и подслушиваешь?!
– Папа, ты с ним как с человеком разговариваешь! – удивился Иван.
– А как же! Мы с ним – однополчане. – Егор улыбнулся, собрал морщинки возле глаз. – Я его Ворчуном прозвал, хотя он – не в пример мне – нрава веселого. И смышлен – куда до него человеку! Выдумки у него побольше, чем у нашего брата. – Егор помолчал, пуская дым колечками, и продолжал все с той же улыбкой – В прошлом году май был теплый. Огурцы посадили рано. Мать – на ферме, Наташа – в школе, а я один дома – приболел что-то. Сижу вот как теперь, на солнышке греюсь, вижу: грачи на грядке. Копают, черти! Идти сгонять их сил нет. Я это два пальца в рот, да как свистну! Испугались, улетели. Неделю целую, пока сидел дома, гонял их. А тут уж на работу пошел… Сижу раз на террасе утром, завтракаю. Слышу: свистит кто-то. Выглянул, а это друг мой, Ворчун: сидит себе возле скворечни и свистит. Да так здорово, ей-богу, не хуже меня.
Сыновья посмеялись, не очень-то веря рассказу отца.
– Ну, вы сидите, а мне рассиживаться некогда. – Егор затоптал окурок, поднялся со скамьи. – Надо травы корове подбросить да поросенку корм дать. А то хозяйка, знать, с посудой завозилась, позабыла.
– Посиди, пап! – сказал старший, Иван. – Теперь ведь до отпуска не увидимся.
– А в воскресенье-то или не приедете?
– Нет. План будем штурмовать. Май – трудный месяц: сплошные праздники. А план остается планом. Так что к концу месяца волей-неволей приходится объявлять аврал.
– Хе-хе! – посмеялся Егор. – Значит, и у вас бывает такое: день год кормит?
– А-а! – заулыбался Иван, вспомнив разговор за столом. – И у нас случается. Только день у нас не год кормит, а месяц.
– Так, так. В месяце – штурмовая неделя, – с подковыркой сказал Егор, – в каждом квартале, считай, три. А годовой план, само собой, штурмуется в последний квартал.
– Это только у них, у строителей, – заметил Анатолий. – У нас на заводе все по-другому. У нас железный график.
Слушая сыновей, Егор качал головой. Улыбка не сходила с его лица.
– У вас крыша над головой. А у нас – то снег, то дождь. Стихия, то да се, – одним словом, природа. Мы накрепко с нею связаны. А кто против природы, тот все равно что против матери.
Егор не договорил что-то очень важное. Или слова такого важного не мог вдруг отыскать, или решил почему-то, что сыновья все равно не поймут его, – только махнул рукой и не спеша, приседая на короткую ногу, пошел к навесу, где висела коса.
– И не надоела вам с матерью эта суета: корова, поросенок, куры? – спросил Иван; он тоже бросил окурок в траву, но ему лень было протянуть ногу, чтобы загасить его, и окурок продолжал дымить.
Егор приостановился, сказал без видимого снисхождения, с достоинством:
– Так, а если б даже и надоело, куда ж ты от этой планиды убежишь?
– Вот Наташу выдадим замуж – заберу вас к себе, – сказал Иван. – К ноябрьским обещают новую квартиру. Отведу вам с матерью комнату: живите на здоровье! Поел – и сиди себе весь день: хочешь, телик смотри, хочешь, по радио симфонии слушай.
– Получишь квартиру, – заметил отец, – заведешь жену и детей.
– С детьми подождем малость.
– Мы все так говорим до поры до времени.
– В город, в город, отец! – поддержал брата Анатолий.
– Город не по мне. Слишком тяжело с моей больной ногой в ваши хоромы подниматься.
– А лифт? Нажал кнопку – фюить! – как вот этот скворец: мигом на пятнадцатый этаж! – Подвыпив, Иван хоть на словах хотел сделать отцу приятное, – А для разъездов по городу мы тебе мотоколяску выхлопочем.
– Зачем мне ваша тарахтелка? Слава богу, у меня есть коляска. – Егор кивнул на видневшийся из-за плетня трактор. – Завещал: помру – так чтоб на нем и на кладбище отвезли. А то мужиков в селе мало, на руках нести некому.
Под навесом, где он плотничал и где находился весь его инструмент, висела коса. Егор снял ее с костыля, уткнул носом в порожек, поточил и, не вскидывая косу на плечо, пошел на зады. За банькой, у самого забора, был крохотный лужок. Сюда нередко подступала полая вода, поэтому тут раньше, чем в других местах, дружно высыпал пырей.
Егор пошел накосить корове травы, а сыновья посидели еще на скамье – четверть часа, не больше. Потом они встали, потянулись, сладко зевая, и направились в избу.
День клонился к вечеру. Где-то на деревне пиликала гармошка; ей подпевали девичьи голоса; и теплый, шалый ветер с реки доносил крики чаек и звон лодочных моторов.
Вскоре сыновья вновь показались на крыльце. Они постояли, поджидая мать и сестру, которые собирались проводить их до автобусной остановки.
Пробираясь меж кустов смородины, от баньки, с задов, шел отец. Чтобы не зацепить полотном за кусты, он приподнял окосье повыше. За спиной у него топорщилась вязанка свежескошенной травы. Повесив косу, Егор высыпал траву в кошелку с овсяной соломой и только тогда подошел к сыновьям.
– Собрались?
– Пора.
– Ну, счастливо бывать!
Егор по очереди обнял сыновей, поцеловал. Меж ленточек медалей, с левой стороны груди, запутавшись, повис жирный, еще не зацветший одуванчик. Егор не видел прицепившейся к медали травы; Иван протянул руку, снял.
Дарья стояла в дверях, повязывала платок.
– Ой! Косу-то я так и не успела заплести! – Наташа торопливо сбежала по ступенькам крыльца. Платье на ней – новое, тонкой шерсти; каштановые волосы, как у модной актрисы из заграничного фильма, распущены по плечам.
Любуясь дочерью, Егор подумал: «А, и ты такая же птаха, как и сыновья! Тоже вот-вот из дому упорхнешь». Хотел было удержаться, но не утерпел, сказал вслух:
– Ну вот, Наташа, через год-другой и тебя, глядишь, так же будем провожать.
– Что ты, папа! – Наташа тряхнула головой, убирая за спину распущенные волосы. – Я из нашего Залужья никуда не уеду. Кто ж тебе будет насаживать наживу на подпуска?
Сыновья засмеялись, засмеялась и Наташа. Молодежь, счастливая, хорошо одетая, пошагала вдоль улицы. Впереди Иван: в джемпере, модных туфлях, стройный, красивый, узенькие брюки наглажены в струнку; следом за старшим – Анатолий и Наташа. Едва успевая за детьми, сзади семенила Дарья.
Шествие замыкал Полкан.
Егор и Барсик стояли у калитки и смотрели им вслед.
А на самой вершине тополя сидел Ворчун. Он не пел, не чистил клювом перья; он молча наблюдал картину прощания Егора со своими сыновьями. Ему было жаль хозяина. Только он не мог ему сказать об этом.
14
Так и бежали годы…
Прилетал скворец. Приезжали дети.
Скворец – от весны до весны. Дети – от одного праздника до другого, от отпуска до отпуска. Сначала Иван и Анатолий приезжали одни, потом – с женами, а под конец – с внуками. Пока внуки были маленькие, их привозили в пеленках, с сосками, с кефирными пузырьками (у молодых матерей своего молока было мало); но как только внучата подрастали и начинали говорить «баба», «деда», «хочу есть», то их «подбрасывали» старикам на все лето.
«В городе у нас тесновато, папа, – говорили сыновья. – К тому же у вас тут воздух, свежее молоко, речка».
«Да по мне что? – отвечал Егор. – Оставляйте. Воздуха, чай, нам не жалко».
И внуки оставались на все лето. И все лето Дарья мыкалась с ними, уставая больше, чем когда-то со своими детьми. Встанет она чуть свет, подоит корову, затопит печку – и бегом на ферму. Наташа все каникулы работала в огородной бригаде. Уходя, она накормит их. Не успеют они вылезти из-за стола – возвращается Дарья: управилась раньше других с утренней дойкой. Теперь у нее есть передых до полудня, до того, как идти на дойку в луга. За это время надо покопаться в огороде, подоить свою корову, обед сготовить внучатам, снова покормить их и уложить спать. Иногда они засыпают при ней, а иной раз начнут шалить – и ни в какую. Дарья оставляет их одних: «Натка с огородов придет – досмотрит. Досмотрит, и постирает с них, и самих помоет».
Так и крутятся они весь день – и Дарья, и Наташа.
Дочка – вылитая мать: проворная да работящая. И что особенно радует Егора – исполнила свое обещание: не ушла после школы из села родного, в колхозе осталась. Десятилетки в Залужье не было; ходить каждый день в соседнее село – далеко. Решили устроить Наташу после школы в медицинское училище. Поначалу все складывалось хорошо: экзамены она сдала, приняли ее. Осенью ехать на занятия – тут-то и начали подсовывать всякие палки в колеса. Получает Наташа письмо от директора училища: так и так, уважаемая товарищ Краюхина, уведомляем вас, что у медучилища нет общежития. Егор всполошился, сам поехал в город, к директору. Пока ехал – всякие злые речи придумывал: за что мы воевали и прочее. А когда вошел в кабинет к директору, то язык будто отсох: не ворочается никак. Вышел из-за стола директор – и тоже, как Егор, приседает на одну ногу. Усадил Егора директор, стал расспрашивать о том, где он воевал. Егор рассказал: и как отступал от Смоленска, и как в Сталинграде всю ту лютую зиму немцев бил, и как ранен был при штурме познаньской крепости.
Директор послушал-послушал и говорит: «Разными мы дорогами шли, но я тоже солдат и скажу тебе, как брату: общежитие – это ведь рогатка! Зачем брать девчат из деревни, когда у нас своих, городских, хватает? Скажу по секрету: если хочешь, чтоб девочка училась, сними ей комнату у частника. А насчет прописки я похлопочу».
Ничего не поделаешь: снял Егор угол для Наташи на частной квартире. И через эту рогатку перепрыгнул. Нет, так на тебе! – через полгода новая рогатина. Начали вводить специализацию. Наташу определили на хирургическую сестру. На первой же операции, когда ее не то что помогать, а просто посмотреть поставили к операционному столу, Наташе сделалось плохо. Врачи, бывшие тут, посмеялись, стали подбадривать: «Ничего, Ната, привыкнешь!» Воды ей дали; отдышалась она немного, пришла в себя и прямо из операционной – на автобус. Приехала тихая, грустная; день живет, другой. Егор думал: на каникулы отпустили. Спросил. А она и говорит ему: «Съезди, папа, забери у хозяев мои вещи. Я в город больше не поеду».
Егор и так и этак: одумайся, мол, дочка! А Наташа – знай свое: нет да нет. «Режет хирург, – рассказывала она, – а я глядеть не могу: голова у меня кружится. Кажется мне, папа, что это твою ногу режут». – «Ну и что такого, – ворчливо отзывался Егор. – Хорошие люди мне делали операцию. Если бы не хирурги, – может, и умер бы я тогда. Ан вот видишь – живу!» – убеждал Егор. Но неволить дочку не стал: не по нраву дело – лучше не делай! «Ничего, пусть девка в помощниках дома походит», – решил он.
Съездили они с Дарьей в город, привезли Наташкины узлы и чемоданы, и на этом ученье ее кончилось.
Однако Егор ошибался, полагая, что у Наташи «своей мысли нет».
Этим же летом прибыл на побывку Федор Деревянкин, Герасима, соседа, сын. Знать, прописал бригадир Федору про большую воду, соблазнил. У Герасима Деревянкина было трое сыновей, и все они очень рано отбились от дома. Никто из них в родном селе не жил, наведывались от случая к случаю, и то – раз в пять лет. Старший служил где-то на Севере не то гидрологом, не то топографом; второй состоял на какой-то секретной службе: или с ракетами связан был, или еще с чем – сам Герасим толком не знал. В Залужье наведывался редко, и то когда с юга с семьей на своей «Волге» ехал. Дорога, по которой на юг-то ехать, рядом: не завернуть к отцу совесть, знать, не позволяла. Заедет, сходит раз-другой на рыбалку – и покатил дальше к своим ракетам.
И младший из Деревянкиных, Федька, был такой же. После службы в армии остался он где-то далеко-далеко: не то на Курилах, не то на Камчатке и пропадал там лет пять. Пропадал, пропадал, а тут вдруг взял да заявился! Костюм на Федьке – черный, моряцкий; фуражка – что тебе фронтон у крыши новой фермы: до самого неба поднята, а на лбу – краб золотом шит. Герасим уверял, что чуть ли не до капитанов его Федька выслужился.
Известно, как оно бывает по соседству-то: приехал ненаглядный сынок – праздник в семье. Позвали Деревянкины родню, соседей. И Егора позвали – да не одного, а со всеми чадами и домочадцами. Выпили по маленькой; то да се, разговоры разные за столом пошли. Федька про всякие дальние страны рассказывает, про море, а сам все на Наташу глазами зыркает. В армию уходил – была она школьницей, а за столом сидела красивая девка, невеста.
В тот вечер ничего не было между ними: выпили, поговорили да и разошлись по домам. Только стал замечать Егор после того вечера: побежит утром Наташка к колодцу с ведрами – Федька тут как тут! Бадейку из рук Наташи возьмет, одним махом журавль вниз, другим – вверх. Налил ее ведра, подхватил их и понес к дому. Наташа идет рядом, смеется – довольна.
Федор ведра на крылечко поставит, кивнет головой в ответ на ее «спасибо!» – и был таков.
Вежливый, неназойливый парень. Нравился он Егору.