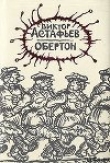Текст книги "Старая скворечня (сборник)"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
23
Размолвка, вызванная историей с письмом, продолжалась, однако, недолго. Вскоре им дали эту самую квартиру, и в сутолоке переезда, в радости, которую несут с собой всякие такие перемены, как-то мало-помалу забылась эта огорчительная неприятность.
Переезд в новую квартиру был воспринят как праздник. Нет – более того! – как возвращение в молодость. После тесноты, после коммунальной кухни и всех этих счетов и расчетов с соседями за свет и за газ новенькая квартира с дубовыми паркетными полами казалась чудом, раем! У Лены было такое настроение, словно она начинала жизнь заново.
По настоянию Ивана Антоновича Лена уволилась с завода и занялась всецело квартирой. Это уже потом, много лет спустя, когда Лена стала все чаще и чаще прихварывать, ее раздражало одиночество и она называла квартиру «душегубкой». А поначалу небольшая квартирка с двумя смежными комнатами ей очень понравилась, и ей хотелось обставить комнаты со вкусом. Хотелось, чтобы дома было– как дома: чтобы Иван Антонович, придя с работы, мог сесть в кресло, отдохнуть, почитать книгу. Она достала модную в то время рижскую мебель, немецкие люстры и торшеры, понакупила всяких безделушек, вроде дымковских кукол и владимирских матрешек, и у них стало ни сколько не хуже, чем у Векшиных, получивших квартиру этажом ниже в этом же доме.
В ту пору у них часто собирались сослуживцы. Приходили с детьми, с женами. Лена суетилась, стараясь приготовить что-нибудь вкусное. Если Лев Аркадьевич и Ольховский вспомнили сегодня добрым словом её кулинарные способности, то они имели в виду именно это счастливое время. После долгого одиночества и полуголодного существования в войну Лена ожила, к ней снова вернулась молодость и озорство. И Ивану Антоновичу порой казалось, что жизнь только-только начинается.
Да оно по сути так и было. Что они прожили вместе до войны-то? Каких-нибудь четыре года! А теперь впереди была вся жизнь. Вся-вся – они ведь не так еще стары: Лене шел тридцать пятый год, ему едва стукнуло сорок два.
Новый дом, в котором они получили квартиру, стоял на самой городской окраине. Сразу же за домом был овраг, а за ним до самого горизонта простирались поля. Через овраг была насыпана неширокая дамба; вдоль шоссе на некотором отдалении шла пешеходная дорожка. Асфальт на ней потрескался и осел местами, и весной сквозь щели пробивалась зеленая травка. Весной в воскресные дни они любили гулять тут всей семьей. Тропинка вела в село, к церквушке, и в выходной после обеда они вместо сна шли сюда: все же какое-то подобие природы.
Вдоль крутых откосов дамбы желтели одуванчики; за оврагом, в канавах, где когда-то брали глину для кирпичного завода, неистово квакали лягушки.
Все млело от вешнего тепла и пробуждения. Лена всем восхищалась. Даже эта жалкая природа приводила ее в умиление. Она принималась мечтать вслух, что, когда настанет время и Иван Антонович уйдет на пенсию, они купят домик где-нибудь под Каширой, на Оке, и будут жить в лесу совсем-совсем одни. «Будем вставать рано-рано! Насадим цветов. Заведем собаку, кошку, кур…»
И тут же, переменившись разом, горячо заговорит совсем о другом: «Нет, нет! Ну ее к шутам, эту пенсию! Я не хочу думать о том времени. Мы еще так молоды! Правда, Ваня? – Она прижимала его к себе и, чтобы не услыхал Минька, шедший рядом, шептала на ухо Ивану Антоновичу: – Если уж и мечтать о даче, так чтоб не собачки и кошки нарушали в ней загородную тишину, а дети. Давай, Ваня, заведем много-много детей. Ну что это – один ребенок, разве это семья?! Останется без нас – ни братика, ни сестренки у него… Будет на белом свете один, неприкаянный. А-а?»
«A-а, что?» – переспрашивал Иван Антонович. Его мысли были далеко: он занят был тогда Цимлянской ГЭС и, шагая вдоль дамбы, перегородившей овраг, прикидывал в уме: сколько в нее вбухано земли и во сколько раз больше будет земляная дамба на Цимлянском гидроузле.
«Ты и не слушаешь, о чем я говорю, – скажет она расстроенно. – Небось все свои кубометры считаешь. Ну хоть один-то час в неделю можно о другом подумать?»
Ивана Антоновича всегда поражало ее умение угадывать его мысли, перемены и малейшие оттенки в настроении. Однако он редко признавался, что она угадала то, о чем он думал. Так и в тот раз: застигнутый врасплох, он даже остановился, пораженный. Затем, поправив очки, улыбнулся и искренне, настолько искренне, что она даже поверила, стал объяснять, что он тоже думал об этом не раз, что, конечно, один ребенок в семье непременно вырастет баловнем, но что сейчас с этим надо пока повременить, что годика через два, когда сдадим Цимлу, будет легче, тогда уж…
Но после Цимлы был Куйбышев, потом – Братск… Потом… потом незаметно подкрались болезнь, больница, старость.
Однако жизнелюбие ее было неистребимо.
Она и после больницы все тормошила, не оставляла его в покое.
«Ваня, завтра воскресенье… – подступит, бывало, она к нему. – Знаешь что, давай сделаем так: Мишу отвезем к Кате – она не играет завтра, а сами вдвоем махнем в ресторан! Я надену свое лучшее платье, и пойдем куда-нибудь в „Националь“ или, еще лучше, в „Химки“… Вот приедем в Химки-порт, я погуляю в парке, а ты отправишься в ресторан и займешь столик. Через десять минут захожу я, ищу тебя взглядом, будто мы свидание с тобой тут назначили. Сядем мы друг против друга и будем пить какое-нибудь „Каберне“, и разговаривать, и смеяться, а все будут глядеть на нас и завидовать. Скажут люди: глядите, мол, какая у этого седоголового человека молодая любовница!.. Ну как: хорошо я придумала?»
«Придумала ты, конечно, хорошо, – говорил он, несколько озадаченный ее сумасбродным желанием. – Но в понедельник у нас большое совещание по Самарскому створу, и я должен подготовить доклад. Ты уж прости меня, как-нибудь в другой раз».
И они сидели дома и в этот, и в другие дни. В воскресенье, проснувшись позже обычного, Иван Антонович не спеша просматривал газеты, потом садился за стол готовить доклад. Лена суетилась возле газовой плиты, Миша носился по двору с мячом или хоккейной клюшкой. В половине третьего они усаживались за столик в углу кухни и обедали. Обедали без вина, и без улыбок, и без разговоров даже, а если и говорили, то все о том же: о деле, разумеется, о его деле, о домашних заботах, и Лена, в халате, прикрытом цветным передником, сидела на табуретке у газовой плиты, разливала по тарелкам щи, и в глазах ее не было ни оживления, ни того блеска, какой был у нее вчера, когда она сочиняла свой взбалмошный рассказ про ресторан…
Мало-помалу Лена устала, сдалась; она более уж не заговаривала с ним ни о детях, ни о ресторане, ни о своей работе, которая бы украшала жизнь людям.
Она померкла и сдалась на милость болезни.
А жизнь неслась!
Неслась стремительно, как телега, пущенная без упряжки под гору…
24
«Под гору, под гору!.. Да все ближе к старости», – подумал Иван Антонович с горечью. Он увидел, что папироска погасла, и, обрадованный, что хоть чем-то можно отвлечься от грустных воспоминаний, снова прикурил ее от спички и, дымя, вновь принялся за чтение дневника.
Иван Антонович знал: он не сможет заснуть, успокоиться, не распутав всю эту историю с Мценским до конца.
Отыскав место, где он прервал чтение (прогулка с Б. В. в ЦПКиО), Иван Антонович стал читать дальше. Час был поздний, и потому Иван Антонович решил не читать все подряд, а лишь самое существенное. И еще он решил, что такими наиболее существенными записями являются записи пространные, на две-три страницы. В них он легче всего узнавал Лену – ее манеру выражаться; в них проступал то ее гнев, то юмор. А главное – в них он узнавал о ее чувствах к этому самому В. В.
Перелистывая страницу за страницей, Иван Антонович пытался найти ответ на волновавший его вопрос: ведь должно же между Леной и Мценским состояться какое-то объяснение, ну, разговор, что ли, после которого последовал разрыв?
И в спешке, в погоне за пространными – на две-три страницы – записями чуть не пропустил главное, а именно – запись, которая отвечала на его вопрос. Ответ этот заключался вовсе не в самой длинной записи, а, пожалуй, в самой короткой и очень лаконичной.
«30 мая. Сегодня В. В. приезжал на дачу к Н. К. Я пошла проводить его до станции. Он не взял меня под руку, как всегда. Мы долго шли молча – видно, он собирался с мыслями, да не знал, с чего начать. Тогда я первой пошла в атаку. Говорю: „Милый В. В.! Чего это вы так волнуетесь, что даже не берете меня под руку?“ Он и после этого не взял меня под руку, но молчать было нельзя, и он заговорил, путаясь и не глядя на меня…
„Я люблю тебя, Лена… Но если б ты знала, как я себя неловко чувствую, когда я наедине с тобой! Чем я заслужил твое восторженное обожание? Ты же меня не знаешь, совсем не знаешь! К слову, как и я тебя…“
Я остановилась, поглядела на него: он продолжал идти и говорить. Я пошла следом, как пришибленная.
„Скажи, – продолжал он, – что тебя так неудержимо влечет ко мне? За что ты так нежно меня всегда целуешь? Что это – ребячество или то серьезное, после чего остается только одно (он сказал – что)? Я все время ощущаю эту разницу в летах. Если ты думаешь, что я бабник, сволочь и готов на все, чтобы завладеть тобой, испортить тебе жизнь, то ты ошибаешься. Но я тоже человек. И может случиться так, что наступит такой момент, когда я не в силах буду совладать сам с собой. Так что сторонись меня, моя милая, глупая девчонка… Нам надо перестать видеться“.
2 июня. Два дня подряд плакала, дура! Чуть не завалилась на последнем госэкзамене. Сбагрила, слава богу.
5 июня. Отдыхаю на даче у Н. К. Как я не люблю эту „окультуренную“ природу! Куда ни посмотришь – везде народ, дачники: мужчины в полосатых пижамах, женщины в длинных ярких халатах. Везде – на траве, в кустах – клочки бумаги, скорлупа, ржавые консервные банки. И Клязьма какая-то жалкая. Но все-таки я выкупалась. Потом лежала в одном купальнике на солнце и думала…
Я ненавижу его!
Я ненавижу его за то, что он обманул мои ожидания. За то, что слишком хорошо думала о нем. Я ненавижу его за то, что он бесцеремонно ворвался в мою душу и навсегда свил в ней свой уютный уголочек.
Я ненавижу его за то, что долго шла к нему с душой открытой, протягивала к нему руки, а он трусливо прятал свои за спину и отворачивался от меня. Я ненавижу его за то, что так долго не могла разгадать его мещанство, что он меня сумел „провести“, что он все время „казался“, за то, что заставил поверить в себя, несуществующего.
О, как я могла бы сейчас разоблачить его перед всеми! Жить с нелюбимой женой ради приличия, ради того, чтоб его кто-то не осудил. Низкий, мелкий человек! Слава богу, что я вовремя прозрела. А то одно время казалось: еще один шаг, и я потеряю вконец свою постыдно легкомысленную головушку…»
25
Иван Антонович, вздохнув с облегчением, отложил дневник и потянулся так, что хрустнули кости.
Значит, не было у Лены с этим В. В. ничего особенного. При одной этой мысли наступило успокоение. И вместе с облегчением, с радостью, что все же Лена любила его, Ивана Антоновича, больше всех, что он не обманулся в ней, пришла другая мысль: «Вот она – женская-то любовь. Как быстро все у них, женщин, свершается: полюбила, а глядь, через месяц-другой разлюбила».
Во всем этом – и в самих отношениях с Мценским, и в каждой строке дневниковых записей – он узнавал Лену. Она всегда-всегда была такая: очень разная. То веселая, то грустная, то грубая, то ласковая. Сидит вечером в кресле – шьет или штопает Минькины носки; Иван Антонович, развалившись на тахте, читает газету. Он слышит, как она в такт движению руки напевает что-то. Вдруг рука замерла, остановилась, и вместо веселой песни грустный вздох и… «Я от роду своего несчастная!». Иван Антонович отложит газету, вопросительно уставится на нее поверх очков: мол, почему! И она, словно угадывая его невысказанный вопрос, примется рассказывать – и не для него, а просто так, вспоминая: «Мать как-то проговорилась… Когда она забеременела в третий раз, то они решили с отцом, что двух детей им вполне достаточно. Договорились с доктором. Она уже собиралась идти к доктору, но начался такой страшный ливень, что отец уговорил ее повременить до завтра. А наутро перерешили: пусть будет третий! Может, хоть третьим окажется сын. А я, видишь, не оправдала надежд – третья дочь. Одно расстройство родителям. Отец, может, оттого и выпивать стал. Он очень хотел сына».
То веселая, то грустная.
То ласковая, то грубая…
Да, грубая!
«Послал бы ты его к этакой матери», – скажет, бывало, она, выслушав рассказ Ивана Антоновича об очередной его стычке с Мезенцевым. Стычки эти проходили у них всегда по одному и тому же поводу. Лев Аркадьевич был попросту одержим идеей затопления. Если б ему дали волю, он залил бы водой всю нашу грешную землю. Институт составлял доклады о необходимости строительства гидроузлов. Иван Антонович, как начальник отдела, должен был визировать их. Иногда ради строительства ерундовой электростанции в какую-нибудь сотню тысяч киловатт приходилось затоплять чуть ли не миллион гектаров угодий. Иван Антонович возмущался в душе, но не возражал. Лена была недовольна тем, что он не проявлял, где надо, характера и шел на поводу у Мезенцева. Как всегда, мягко возразив Льву-Затопителю, Иван Антонович подписывал все-таки бумагу. Укоряя его за слабохарактерность, Лена выходила из себя: ругалась, призывала его послать Мезенцева к такой-то матери. При этом она сопровождала слово «мать» самыми яркими эпитетами, какими его сопровождают обычно отменные матерщинники. Иван Антонович, который не то что в доме, но и на изысканиях, где-нибудь в лодке или у костра не позволял себе подобных выражений, краснел при этих ее словах и говорил, укоризненно качая головой: «Лена! Ну нельзя же так. Минька услышит. Что он может подумать о своей-то матери?»
«Ничего! – озорно возражала она. – Минька – он уже большой парень. Он, поди, и не такие слова знает! А услышит – пусть, еще больше будет уважать меня. Потому что я дело говорю. А ты – так: ни рыба ни мясо. Боишься, когда надо настоять на своем, вот Мезенцев и пользуется твоим авторитетом. Надо или не надо – подпиши! И ты подписываешь. Подписал – и с плеч долой! Равнодушный ты человек – вот что я тебе скажу».
Да, она права: он не ругался с Мезенцевым. Иногда, правда, задетый за живое ее укорами, он вступал в спор с Львом Аркадьевичем и настаивал или на перенесении створа в иное место, или на снижении высоты подпора. Но это случалось редко, очень редко.
То груба, то ласкова до сентиментальности. Особенно с сыном. Она всегда будила и собирала Миньку в школу. Даже взрослого, десятиклассника. Войдет утром к нему в комнату, на колени перед его кроватью опустится и тормошит: «Минечка, лапонька! Вставай, пора!» Приподнимет край одеяла, целует его колени. А сын, как и подобает баловню, брыкается, злится на мать, закрывает голову одеялом, пытаясь прихватить лишнюю минуту. Мать начинала раздражать его леность, и дело часто кончалось взаимными обидами. Но она не могла носить в себе обиду долго. Она была на редкость незлопамятна, отходчива. Через четверть часа, провожая Миньку в школу, мать уже снова целовала его и говорила ему всякие ласковые слова.
А он, Иван Антонович, был всегда ровен, очень ровен, непоколебимо ровен. Он никогда не горячился, не ругался, не выходил из себя, но зато и никогда не выказывал ни радости, ни бурной любви ни к жене, ни к сыну. Своей ровностью, однотонностью, стремлением к обыденности он, может быть, сокращал ей жизнь.
Это он-то «сокращал»?! – тут же передумал Иван Антонович. Пожалуй, поискать еще таких-то заботливых мужей… В наше-то время, когда так много развелось муж-чин-эгоистов! А он, наоборот, всегда, чем мог, помогал ей. Стыдно кому-либо рассказать, что он, человек всеми уважаемый, ученый, создающий целые моря, – он почти каждый раз, возвращаясь с работы, заходил в один-другой магазин, чтобы сделать для дома какие-то покупки. Портфель у него кожаный, с двумя блестящими застежками; едет он в метро, люди, глядя на него, думают: вот почтенный, деловой человек, портфель-то, поди, у него полон бумаг государственных. А в портфеле всего-навсего колбаса да бутылка с кефиром. Нет, нет! Он тут ни при чем, успокаивал себя Иван Антонович. Он в ее ранней смерти не повинен! Разве и повинен, то лишь в том, что не мог организовать быт. Некогда было остановиться, подумать.
Ведь вот, когда лет пять назад у Лены вновь обнаружили сахар… Надо бы ей полечиться, лечь в больницу. Она уже чувствовала серьезное недомогание, были тревожные симптомы. Врачи предложили лечь в клинику, на исследование. Но Лена отказалась. У Миньки были как раз экзамены в институте: ему, Ивану Антоновичу, предстояла очередная поездка в Сибирь, на стройку новой ГЭС. Как же они обойдутся тут без нее? Нет, она согласна на любую диету, лишь бы остаться дома, со своими любимыми мужиками.
А дома известно: сегодня диета, а завтра… А завтра, глядишь, в суете и пообедать вовремя позабыла.
Так и запустили хворь.
Спохватились, да поздно.
26
Сквозь зашторенные окна уже серел рассвет. Прошуршала поливальная машина, где-то взвизгнула и залаяла собака. «Какой же это по счету рассвет без нее? – Иван Антонович стал считать: – Третий? Нет. Она умерла в четверг. А теперь понедельник. Значит, четвертый… Четвертый рассвет на земле без нее. – Подумал, приподнялся на подушках, решил: первый рассвет! Первый, когда ее нет в доме».
Лежать было бессмысленно – все равно ему не заснуть сегодня.
Иван Антонович поднялся и, прихватив с собой дневник, подсел к окну, стал листать страницы. До конца оставалось совсем немного – всего несколько листков. «Да, – подумал он, – и если б не вот эта книжица, то ничего бы от нее но осталось в жизни, кроме, конечно, сына, кроме платьев, которые она носила, кроме еще того доброго, что сделала она для него, для Ивана Антоновича. А она сделала для него очень много. Очень! Может, именно она-то, Лена, и сделала из него того самого Ивана Антоновича, которого сегодня уважают все – и Мезенцев, и даже сам Генерал. Она освободила его от житейской суеты – от стояния в очередях, от мытья посуды, чтобы даже и дома он занимался своим любимым делом. Она старалась, чтобы у него были друзья, всячески приваживала их, угощая вкусными блюдами. Она взяла на себя все заботы по воспитанию сына. Пока Минька учился в школе, Иван Антонович ни разу не заглянул не только на родительское собрание, но даже и в дневник сына. Все мать – и задачки с ним вместе решала, и случись сочинение проверить – все она!»
Может, и права Лена, когда однажды сказала в сердцах: «Погибаю я от доброты своей! Как помню себя, вес близкие только и делали, что пользовались моей добротой. В детстве старшая сестра Катя: шпыняла, била, заставляла все делать по дому. В войну на мои плечи свалилась больная мать. Знаешь, как с больным-то человеком, – обмой ее да накорми. А теперь вот вы с Минькой. Сделали из матери-художницы домашнюю хозяйку. Тихую, безропотную. Вам спокойно. Мише скоро тридцать, а он и не думает жениться. Зачем ему? Ему и в доме матери хорошо. Мать все умеет: и сготовит вкусно, и приберет чисто, и нагладит, и намоет. И за всю жизнь никто не подумал: той ли участи достойна ваша мать?»
«Значит, она не была счастлива со мной, – подумал Иван Антонович, – раз так говорила». Но он тут же отпугнул от себя эту мысль – потому как говорила она и другое, совсем-совсем противоположное. Иногда, в редкие минуты душевного спокойствия, Лена, вздохнув, скажет: «Хороший ты у меня, Ваня, мягкий, добрый. Но ты, как актер, всю жизнь прожил в гриме. – И боясь, что он обидится, обнимет, скажет со вздохом: – Нам бы, Ваня, и умереть вместе! Я боюсь умереть первой. Что ты тут будешь делать без меня – ни приготовить не умеешь, ни убрать за собой».
«Да, она права», – подумал Иван Антонович. Однако новый день наставал – и надо было что-то делать. Надо бы побриться, принять ванну. Но идти в такую рань в ванную комнату Иван Антонович не решился: боялся разбудить сына – Миша тоже намаялся за эти дни. «Нет, не надо никуда идти – надо дочитать!» – Иван Антонович проглядел одну-другую страничку: ничего особенного. Чем ближе к концу, тем записи становились все отрывочнее, все короче. Видимо, сдав государственные экзамены, Лена уехала от Османовой и жила дома, у родителей. Уединение ее кончилось, а дома, судя по всему, негде было расположиться с тайником своим; она писала урывками, может, даже ночью, в постели, так как немало записей было сделано карандашом, и Иван Антонович теперь с трудом разбирал их.
«7 июня. Видимо, я сойду с ума! Все ясно, все кончилось, а я снова ищу случая, чтобы повидать его. Девчонки готовятся к преддипломной практике, покупают в дорогу вещи, а я плюнула на все и поехала к Н. К. на дачу. Соскучилась! Ехала, думала: встретимся. Буду вежлива, учтива, но не более. А увидала – и голова от радости пошла кругом. Н. К.: „О, как ты похудела, Леночка!..“ Он: „А Лене это очень идет. Она стала изящнее лермонтовской Бэлы“. Н. К.: „Да, вы так находите, дорогой В. В.? Ну, вы – мужчина. Мужчинам виднее“.
8 июня. Совсем выбилась из сил. Ведь умишком своим ясно понимаю, что это ошибка. Что надо забыть, выбросить из головы. Но сил нет, чтобы совладать с собой. Увижу его, холодею вся. Вчера пили на террасе чай. Гляжу: он смотрит на меня с любовью. Рука с чайной ложкой замерла, никаких сил нет, чтобы поднести ее ко рту. А Н. К. как нарочно: „Леночка, да ты кушай, кушай!“ Ложка не попадет в рот. В. В. поднялся, подошел ко мне, погладил по голове, как маленькую девочку: „Леночка теперь совсем большая, дипломница“.
Я просто устала! Ужасно устала! Мне хочется отдохнуть, чтобы меня никто не дергал, чтобы меня все оставили в покое. Скорее в Красное… Уехать! Уехать!
11 июня. „Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире успеха добивается только тот, кто ищет нужных ему условий, и если не находит, создает их сам“, – вычитала вчера у Шоу.
12 июня. Взять с собой: одеяло, простыни, наволочки, полотенце, пальто, платье – 2, чулки, носки, мыло, пасту, кружку, ложку.
Купить: рюкзак, платок, расческу, одеколон, тапочки, лифчик, кастрюльку, конверты, бумагу.
Продукты: чай, крупа, сахару 1 кг, консервы мясные, черный хлеб.
А может, ничего не надо? Хоть Красное село, но ведь и там живут все те же люди!
14 июня. Ну вот и все! Сегодня вечером я уезжаю. Прощай, мой дорогой В. В.! Как я благодарна тебе. Все-таки хорошо, хорошо, что ты был в моей жизни! Ты защищал меня все это время от пошлости, от несуразности мелких будней. Спасибо тебе, прощай!
Впереди – дорога. А в жизни нет ничего лучше дорог…»
Что верно, то верно: она любила дорогу, смену обстановки любила, но поездить ей не пришлось. Она всегда завидовала Ивану Антоновичу. «Тебе что – тебе и умирать не страшно. Ты всю страну объездил. А я дальше Геленджика нигде не была. В Ленинграде, в Эрмитаже, после войны не была. Разве это жизнь!»
Так случилось, что последние два-три года он часто ездил на Ангару – в Иркутск и Братск. Собирая его в дорогу, Лена всегда была грустная. А на этот раз к обычной грусти добавилось еще и чувство ревности: мол, знаю тебя – к потаскухе своей едешь! Ему очень хотелось разубедить Лену, успокоить. Но что он мог сказать ей? Обмануть, сказать, что никакой женщины у него не было в Иркутске? Покаяться во всем – что в войну был грех, а теперь, мол, все кончено? Он не рассказал бы, если бы даже она спросила! Если б даже его на огне пытали! Но она не спросила, хотя он видел по грустной усмешке ее, о чем она думала. Верный себе, Иван Антонович предпочел молчание. Он решил, что старое теребить не нужно, не стоит: что было, то быльем поросло.
Однако думая так, Иван Антонович все ж надеялся встретить Клаву. Приехав в Иркутск, он в первый же вечер отправился к ней. Но в той самой комнатушке в Соляном тупике, где он так любил бывать когда-то, обитал теперь какой-то одноногий мужик, инвалид войны. На вопрос Ивана Антоновича, можно ли ему повидать Клавдию Николаевну, одноногий удивленно пожал плечами. Когда, куда перебралась бывшая хозяйка каморки, он не знал.
На другой день утром по пути на стройплощадку Иван Антонович заглянул в городское адресное бюро и попросил, чтобы ему отыскали адрес Клавдии Николаевны Лаврухиной. Девушка, принимавшая заказ, была очень любезна; она тут же взяла картотеку всех Лаврухиных, проживавших в Иркутске, но… Но никакой Клавдии Николаевны в ней не оказалось. «Уехала? Вышла замуж и сменила фамилию?» – Иван Антонович забеспокоился еще больше. Забросив на какое-то время неотложные свои дела, он отправился в областную больницу, где Клава работала до войны. Был неприемный день, и сторожиха остановила Ивана Антоновича еще при входе в больницу: «Вы к кому, гражданин?» Это была толстая пожилая женщина в тулупе, хотя стояла уже середина мая, в пуховом платке; она курила папиросу и исподлобья, не очень ласково глядела на позднего посетителя. Иван Антонович помялся, не зная, что сказать, а потом рассказал все, как оно есть: что он старый приятель Лаврухиной и пришел узнать – не работает ли она снова в областной больнице?
«Эвон, вспомнил Лаврухину! – сказала сторожиха, дымя в лицо Ивану Антоновичу. – Она, поди, уже скоро десять лет как иную фамилию носит. Миронова она теперича, а работает знаете где? В зубной поликлинике…»
И стала объяснять, как проехать туда. Но Иван Антонович был так обескуражен тем, что услыхал, что ему не до адреса было. Он повернулся и, даже не поблагодарив сторожиху, побрел прочь…
Он не пошел к Клаве – ни в этот, ни на другой день. Было очень много дел, и он мотался всю неделю то туда, то сюда. «К чему теребить прошлое, – уговаривал он себя. – Она вышла замуж. Ну и пусть живет себе и будет счастлива!» Уговаривал и держался, пока был занят. Однако за день до отъезда, когда у него был уже билет в самолет, он не утерпел, позвонил в поликлинику. Клава вела прием. Иван Антонович спустился вниз, взял такси и поехал. В просторном вестибюле нового здания поликлиники висели таблички: фамилия врача и номер кабинета, в котором он ведет прием. Иван Антонович нашел фамилию Мироновой К. Н.; Клава принимала в кабинете № 14. Он прошел нижним коридором – все кабинеты без номеров: «Главный врач», «Бухгалтерия», «Директор»… Иван Антонович поднялся на второй этаж, и тут же, напротив лестничной площадки, увидел на двери табличку: «14». В небольшом холле рядом на табуретках сидело человек пять посетителей – женщин и мужчин. «Вы в четырнадцатый?» – спросил Иван Антонович, присаживаясь ка свободный табурет. Кто-то сказал чуть слышно «да», кто-то кивнул головой. Он просидел минут десять. Пришел еще посетитель: «Будьте добры, у вас талончик на который час?» – «Нет-нет! Пожалуйста!» – Иван Антонович встал и отошел к окну.
Хлопнула дверь кабинета. Иван Антонович скосил глаза: вышел посетитель. Лицо серое, искажено болезненной гримасой. «Следующий!» Нет, не ее, не Клавин, голос. Вошел и вышел еще один посетитель и еще один… А Иван Антонович все стоял у окна. И тут вдруг он услыхал ее шаги.
Он вздрогнул, но сдержался, не обернулся. Она не узнала его – прошла в соседний кабинет, побыла там минуту-другую и вернулась обратно к себе.
Иван Антонович дождался, когда Клава закончит прием записавшихся, и только после этого вошел к ней. Она мыла руки над раковиной и о чем-то разговаривала с медсестрой, убиравшей кабинет. Увидев посетителя, Клава, как заметил Иван Антонович, недовольно повела плечами, словно хотела сказать, что на сегодня, мол, прием окончен, но вдруг, узнав его, радостно воскликнула: «А-а, Иван Антонович! Проходите, садитесь».
Он прошел, сел в кресло. И она села – напротив, на свою рабочую тумбу. Потом ей что-то потребовалось, и Клава попросила сходить за этим свою помощницу. Сестра ушла, и они, как бывало, остались вдвоем. Но она не взяла его, как бывало, за руку, а долго молча глядела на него, разглядывая и как бы сравнивая с тем, каким она знала его десять лет назад. И он смотрел на нее и сравнивал… Она мало изменилась. Совсем мало. Наконец она спросила: «Какими ж это вы судьбами?» Он рассказал, что по тем изысканиям, которые они вели тут в конце войны, теперь на Ангаре начато строительство гидроэлектростанции. Был по делам и решил разыскать ее.
Она выслушала, улыбнулась. «А я вот, видите, – сказала она, почему-то смущаясь, – изменила вам, вышла замуж». Он хотел быть вежливым, хотел сказать: «Поздравляю», но язык у него отнялся. «У меня, кроме Оли, еще двое детей». – «И кто же он?» – наконец выдавил из себя Иван Антонович. «Он? – она приподняла брови. – Он – военный, майор. В общем, хороший человек. – И, не желая обидеть его, добавила: – Но Вы тоже хороший, Иван Антонович. Я нисколько не обижаюсь на Вас».
Он порывисто взял ее руку и поцеловал.
Пальцы ее обжигали все также, как и десять лет назад.